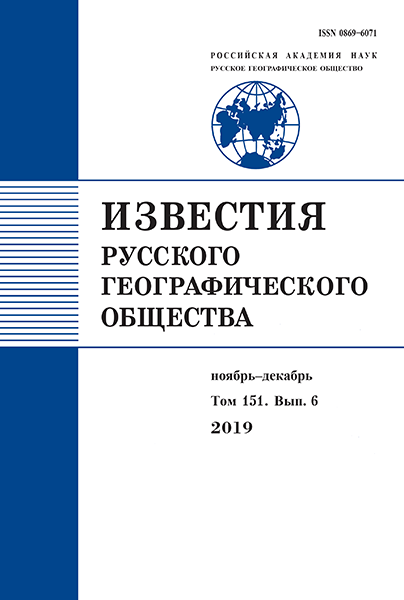Possibilities and limits of physical and mathematical interpretation in landscape science
- Authors: Tyutyunnik Y.G.1
-
Affiliations:
- Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
- Issue: Vol 151, No 6 (2019): Выпуск 6
- Pages: 94-103
- Section: Chronicles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-6071/article/view/17851
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-6071151694-103
- ID: 17851
Cite item
Full Text
Abstract
Physical reductionism and mathematical formalization in landscape science have their fundamental limitations. Reductionism is limited because it is impossible to fully explain complex phenomena and reduce them to simpler ones (this has been discussed and demonstrated in philosophical and methodological literature repeatedly). Mathematical formalizations are fundamentally limited by the irrational, emotional, symbolic aspects of human existence, which is an organic component of the landscape. This follows from the very nature of mathematical discourse in its closest to landscape and geographical form — in the form of the theory of sets. This is the basic idea of the article. Ontological and epistemological limits of physical and mathematical formalization in landscape studies do not allow to say that the latter can be fully represented and interpreted within the framework of the so-called geophysical paradigm, which is the subject of the article of V. V. Sysuev. («Izvestiya RGO», 2019, vyp. 4, p. 61—83).
Full Text
Попытки свести к строгому физико-математическому дискурсу1 ту или иную науку учащались и углублялись по мере развития, с одной стороны, физики и математики, к которым дискурс соответствующей науки сводится, с другой — самой науки, дискурс которой сводится. В последней трети ХХ в. эти попытки достигли своего апогея, в котором пребывают по сей день. Применительно к ландшафтоведению очередным тому свидетельством является статья В. В. Сысуева, опубликованная в «Известиях РГО» в разделе «Дискуссии» [10], и о положениях которой, следовательно, есть смысл подискутировать.
Физика, математика, ландшафтоведение. Прежде всего, единое «физико-математическое направление исследования структуры и функционирования ландшафтов» [10, с. 62], о котором ведет речь В. В. Сысуев, следовало бы разделить на физическое и математическое. Разделение это отчасти условно, но методически небесполезно. С одной стороны, настойчивое внедрение физических подходов в дискурс науки-не-физики — это, по существу, проявление редукционизма, согласно которому фундаментальными считаются физические законы и закономерности, а все прочие, вплоть до социальных, видятся либо производными от них, либо исчерпывающе описываемыми на языке физики [1]. С другой стороны, математика, хотя и связана теснейшим образом с физикой, все-таки в онтологическом и эпистемологическом смысле независима от нее и обладает свойствами метанауки. Методически это может означать то, что какие-то математические положения, модели, законы, открытые при осмыслении эмпирического материала, например, биологии, могут и не найти своего применения в физике.
Из приводимого В. В. Сысуевым внушительного списка исследователей, придерживающихся в ландшафтоведении «физико-математического направления» или «геофизической парадигмы», видно, что он тщательно изучил вопрос о «физико-математизации» науки о ландшафте. Эвристическая область физико-математического дискурса, к которой апеллирует В. В. Сысуев и с которой он связывает дальнейшее развитие ландшафтоведения, обширна, хотя, как видно из текста, сам автор отдает предпочтения разного рода динамическим (потоковым) и ГИС-моделям (что для современного ландшафтоведения, в какой-то мере уже и традиционно). Из перечня физико-математических моделей, которые применяются или могут быть применены для изучения ландшафта, видно, что «геофизической парадигмой» дело не исчерпывается. Можно говорить и о «геотопологической», и о «геостатистической», и о «геокибернетической» и других «гео-точно-научных» парадигмах (вопрос «только» в том, сколько же собственно геофизики в них остается…). Акцент на дистанционных методах и ГИС не сильно способствует «движению» ландшафтоведения в область «геофизической парадигмы»: по существу, проблематика уходит в картографический контекст и трансформируется в «геоиконическую парадигму».
Однако все, что предлагает автор — не выходит за рамки метода. До статуса парадигмы еще далеко. И вот почему. Если говорить о физической стороне проблемы, то «геофизическая парадигма» В. В. Сысуева разрабатывается в рамках эпистемологии редукционизма. Эпистема редукционизма имеет богатую и давнюю историю; по мере развития науки, как минимум в ХХ в., она то замирала, то возрождалась вновь и вновь. И сейчас редукционизм переживает своеобразный «ренессанс». Но процесс этот неоднозначен и сопровождается прямо противоположной тенденцией, называемой в философии науки эмерджентизмом, который, по мнению методологов, — «весьма перспективное движение и не исключено, что именно оно будет основной доминантой философии науки XXI в.» [1, с. 128].
Таким образом, методологическая ситуация с физической составляющей «физико-математического направления» в ландшафтоведении достаточно проста: речь идет о полезных и мощных методах исследования и не более того. Это не парадигма. А вот на математической стороне вопроса остановимся подобнее — она не так проста. Сформулируем нашу мысль следующим образом. С одной стороны, современная наука, безусловно, обладает мощным математическим аппаратом, наработанным на физическом, химическом, биологическом, экономическом эмпирическом материале. Он может быть эффективно адаптирован к потребностям ландшафтоведения. Но именно адаптирован: разработан-то он ведь в дискурсивном поле иных наук… С другой стороны, зададимся вопросом: а нет ли у современной математики чего-то такого, что было бы наработано на собственно ландшафтоведческом материале — в явной, или (чаще) неявной форме? То есть такого аппарата, который не надо было бы адаптировать к эпистемологическим и эвристическим особенностям ландшафтно-географического дискурса, а который находился бы с ним, образно говоря, в родственных отношениях?
Да, математика XIX—ХХ вв. разработала такой аппарат и называется он теорией множеств.[2]
Теория множеств — собственная математика ландшафтоведения? С чего начинается ландшафтоведение? С невероятного разнообразия окружающего нас мира, воспринимаемого как единство или целостность. Это-то единство разнообразия, приписывая ему «попутно» еще несколько важных свойств, как то «сложность» (точнее «сложностность», но этот термин еще не прижился), «локализованость», «иерархичность», «физиономичность» и др., и объявляют ландшафтом. Подробно объяснять это читателю-географу на страницах географического журнала особой необходимости нет, однако об одном замечательном пассаже Э. Неефа, метко названном им «Овладение разнообразием», напомнить стόит [8, с. 93—126]. Перечитывая его, невольно ловишь себя на мысли, что перед тобой — статья по теории множеств, только написанная в географических терминах. А вот что о базовых смыслах своей теории говорят сами математики (П. Вопенка): «Множества суть объекты особого рода. <…> Пусть дана какая-либо четко выделенная совокупность объектов. Если мы признаем за этой совокупностью индивидуальность, представляем ее как целостную и самостоятельную единицу, то есть объект, то мы порождаем множество; его элементами будут объекты, находящиеся в этой совокупности. <…> Совокупность объектов — это обычно несколько (часто много) объектов; лишь в исключительных случаях она может состоять из одного-единственного объекта. Напротив, множество — всегда один объект, несмотря на то, что оно может иметь хоть миллион элементов. Понятие множества отнюдь не принадлежит к числу самоочевидных и естественных понятий <…> Больцано, который ввел понятие множества, должен был приложить немало усилий, чтобы объяснить читателю, что совокупность каких-либо объектов, а тем более объектов весьма разнородных, вообще можно представлять как самостоятельную единичность или объект. Слово „множество“ (так понимаемое), по существу, надо считать неологизмом. Его введение в математический обиход является до сих пор недооцененным проявлением изощренной интуиции относительно этого понятия» [4, с. 50—51]. Все гениальное просто: совокупность объектов — тоже объект. Такова суть открытия, сделанного Б. Больцано. Позже эту мысль повторил и конкретизировал «отец» теории множеств Г. Кантор; в письме к Р. Дедекинду от 6 ноября 1882 г. он писал: «Если мы исходим из понятия определенной множественности (системы, совокупности) вещей, то мне представляется необходимым различать множественности двоякого рода (речь всегда идет об определенных множественностях). А именно множественность может обладать тем свойством, что допущение „совместного бытия“ всех элементов приводит к противоречию, так как эту множественность нельзя рассматривать как единство, как „некую завершенную вещь“. Такие множественности я называю абсолютно бесконечными или неконсистентными множественностями. Напротив, если совокупность элементов некоторой множественности можно без противоречия мыслить как совокупность „совместно существующих элементов“, так что возможно их объединение в „единую вещь“, то я называю ее консистентной совокупностью или „множеством“ (во французском и итальянском языках эти понятия подходяще выражаются словами соответственно „ensemble“ и „insieme“)» [6, с. 363—364]. Понятие целостности фигурирует также в канторовском определении множества как «объедении объектов нашей интуиции или мысли» [2, с. 326]. Кроме понятия целостности, в основу определения множества математиками (и философами математики) кладутся также такие понятия, как «элемент», «принадлежность», «вхождение», иногда «тип». Помимо собственно множеств, в более поздних вариантах теории к фундаментальным понятиям начали относить также понятия класса, еще позже — универсума и категории.
Нужно ли убеждать ландшафтоведа, что такие базовые понятия, как «целостность», «принадлежность», «элемент», «тип», суть базовые понятия и его науки, та основа, из которой рождается понятие ландшафта? Детально параллели между базовыми ландшафтоведения ландшафтоведения и теории множеств прослежены нами в [12], и они дают нам основание говорить о том, что теоретико-множественный и ландшафтно-географический дискурсы обладают внутренним родством.
Конечно, математики в большинстве случаев, излагая свои теории, манипулируют цифрами, числами, значками, символами, а ландшафтоведы предпочитают смотреть на вещи такими, как они есть. Но мало кто из математиков станет всерьез утверждать, что значки имеют абсолютную самоценность, что между вещью и именем, между телом и символом, между предметом и знаком нет корреляционной связи на глубочайших онтологических уровнях. Даже если математической формуле предоставить статус платоновской идеи — она не перестанет быть вещью, пусть и бестелесной, но, тем не менее, вещью. Открытие Больцано, положившее начало теории множеств — совокупность объектов есть объект, прямо утверждает онтологический приоритет вещи и предмета. А Кантор подчеркивал: «Под прикладной теорией множеств я понимаю то, что обычно называют учением о природе или космогонией, а значит, к ней относятся все так называемые естественные науки, связанные с неорганическим и органическим мирами» [6, с. 247]. Оставалось сказать: ландшафтоведение. Но это было невозможно, так как оно тогда только создавалось. Так же, как и теория множеств. Если период рождения ландшафтоведения очертить именами А. фон Гумбольдта и В. В. Докучаева, то мы получим временнóй интервал 1800—1890-е гг. Если период рождения теории множеств очертить первыми теоретико-множественными интенциями Б. Больцано и последними работами Г. Кантора, то мы получим почти такой же временной интервал — 1810—1890-е гг. Удивительное совпадение!
Итак, имея «собственную» математическую теорию, да еще такую мощную и продуктивную, ландшафтоведение, казалось бы, должно возрадоваться, переложить все тяготы математической формализации ландшафта не плечи своей точно-научной «сестры» и на том «успокоиться»3. Эффект, от такого союза, однако, получается куда более неожиданным, чем можно было бы предположить, и к спокойствию отнюдь не располагающим.
Бесконечность и существование. Все дело в том, что теория множеств вводит в свой методический аппарат и в дальнейшем продуктивно работает с таким понятием, как бесконечность. Бесконечность может быть актуальной — данной полностью и сразу, а потому не требующей для своей «идентификации» времени, и потенциальной — становящейся в процессе счета, который никогда не заканчивается, а значит требующей времени в статусе вечности. Игра с бесконечностью (есть даже научно-популярная книга по математике с точно таким названием [9]) и понятие трансфинитного числа (первого числа, следующего «после» бесконечного ряда натуральных чисел) создают вокруг теории множеств какую-то особенную ауру, делают ее притягательной и чуть-чуть «волшебной», намекают на то, что она соприкасается со святая святых Мироздания. Очевидно, отказываться от таких достоинств и преференций в сонме дискурсов людского познания нецелесообразно. Но с другой стороны, никаких онтологических коррелят, то есть реальных соответствий в окружающем нас мире, а значит и в ландшафте, ни актуальная, ни потенциальная бесконечности, ни трансфинитное число не имеют. На этот очевидный факт сразу же обратили внимание сами математики — и не только противники Г. Кантора вроде Л. Кронекера, но и позитивно к нему относящиеся крупные ученые вроде Д. Гилберта. Что делать математику в такой неординарной эпистемологической ситуации? Есть три пути (у каждого из них были и есть свои адепты). Первый: посыпать голову пеплом и отказаться от игры с бесконечностью. Второй: сделать вид, что ничего не произошло и игнорировать проблему (которая к тому же носит во многом онтологический характер, а пренебрегать философией в среде математиков моветоном не считается). Третий: попытаться поставить этот факт на службу теории множеств, изобретя что-то такое особенное, что «укротило» бы актуальную бесконечность, не лишая одновременно теорию множеств той прелести, которую ей сообщает сопричастность к таинству и тайне бесконечного. На третий путь, а именно он представляет для нас наибольший интерес, в 1970—1980-х гг. вступила группа чешских математиков под руководством П. Вопенки. Ими была создана так называемая альтернативная теория множеств [4]. Мы не имеем возможности в рамках статьи, к тому же в географическом журнале, детально объяснять все ее нюансировки; предельно же обобщая (может быть где-то даже утрируя), скажем так: главное в том, что в этой теории бесконечность заменяется невозможностью. Хотя в явной форме сия замена на математическом языке артикулируется не всегда, она имеет место объективно.
Для того чтобы проделать подобный «трюк», Вопенка с последователями вводят в математический аппарат теории множеств понятие горизонта — понятие философской феноменологии4. До горизонта существуют множества, которые так или иначе, тем или иным способом идентифицируются и исчисляются. А за горизонтом — горизонтом познания и рефлексии — тоже существуют множества, но помыслить их и сказать что-либо про них, а тем более проделывать над ними какие-либо эвристически что-то значащие операции мы в принципе не можем — это невозможно. И именно они уходят в бесконечность. Бесконечность не изгоняется из дискурсивного поля теории множеств, как таковой, но резко «ограничивается в правах» в его операциональной и эмпирической части, в сфере метода и методики.
Эвристически альтернативная теория множеств не менее продуктивна, чем классические и традиционные ее варианты. Но она, в отличие от своих теоретико-множественных «предшественниц», имплицитно несет одно очень важное и малоприятное для математического дискурса ограничение, условие или препятствие, имя которому — человек. Пусть это не заметно на первый взгляд, но говорить о горизонте можно только в том случае, если есть субъект, по отношению к которому этот горизонт «устанавливается». Ну, а раз появился субъект — человек, значит, появилась и экзистенция.
«Математический экзистенциализм» (выражение Г. Вейля [3, с. 67]) существует, но он принимается большинством математиков (к меньшинству относятся математики-интуиционисты — последователи Л. Э. Я. Брауэра) «через не хочу», вынужденно, в минимальной мере (например, из-за того, что экзистенциализм нельзя игнорировать, когда в той или иной области математики создается аксиоматика). В общем и целом математику интересуют сущности, а не существование. И вот это-то «существование» в лице познающего субъекта, человека, вводится в теорию! Неважно — явно или подспудно, артикулировано или молча — оно там присутствует. Это оно не может различать элементы множества, «отодвинутые» к горизонту, это оно не может перешагнуть за горизонт, это оно не может найти онтологические корреляты актуальной бесконечности и прожить вечность, чтобы досчитаться до трансфинитного числа и т. д. Зато оно обладает большой фантазией, позволяющей создавать захватывающие дух и воображение абстракции и посягать на понимание, или хотя бы ощущение, смысла Творения, являющегося как ландшафт. Это не гипербола и не метафора: слово «ландшафт» возникло, как мы неоднократно это подчеркивали, в области религиозного дискурса [12].
Пределы математической формализации. Итак, человек проник в дискурсивное поле теории множеств. Причем, в отличие от математического интуиционизма, в теорию множеств его никто не приглашал. Все произошло как-то исподволь, само собой… Что для математического мышления означает такое проникновение? А то, что он неизбежно столкнется с принципиально не формализуемыми экзиcтенциальными вещами и с совершенно чуждой и непонятной для математика символикой эмоциональных (художественных) образов. (А ведь символика — один из «китов» математики.) Столкнется и вынуждено будет не просто мирно сосуществовать, а взаимодействовать. Вот простой и всем хорошо известный пример: архитектура. Она невозможна без взаимодействия двух, казалось бы, взаимоисключающих дискурсов — точно-научного и художественного. Очевидно, без знаний в области материаловедения, сопротивления материалов, механики, оптики, акустики, начертательной геометрии ни о какой архитектуре и речи быть не может. Очевидно, что без таланта, художественного воображения, полета творческой фантазии, символического мышления ее тоже быть не может. А при сочетании сих дискурсивных антиподов мы получаем удивительную, совершенно своеобразную и жизненно необходимую сферу человеческой активности и деятельности — архитектуру; востребованную, кстати сказать, уже в первобытнообщинном обществе (менгиры, кромлехи, дольмены).
Архитектуре легко дать ландшафтную интерпретацию (в частности, воспользовавшись такими понятиями, как «архитектурный ландшафт», «ландшафтная архитектура», «градостроительное искусство»). Ранее, осмысливая экзистенциальное начало в ландшафте, привносимое туда человеком, я делал акцент на иррационально-негативных и абсурдистских сторонах его активности в нем [12]. Это была созданная А. Камю «тяжелая артиллерия», которая безапелляционно и категорически вскрывала то, сколь много в ландшафте абсурдных, не поддающихся рациональному осмыслению, а значит и исчислению, и моделированию, и проектированию, аспектов, контекстов и составляющих, которые связаны с человеком. Но сейчас нам хотелось бы сделать ударение на том, что и созидательная, творческая, позитивная ландшафтоформирующая деятельность человека содержит в себе не меньшее «количество» того, что принципиально не формализуется, что интуитивно, иррационально, эмоционально, символично и, в конечном счете, экзистенциально. Сентенцию иррационального и не формализуемого в ландшафте можно расширить и конкретизировать, интерпретируя ее в категориях гуманитарной географии. Гуманитарная наука, как было показано еще В. Дильтеем и Г. Г. Шпетом, базируется на принципиально иных способах познания, нежели науки естественные и точные. Герменевтический метод исследования, лежащий в основе гуманитарных наук, прежде всего истории, подразумевает не исчисление, моделирование, анализ, синтез и т. п., а эмоциональное, ментальное, психологическое и даже дискурсивное вживание в иную экзистенциальную ситуацию, другие жизненные условия, чуждую или отделенную во времени культуру. И это намного сложнее, чем считать, анализировать, моделировать. Герменевтический метод не поддается физико-математическим обобщениям и интерпретациям. Значит, гуманитарная (социальная, политическая, культурная, историческая, художественная, сакральная) составляющие ландшафта на уровне парадигмы («геофизической…») формализованными быть не могут5. Но их наличие и присутствие в ландшафте по «объему», «массе» и «духу» не меньшее (условно примем 50 на 50), чем всех тех его свойств, аспектов и контекстов, которые подпадают под «геофизическую парадигму» и поддаются «физико-математизации».
Вопрос о соотношении формализуемого и не формализуемого в ландшафтоведении можно было бы решить быстрее и проще — не обращаясь к высоким математическим сферам. Достаточно было бы в декларативном порядке объявить человека полно- и равноправным ландшафтным компонентом, и все то иррациональное и не формализуемое, что связано с его существованием, моментально попало бы в ландшафт и поставило бы непреодолимые заслоны для тотальной физико-математизации ландшафтоведения. Но для нас важно было пойти кружным путем: показать, что человек со всем своим экзистенциальным «грузом», хотят того математики или нет, проникает в дискурс теории множеств методически (то есть «через» метод), а далее — в физико-математический подход, как таковой, поскольку последний, по мнению многих математиков (см. сноску 2), базируется на теоретико-множественном способе мышления. А последний по целому ряду важных онтологических и гносеологических моментов когерентен и изоморфен («родствен») дискурсу ландшафтной географии. В результате человек со всем своим не формализуемым экзистенциализмом входит в ландшафт формально-математическим «путем». И здесь уже не имеет большого значения то, кем он себя в ландшафте мнит — его полно- и равноправным компонентом, либо «сторонним наблюдателем» или áктором (как говорят современные социологи). Насколько убедительной получилась схема рассуждения — судить читателю. В завершение же статьи заметим, что из нее (этой схемы) можно вывести также важные эпистемологические аргументы в пользу единой географии, географии как фундаментальной науки и ландшафтоведения как квинтэссенции и концентра всего географического дискурса. Но это уже другая тема.
Выводы. Современная наука имеет мощный математический аппарат, чтобы успешно формализовать многие стороны, аспекты ландшафтоведения. Нужно ли это делать? Нужно ли насыщать ландшафтоведение теориями, положениями, законами, выводами, моделями физико-математических, точных наук? Безусловно — да. И в таком насыщении — согласимся с В. В. Сысуевым и другими сторонниками «физико-математизации» ландшафтоведения — есть большой смысл, есть перспективы, есть потенциал, возможности важных методических прорывов и не менее важных технических решений по обустройству ландшафта. Нужно ли возводить всю эту эвристически ценную, но, в конечном счете, методическую и научно-техническую работу в ранг парадигмы ландшафтоведения или даже подменять ею собственный ландшафтно-географический дискурс? Безусловно — нет. Тому есть веская причина, кроящаяся не в желаниях или нежеланиях, вере или неверии исследователей во «всемогущество» физико-математического дискурса, а во внутренней природе самого этого дискурса и его имплицитном отношении к дискурсу ландшафтно-географическому. Если мы возьмем любую математическую теорию, разработанную за пределами ландшафтной географии, и привнесем ее в последнюю, то она будет работать только как метод — мощный, эффективный, практически очень полезный, но только как метод. Если мы обратимся к теории множеств, дискурс которой в своих онтологических основах родствен ландшафтоведческому, то рано или поздно чисто математическим путем мы придем к пределам возможностей математической формализации ландшафтно-географических способов мышления. Того, что принципиально не формализуемо и не выразимо на языке физики и математики, в ландшафте не меньше, чем того, что таким формализации и выражению доступно. Но именно органическое сосуществование в ландшафте этих двух, на первый взгляд, взаимоисключающих дискурсов, способствует тому, что ландшафтоведение, как наука, имеет особенный, неповторимый эпистемологический статус, и, будучи возведено в ранг квинтэссенции географии, могло бы способствовать ее более прочному утверждению как фундаментальной науки.
1 Понятие дискурса широко употребляется в гуманитарных науках и философии, но его трактовки не отличаются большей степенью конвенциональности и ясности. Мы будем понимать под «дискурсом» тот или иной способ (он может быть как научным, так и не научным) получения и репрезентации знаний о человеке и окружающем его мире.
2 В данном случае понятие «теория множеств» мы истолковываем расширенно, начиная от наивной (выражение самих математиков) теории множеств Больцано—Кантора и закачивая современными дериватами/расширениями (такими, например, как теория категорий). Попутно заметим, что многие математики в теории множеств видят своеобразное эпистемологическое основание всей своей науки.
3 Здесь нужно указать на один важный момент — относительно малое количество в ландшафтоведении «модельных» работ, опирающихся именно на аппарат теории множеств (как на примеры, можно указать на [5, 8, 13]). И это при том, что мы декларируем внутреннее онтологическое родство теории множеств и ландшафтной географии. В рамках данной статьи нет возможности глубоко осмыслить такое, достаточно парадоксальное, положение дел (хотя тема заслуживает пристального внимания). Выскажем только предположение, что причина сравнительно редкого обращения ландшафтоведов к аппарату теории множеств кроется, скорее всего, в неправильной расстановке акцентов в математической подготовке студентов-географов, сосредоточивающейся на функционально-динамических и вероятностно-статистических сторонах математических моделей, расчетов, интерпретаций.
4 Если быть точным, то понятие горизонта, как «возможности полной формализации», можно найти уже у Н. Бурбаки в 1958 г. [2, с. 28]. Но у них оно имеет более методический смысл. Вопенка же расширяет понятие горизонта до уровня феноменологической эпистемологии, делая его тем самым ближе к тому исходному смыслу, который придавал горизонту автор понятия — Э. Гуссерль.
5 Попытки строгой формализации исторических явлений имели и имеют место. Один из наиболее впечатляющих современных примеров представлен в [11]. Безусловно, все эти попытки имеют определенную эвристическую ценность, поскольку могут помочь понять что-то дополнительно, что-то проиллюстрировать или вычислить, что-то подсказать или уточнить (особенно в области экономических наук). Но в целом для истории они не имеют никакого методологического, а тем более парадигмального значения. Причина этого проста: редукционизм — биологический, а в крайних случаях, как в [11], и физико-математический. Как правило, он (редукционизм) авторами не акцентируется, но нет-нет — и проявится более или менее четко. Например, А. Месуди, автор одной из незаурядных новейших культурологических работ, близкой по своему духу к социал-дарвинизму, в начале своей книги «проговаривается» о том, что в основе всех его рассуждений лежит только одно из ряда возможных пониманий культуры — информационное («идеационное») [7, с. 25]. Прочие трактовки культуры и парадигмы культурологии, известные и уважаемые не меньше, чем «идеационная», с порога отбрасываются, а герменевтический метод даже объявляется «опасным» [7, с. 51]. Это и есть редукционизм в чистом виде.
About the authors
Yulian Gennadievich Tyutyunnik
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Author for correspondence.
Email: yulian.tyutyunnik@gmail.com
Доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела экомониторинга
Ukraine, KievReferences
- Borzenkow V. G. Imeetsya li buduschee u reduktsii kak osnovaniya nauchnogo znaniya? // Buduschee fundamentalʼnoi nauki: Kotseptualʼnye, filosofskie i sotsialʼnye aspekty problemy. M.: KRASAND, 2011. S. 108-131.
- Burbaki N. Teoriya mozhestw. 2-е izd. M.: Knizhnyi dom «Librokom», 2010. 456 s.
- Veilʼ G. Matematicheskoe myshlenie. M.: Nauka, 1989. 400 s.
- Vopenka P. Alʼternativnaya teoriya mnozhestv: Novyi vzglyad na beskonechnostʼ. Novosibirsk: Izdatelʼstvo Instituta matematiki, 2004. 612 s.
- Grodzynsʼkyi M. D. Piznannya landshaftu: mistse i prostir. К.: Vydavnycho-poligrafichnyi tsentr «Kyїvsʼkyi universytet», 2005. T. 1. 431 s.
- Каntor G. Trudy po teorii mnozhestv. М.: Nauka, 1985. 430 s.
- Mesudi A. Kulʼturnaya evolyutsiya. Kak teoriya Darvina mozhet prolitʼ svet na chelovecheskuyu kulʼturu i obʼedenitʼ sotsialʼnye nauki. М.: Izdatelʼskii dom «Delo», 2019. 384 s.
- Neef E. Теоreticheskie osnovy landshaftovedeniya М.: Progress, 1974. 220 s.
- Peter R. Igra s beskonechnostʼyu. Matematika dlya nematematikow. М.: Prosveschenie, 1967. 272 s.
- Sysuev V. V. Geofizicheskaya paradigma landshaftovedeniya: postulaty i kontseptsii // Izvestiya RGO. 2019. T. 151, vyp. 4. S. 61-83.
- Turchin P. Istoricheskaya dinamika: na puti k teoreticheskoi istorii. 2-е izd. М.: Izdatelʼstvo «LKI», 2010. 368 s.
- Tyutyunnik Yu. G. Landshaft i landshaftnostʼ. К.: Institut evolyutsionnoi ekologii NAN Ukrainy, 2019. 124 s.
- Cherkashin A. K. Polisistemnyi analiz i sintez. Prilozhenie v geografii. Novosibirsk: Nauka, 1997. 502 s.
Supplementary files