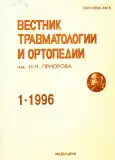Стеноз шейного отдела позвоночного канала вследствие оссификации задней продольной связки
- Авторы: Проценко А.И.1, Никурадзе В.К.1, Ключников М.А.1, Худойбердиев К.Т.1
-
Учреждения:
- Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
- Выпуск: Том 3, № 1 (1996)
- Страницы: 12-15
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 24.03.2021
- Статья одобрена: 24.03.2021
- Статья опубликована: 15.03.1996
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-8678/article/view/64062
- DOI: https://doi.org/10.17816/vto64062
- ID: 64062
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Клинический материал авторов составляют 36 наблюдений за больными со стенозом позвоночного канала, обусловленным оссификацией задней продольной связки шейного отдела позвоночника. По распространенности процесса установлено локальное поражение (1 сегмент) и сегментарное (2—3 сегмента). В клинической картине присутствовала различной степени выраженности симптоматика шейной миелопатии. Стеноз позвоночного канала диагностирован преимущественно методом компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Всем больным проведено хирургическое лечение — передняя транскорпоральная декомпрессия спинного мозга. Положительный результат получен у 34 больных: у 22 произошел полный регресс миелопатии, у 9 — частичный, у 3 пациентов прекратилось прогрессирование миелопатии. У 2 больных лечение не дало эффекта.
Полный текст
Стеноз шейного отдела позвоночного канала, обусловленный оссификацией задней продольной связки, признан как отдельная нозологическая единица сравнительно недавно. Впервые он был описан H. Tsukimoto в 1960 г. [9]. В дальнейшем это заболевание наблюдали и другие авторы [7, 8], отмечая его избирательное и преимущественное развитие у японцев.
Стеноз позвоночного канала сопровождается развитием тяжелой прогрессирующей миелопатии. Это побудило к созданию в Японии научного центра по изучению болезни Цукимото. В результате проведенных исследований в стране выявлено около 4000 больных и описаны особенности заболевания. Установлены две клинические формы поражения спинного мозга: латентная и быстро прогрессирующая. По распространенности процесса оссификации связки на основании рентгенологических исследований и компьютерной томографии выделены локальный, сегментарный, мостовидный и тотальный типы стеноза.
Исследователи подчеркивают сложность диагностики стеноза позвоночного канала при оссификации задней продольной связки. Рентгенологический метод недостаточно информативен, и заболевание выявляется преимущественно методом компьютерной томографии [3, 4, 6].
Этиология данной формы стеноза позвоночного канала не установлена, но некоторые исследователи отметили связь заболевания с наследственными факторами, нарушениями метаболизма, расовой принадлежностью. В последние годы появились сообщения о выявлении стеноза шейного отдела позвоночного канала у европейцев [1, 2, 5, 6]. Число наблюдений невелико, однако нужно подчеркнуть, что эти сообщения поступили из клиник, специализирующихся в области патологии позвоночника. Возможно, истинное число больных гораздо больше, но из-за недостаточного знакомства клиницистов с данным заболеванием оно не диагностируется.
Материал и методы. Мы располагаем наблюдениями за 36 больными с рассматриваемой формой стеноза позвоночного канала, среди которых было 30 мужчин и 6 женщин. Возраст пациентов колебался от 20 до 65 лет, но преобладали больные 40—45 лет. Из анамнеза выявлено, что 30 человек перенесли травму шейного отдела позвоночника, а у одной больной заболевание развилось после инфекционного паротита. Рентгенологическое обследование после травмы было проведено 15 больным, при этом повреждений позвоночника не зарегистрировано.
Первые признаки заболевания 22 больных отметили через 3—4 года после травмы, остальные 8 — спустя 5 лет и более. Начальный период заболевания характеризовался цервикалгией, появлявшейся после резких движений головой, шеей. Постепенно боли распространялись на одну или обе руки. Боли не носили строгой корешковой окраски, распространяясь в зонах иннервации нескольких сегментов спинного мозга.
Продолжительность периода боли составила в среднем 2 мес. Затем боли сменились сенсорными нарушениями в виде ночной дизестезии кистей и пальцев. Период сенсорных нарушений был более длительным — в среднем 2 года.
Спустя 2 года к сенсорным нарушениям присоединились двигательные, при этом у 24 больных преобладали симптомы поражения корешков, а у 10 — симптомы поражения мозга в виде нижнего спастического парапареза. У 2 больных наступило нарушение функции тазовых органов (задержка мочеиспускания).
На обзорной рентгенограмме стеноз позвоночного канала отчетливо прослеживался у 18 больных, у других 18 пациентов обзорная рентгенограмма оказалась неубедительной.
Рентгенологическая картина оссификации задней продольной связки отличается от картины классической кальцификации следующим:
1) оссификация превышает анатомические размеры связки; 2) оссификат непрерывно связан с телами позвонков; 3) отсутствуют или слабо выражены прочие рентгенологические признаки спондилеза или остеохондроза (остеофит тел позвонков, склероз замыкательных пластин позвонков и др.).
Абсолютно достоверные признаки оссификации связки и истинный поперечный размер позвоночного канала выявлены методом компьютерной томографии. Во всех случаях позвоночный канал был сужен более чем на 1/3 по сравнению с сагиттальным размером здоровых участков. По распространенности процесса установлено локальное поражение (1 сегмент) у 22 больных и сегментарное (2—3 сегмента) У 14.
Оперативное лечение было предпринято у всех больных. Поскольку оссификаты, вызывавшие стеноз позвоночного канала, локализовались в его передних отделах, мы считали оптимальным методом хирургического лечения операцию передней транскорпоральной декомпрессии. Эта операция позволяет после субтотальной резекции тела (тел) позвонков удалить оссифицированный участок задней продольной связки, восстановить размер позвоночного канала и тем самым устранить компрессию спинного мозга.
Результаты. Операция с резекцией тела 1 позвонка произведена 22 больным при локальном поражении связки, у 14 больных с сегментарным поражением резецировано по 2 позвонка. Твердую мозговую оболочку мы вскрывали у 10 больных. Признаков арахноидита при этом не выявили и в дальнейшем от вскрытия дурального мешка отказались.
Результаты хирургического лечения в целом мы расцениваем положительно. У 18 больных с локальным поражением связки отмечен полный регресс миелопатии, у 4 моторные нарушения прошли полностью, но сенсорные сохранились на дооперационном уровне. Из 14 больных с сегментарным поражением связки полный регресс миелопатии после хирургического лечения зарегистрирован у 4. У 5 пациентов наступило улучшение в двигательной сфере, но чувствительные и рефлекторные нарушения сохранились. Не отмечено улучшения в неврологическом статусе у 5 больных с сегментарным поражением связки.
В отдаленном периоде (более 1 года после операции) у больных с полным регрессом миелопатии констатирован по-прежнему хороший результат. При частичном эффекте хирургического лечения изменений в неврологическом статусе также не произошло. Из 5 больных, у которых не было отмечено эффекта от операции, у 3 удалось остановить прогрессирование миелопатии, а у 2 миелопатия по-прежнему прогрессировала.
По нашим данным, эффективность хирургического лечения находится в прямой зависимости от давности заболевания. Так, полный регресс миелопатии оказался возможным в тех случаях, когда длительность сенсорно-моторных нарушений не превышала 5 лет. При продолжительности заболевания от 5 до 10 лет получен частичный эффект. У больных с длительностью заболевания свыше 10 лет операция позволила только остановить прогрессирование миелопатии либо не дала эффекта.
В качестве иллюстрации приводим одно из наблюдений с положительным результатом лечения.
Больной К, 48 лет, шофер. Поступил с жалобами на слабость в руках, затруднения при быстрой ходьбе. 5 лет назад во время автоаварии получил гиперэкстензионную травму шейного отдела позвоночника. Через 4 года после травмы при резком движении возникла цервикалгия. В последующем боли в шее стали иррадиировать в обе руки. Боли сохранялись в течение 2 мес. По мере их стихания пациент отметил гипестезию в IV—V пальцах обеих кистей. Постепенно гипестезия распространилась до плечевых суставов. Через 5 лет после травмы к чувствительным расстройствам присоединились двигательные в виде снижения силы пальцев кисти и нарушения походки (чувство «спутанных» ног) при быстрой ходьбе. В течение последнего года неоднократно получал лечение в неврологических стационарах, которое не дало эффекта.
Больной К. со стенозом шейного отдела позвоночного канала вследствие оссификации задней продольной связки.
a — профильная рентгенограмма: признаков стеноза шейного отдела позвоночного канала не определяется; б — компьютерная томограмма до операции: созревающий оссификат задней продольной связки со стенозом позвоночного канала; в — компьютерная томограмма после операции: эффект транскорпоральной декомпрессии спинного мозга.
При поступлении в нашу клинику установлены верхний вялый парапарез со снижением силы в кистях до 3 баллов, пирамидные нарушения в виде повышенных рефлексов с нижних конечностей, клонуса стоп, повышение тонуса мышц ног и гипестезии по проводниковому типу до коленных суставов.
На профильной рентгенограмме признаков, указывающих на стеноз позвоночного канала, не выявлено (см. рисунок, а). При компьютерной томографии установлено наличие созревающего оссификата связки со стенозом позвоночного канала на 1/3 сагиттального размера от позвонка С5 до С7 (см. рисунок, б). Больному произведена операция передней декомпрессии спинного мозга с субтотальной резекцией тела С6 позвонка и иссечением оссифицированного участка задней продольной связки. Спондилодез осуществлен углеродным имплантатом в комбинации с аутотрансплантатами (см. рисунок, в).
В течение 6 мес после операции наступил полный регресс неврологических нарушений.
Заключение. Стеноз позвоночного канала вследствие оссификации задней продольной связки по клиническим и рентгенологическим признакам сходен с болезнью Цукимото. Этиологическим фактором стеноза может служить травма, сопровождающаяся повреждением задней продольной связки. Это подтверждается гиперэкстензионным характером травмы шейного отдела позвоночника, при котором высока вероятность повреждения связочного аппарата. Наше предположение о роли травмы в развитии оссификации связки со стенозом позвоночного канала имеет под собой и то основание, что известны посттравматические гетеротопические оссификаты другой локализации.
Стеноз позвоночного канала сопровождается компрессией спинного мозга, проявляющейся прогрессирующей миелопатией. Консервативное лечение данной формы миелопатии неэффективно, поскольку оно не устраняет основной патогенетический фактор — стеноз позвоночного канала. В связи с этим, по нашему убеждению, рассматриваемая патология подлежит исключительно хирургическому лечению. Собственный опыт позволяет нам сделать вывод об эффективности операции передней декомпрессии спинного мозга, которая обеспечивает надежное устранение его сдавления и в ранних случаях создает условия для регресса миелопатии. При значительной продолжительности заболевания хирургическое лечение менее эффективно, по-видимому, из-за необратимых изменений в ткани мозга. Это определяет необходимость раннего выявления стеноза позвоночного канала у больных, страдающих шейной миелопатией. Обзорная рентгенография при этом не всегда информативна, а потому следует в обязательном порядке проводить компьютерную или магнитно-резонансную томографию.
Об авторах
А. И. Проценко
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
Россия, Москва
В. К. Никурадзе
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Email: info@eco-vector.com
Россия, Москва
М. А. Ключников
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Email: info@eco-vector.com
Россия, Москва
К. Т. Худойбердиев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Email: info@eco-vector.com
Россия, Москва
Список литературы
- Курбанов Н.М., Проценко А.И., Худойбердиев К.Т. // Ортопед. травматол. — 1989. — N 7. — С. 21—24.
- Проценко А.И., Худойбердиев К.Т., Никурадзе В.К. //Опухоли и опухолеподобные дисплазии костей: Тезисы докладов Всероссийской конф. — Рязань, 1995. — С. 17.
- Abe H. et al. //J. Neurosurg. — 1981. — Vol. 55. — P. 108—116.
- Bakay L. et al. //J. Neurol. Neurosurg. Psychcat. — 1970. — Vol. 33. — P. 263—268.
- Bastin J.M. et al. //Rev. Rheumatizme. — 1980. — Vol. 5. — P. 613—620.
- Forcier P., Horsey W. //J. Neurosurg. — 1970. — Vol. 32. — P. 684—685.
- Gui L. et al. //Ital. J. Orthop. Traumatol. — 1983. — Vol. 9. — P. 269—280.
- Ono K. et al. //Spine. — 1977. — Vol. 2. — P. 126—138.
- Tsukimoto H. //Nihon-gekahonan. — 1960. — N 29.— P. 1003.
Дополнительные файлы