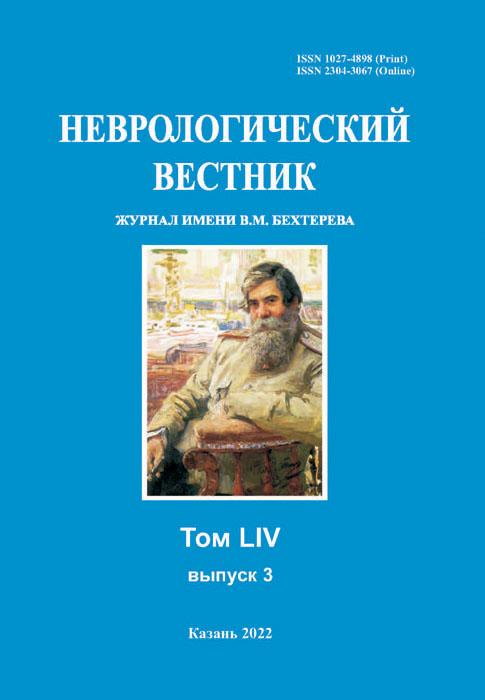МКБ-11 (психиатрический раздел): кто лучше диагностирует — тот лучше лечит?
- Авторы: Менделевич В.Д.1
-
Учреждения:
- Казанский государственный медицинский университет
- Выпуск: Том LIV, № 3 (2022)
- Страницы: 5-10
- Раздел: Передовые статьи
- Статья получена: 25.06.2022
- Статья одобрена: 21.07.2022
- Статья опубликована: 04.11.2022
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/108994
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb108994
- ID: 108994
Цитировать
Аннотация
В статье анализируются причины противостояния многих российских психиатров внедрению новой международной классификации психических и поведенческих расстройств (МКБ-11). Высказывается мнение о том, что увеличение эффективности терапии от МКБ-9 к МКБ-10 в мировой психиатрии связано не столько с переходом на синдромальную (анозологическую) оценку клинических феноменов, сколько по причине широкого применения современных психофармакологических препаратов и внедрения принципов доказательной медицины, которые в отечественной психиатрии также подвергают критике. Утверждается, что два важных аспекта психиатрии — диагностика и терапия — практически друг от друга не зависят, и весь спор о неприятии или приятии новой классификации (МКБ-11) не имеет никакого отношения к эффективности терапии.
Ключевые слова
Полный текст
Несмотря на то обстоятельство, что Всемирная организация здравоохранения приняла и утвердила новую Международную классификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) и её психиатрический раздел [1], в российском психиатрическом сообществе продолжается оживлённая дискуссия. Многим коллегам не нравятся диагностические критерии части психических и поведенческих расстройств, включённых в новую классификацию [2]. Одних не устраивает исчезновение традиционных форм шизофрении (параноидной, кататонической, гебефренической, простой), других — исключение диагностических симптомов первого ранга Курта Шнайдера для шизофрении, третьих — путаница с границами биполярного расстройства и возможность включения в его клиническую картину параноидных расстройств и галлюцинаций, четвёртых — исключение всех форм личностных расстройств (шизоидного, истерического, параноидного и др.) с ориентацией исключительно на тяжесть поведенческой патологии. Многие отечественные специалисты не согласны с тем, что из психиатрического раздела в особую рубрику перемещён транссексуализм [3].
Справедливо мнение о том, что классифицировать вещи в мире — основная познавательная тенденция человека. Естественные классы лучше всего организовывать вокруг прототипов или типичных примеров. В хорошем классе все члены должны быть однородны, и все классы должны быть отделены друг от друга чётко. К сожалению, бо́льшая часть психиатрических диагнозов не соответствует этому определению.
Большинство диагностических категорий содержит их прототипы, которые имеют типичные клинические характеристики этой категории, но, с другой стороны, есть пациенты, которые неточно соответствуют этой категории. Есть также нечёткие границы между диагностическими категориями. Нечёткие границы существуют не только между диагностическими категориями, но и между нормальными и патологическими сущностями. Большинство психических расстройств подпадает под определение синдрома в общей медицине. Каждая психиатрическая диагностическая категория включает кластер симптомов, являющийся прототипом или хорошей моделью для этого диагноза [4].
Основной упрёк отечественных психиатров в адрес новой классификации психических и поведенческих расстройств заключается в том, что, по мнению критиков, утрачивается и предаётся забвению традиционный для отечественной психиатрии клинический психопатологический подход, подменяемый психометрией. Подразумевается, что это приведёт к деградации обучения психиатрии и краху профессии. Особо указывают на то, что в рамках новых диагностических подходов будет снижаться эффективность терапии психических и поведенческих расстройств.
При этом констатируют, что «специалисты в области психического здоровья из Российской Федерации сыграли существенную роль на многих ключевых этапах разработки МКБ-11. Российские специалисты не только входили в научную группу МКБ-11, руководившую процессом полевых испытаний МКБ-11, но и тысячи российских клиницистов, работающих в различных контекстах по всей Российской Федерации, участвовали в крупномасштабной программе глобальных полевых исследований ВОЗ» [5–8].
В связи с очевидным противостоянием нововведениям, представленным в МКБ-11, высказывавшееся ранее предложение о разработке национальной классификации с ориентацией на отечественные традиции и научные взгляды [9, 10] заиграло новыми красками, и к нему предлагают ещё раз вернуться. При этом исследования показали, что сторонников МКБ-10 почти в полтора раза больше по сравнению с поддерживающими МКБ-11, а отечественную классификацию готовы поддержать всего несколько процентов российских специалистов [8].
Удивительно, что на значимость классификации для выбора оптимальной стратегии и тактики лечения указали всего 60,8% [8], то есть чуть ли не половина отечественных психиатров не считают, что диагностика и терапия причинно связаны между собой. Возможно, это связано с довольно скептическим отношением российских психиатров к доказательной медицине, лежащей в основе выбора эффективного и безопасного лечения. С другой стороны, это может быть обусловлено широкой распространённостью феномена диагностического и терапевтического релятивизма, под которым понимают позицию врача, в соответствии с которой выставление точного «нозологического» диагноза по МКБ (DSM) не является принципиальным и значимым для принятия терапевтического решения («лечим синдром») [11, 12]. Значимыми оказываются определение уровня психопатологического синдрома/феномена и наличие субъективного запроса пациента.
Таким образом, дискуссия о новой МКБ как о классификации, ломающей традиционные нозологические устои, — это не дискуссия о выработке обоснованных подходов к терапии. Учитывая тот факт, что нозологический принцип диагностики, предполагавший выработку этиопатогенетических подходов к терапии, был отвергнут современной психиатрией ещё при принятии МКБ-10 в 1994 г., нынешнее противостояние новой классификации выглядит как оторванное от клинической практики. Тем более что в условиях МКБ-9, которую многие отечественные психиатры считают наиболее обоснованной, фактически не существовало этиопатогенетической психофармакотерапии, поскольку этот процесс при большинстве психических заболеваний (расстройств) так и не был обнаружен и доказан.
Если сравнить эффективность терапии психических и поведенческих расстройств в условиях МКБ-9 и МКБ-10, то можно предполагать, что она увеличилась. Однако не столько в связи с переходом на синдромальную (анозологическую) оценку клинических феноменов, сколько по причине внедрения и широкого применения современных психофармакологических препаратов — антидепрессантов, атипичных антипсихотиков и прочих — и принципов доказательной медицины. Получается, что два важных аспекта психиатрии — диагностика и терапия — практически друг от друга не зависят, и весь спор о неприятии или приятии новой классификации МКБ-11 не имеет никакого отношения к эффективности терапии. Исключение составляют деменция, биполярное аффективное расстройство и расстройства аутистического спектра, при которых анализ состояния выходит за рамки обычной психопатологической симптоматологии.
Сегодня активнейшим образом пересматривают критерии оценки эффективности лечения психических и поведенческих расстройств, предлагают перейти от понятий излечения, ремиссии к понятиям клинического выздоровления, симптоматической и функциональной ремиссии и даже «личного выздоровления» [13]. Всё больше сторонников, в частности при шизофрении, обретает концепция recovery — личностно-социального восстановления, под которым понимают восстановление у пациента:
а) личностно значимой и удовлетворительной жизни;
б) реальной возможности принимать собственные решения в отношении жизненных целей и лечения;
в) надежды на будущее;
г) чувств целостности, благополучия и самоуважения [14].
Перечисленные характеристики практически не связаны с установлением конкретного психи-атрического диагноза в соответствии с какой бы то ни было классификацией.
Таким образом, приходится констатировать, что тот, кто лучше диагностирует психические и поведенческие расстройства, — вовсе не обязательно лучше (эффективнее) лечит [15]. Однако всё же тот, кто достигает бо́льших результатов в терапии пациентов с психической и поведенческой патологией, несомненно, является более квалифицированным диагностом.
В данном контексте речь идёт не о нозологической диагностике (которой давно и не существует), а об умении точно определять психопатологический синдром и мишень терапии. На подобный парадокс обратил внимание С.Н. Мосолов в докладе «Проблемы классификации психотических расстройств: конфликт диагностики и терапии» [16], отметив, что несовершенство систематики биполярного аффективного расстройства и шизофрении напрямую отражается на терапии психических расстройств.
Конфликт диагностики и терапии в МКБ-11 распространяется не только на психофармакотерапевтический, но и на психотерапевтический процесс. В нынешних реалиях эффективный клинический психотерапевт или психолог — это не тот, кто выбирает метод на основании собственных приоритетов, компетенций и пристрастий (психоаналитик, гештальт-терапевт, КПТ-терапевт1 и гипнолог), а тот, кто также способен выйти за рамки практикуемого им метода, чётко определять психопатологические мишени и выбирать из арсенала психотерапии конкретный подход, подтвердивший свою эффективность на основании доказательных исследований [17].
С нашей точки зрения, к любой психиатрической классификации на настоящем этапе развития науки необходимо подходить скептически. До тех пор, пока не будут обнаружены доказательства значимости нарушений конкретных мозговых или личностных механизмов формирования той или иной психопатологии, любая классификация будет выполнять вспомогательную роль и не сможет определять этиопатогенетический выбор стратегии и тактики терапии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Funding. This publication was not supported by any external sources of funding.
Conflict of interests. The author declare no conflicts of interests.
1 КПТ — когнитивно-поведенческая терапия
Об авторах
Владимир Давыдович Менделевич
Казанский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: mendelevich_vl@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8489-3130
SPIN-код: 2302-2590
Scopus Author ID: 6602765981
докт. мед. наук, проф., зав. каф., каф. психиатрии и медицинской психологии
Россия, КазаньСписок литературы
- ICD-11. International Classification of Diseases 11th Revision. https://icd.who.int/en (access date: 25.06.2022).
- Макушкин Е.В., Осколкова С.Н., Фастовцев Г.А. Психиатрия будущего: многоаспектность проблем современной психиатрии и разработка новых классификационных систем // Журнал неврологии и психиатрии. 2017. №8. С. 118–123. doi: 10.17116/jnevro201711781118-123.
- Дьяченко А.В., Солдаткин В.А., Бухановская О.А., Перехов А.Я. Расстройства половой идентификации у детей и подростков в психиатрической практике // Социальная и клиническая психиатрия. 2021. №2. С. 69–78.
- Western D. Prototype diagnosis of psychiatric syndromes // World Psychiatry. 2012. Vol. 11. N. 1. Р. 16–21. doi: 10.1016/j.wpsyc.2012.01.004.
- Krasnov V.N. ICD-11 as a paradigm shift phase in the classification of mental disorders // Consortium Psychiatricum. 2021. Vol. 2. N. 2. Р. 72–75. doi: 10.17816/CP70.
- Рид Дж.М., Краснов В.Н., Кулыгина М.А. Подготовка МКБ-11: основные задачи, принципы и этапы пересмотра классификации психических и поведенческих расстройств // Социальная и клиническая психиатрия. 2013. Т. 23. №4. С. 56–61.
- Rebello T.J., Kulygina M.A., Krasnov V.N. et al. Engagement of Russian mental health professionals in the development of WHO’s ICD-11 // Consortium Psychiatricum. 2021. Vol. 2. N. 2. P. 17–21. doi: 10.17816/CP79.
- Kulygina M.A., Syunyakov T.S., Fedotov I.A., Kostyuk G.P. Toward ICD-11 implementation: Attitudes and expectations of the Russian Psychiatric Community // Consortium Psychiatricum. 2021. Т. 2. №2. С. 23–34. doi: 10.17816/CP80.
- Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. О целесообразности перехода к национальной классификации психических заболеваний для использования в педагогической работе и при проведении научных исследований (проект) // Психиатрия и психофармакотерапия. 2011. №2. С. 8–9.
- Остроглазов В.Г. О проекте национальной классификации психических болезней Б.Д. Цыганкова — С.А. Овсянникова // Психиатрия и психофармакотерапия. 2012. №2. С. 61–66.
- Türkçapar M.H. How will DSM 5 and ICD-11 affect the treatment guidelines? // Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2012. Vol. 22. N. 1. P. 5.
- Менделевич В.Д., Пыркова К.В. Психофармакотерапия здоровых и проблема off-label в современной психиатрии // Неврологический вестник. 2020. №1. С. 5–8. doi: 10.17816/nb19090.
- Yu Yu., Zhou W., Shen M. et al. Clinical and personal recovery for people with schizophrenia in China: prevalence and predictors // J. Ment. Health. 2022. Vol. 31. N. 2. Р. 263–272. doi: 10.1080/09638237.2021.2022635.
- Liberman R.B. Recovery from schizophrenia: form follows functioning // World psychiatry. 2012. Vol. 11. N. 3. P. 161–162. doi: 10.1002/j.2051-5545.2012.tb00118.x.
- Менделевич В.Д. Что даёт пациенту психиатрический диагноз и обоснован ли тренд на увеличение числа болезней? // Неврологический вестник. 2019. №1. С. 52–54. doi: 10.17816/nb13560.
- Потапов И.В., Кузин Ю.А. О конференции «Международная классификация психических расстройств: от МКБ-10 к МКБ-11» // Психиатрия и психофармакотерапия. 2014. №2. С. 69–70.
- Менделевич В.Д. Доказательная психотерапия: между возможным и необходимым // Неврологический вестник. 2019. №2. С. 4–11. doi: 10.17816/nb15656.
Дополнительные файлы