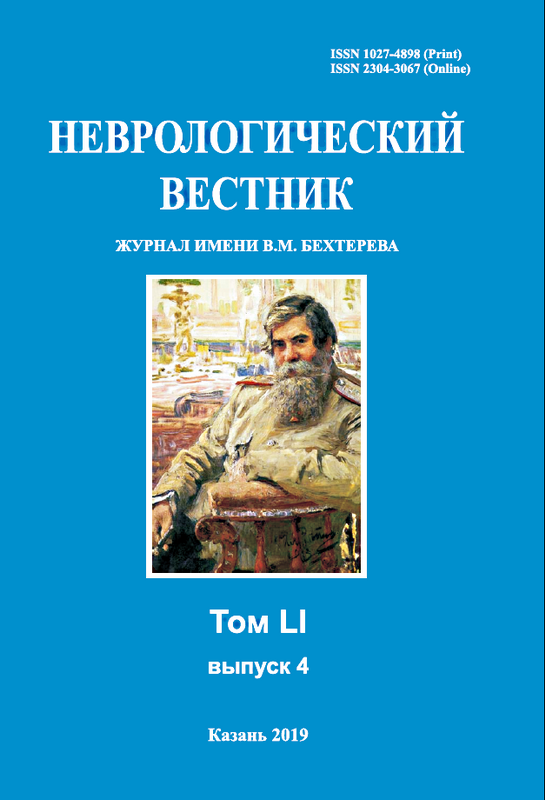Субъективное здоровье в поле проблем психологии и психиатрии
- Авторы: Лебедева А.А.1, Костенко В.Ю.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том LI, № 4 (2019)
- Страницы: 98-101
- Раздел: Клинические рекомендации
- Статья получена: 16.10.2019
- Статья одобрена: 15.11.2019
- Статья опубликована: 11.02.2020
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/16464
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb16464
- ID: 16464
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Субъективное здоровье — самооценка своего состояния и мера здоровья — категория, которая зарекомендовала себя в исследованиях как предиктор смертности и объективного здоровья. Данный показатель наиболее широко используют самые разные дисциплины в контексте изучения качества жизни и здоровья. Наряду с этим конкретное содержание данного конструкта всё ещё остаётся под вопросом и выступает предметом научных дискуссий. В психиатрии субъективное понимание здоровья сводится к представлениям о психическом заболевании, его развитии и протекании. Существуют данные о культурно-специфичном понимании здоровья представителями разных национальностей. В статье поставлена проблема влияния психиатрического диагноза на самооценку здоровья в целом.
Полный текст
Актуальность исследования
Субъективное здоровье — наиболее широко используемый показатель состояния здоровья, особенно когда речь идёт о медицинских социологических исследованиях и масштабных индексах. Этот показатель легко получить, потому что он состоит из одного простого вопроса, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «Как Вы оцениваете своё здоровье в целом?» Устоялось мнение, что в использовании многоэлементных шкал нет необходимости, достаточно одного вопроса [1]. На протяжении уже нескольких десятилетий эмпирических исследований этот единственный вопрос неизменно демонстрирует связи с объективными показателями качества жизни и здоровья [2], а также со смертностью [3].
Простой вопрос, однако, способен породить целый ряд методических и теоретических проблем: авторы детальных исследований сообщают о том, что люди по-разному интерпретируют данный вопрос, а ответ на него может зависеть от социально-экономического положения, пола или возраста [4–6], а также от прошлых и имеющихся заболеваний [3]. Кроме того, исследования показывают, что индивидуальные интерпретации субъективного здоровья, оценённого таким образом, сильно варьируют и состоят, по меньшей мере, из двух стадий:
– на первой стадии самооценки человек склонен ориентироваться на те критерии и компоненты, которые наиболее актуальны для него в настоящий момент (здесь оценка будет зависеть от культурного и социально-демографического контекста);
– на второй стадии здоровье оценивают в сравнении с другими людьми (на этой стадии оказывают влияние мнения референтных групп, а также собственное психическое состояние) [3].
Таким образом, с одной стороны субъективное здоровье — зарекомендовавшая себя в целом ряде глобальных исследований сводная мера различных аспектов здоровья, а с другой стороны, конкретное содержание данного конструкта всё ещё остаётся под вопросом. Иными словами, имплицитное содержание концепта субъективного здоровья выступает предметом научных дискуссий за рубежом и требует проведения новых исследований.
В контексте психиатрии тема субъективного здоровья звучит более узко. Так, к примеру, в научном дискурсе психиатрии субъективные представления о здоровье сводятся к представлениям о патогенезе, ходе и вариантах лечения психических, а также соматических заболеваний. Исследователи говорят о том, что понимание психического здоровья во многом обусловлено социокультурным опытом пациентов. Так, пакистанцы чаще объясняют причины психических расстройств религиозными убеждениями, а объяснения австрийцев обычно соответствуют биопсихосоциальным концептам западной медицины [7]. Более того, исследователи обсуждают, что субъективная оценка здоровья подвержена искажениям, связанным с индивидуальным восприятием, которые необходимо учитывать исследователям и практикам [8]. В связи с этим субъективная оценка здоровья представляет собой крайне недифференцированное поле, на котором встречаются представители разных наук, каждая из которых выделяет в широком понятии здоровья свой собственный предмет.
Таким образом, изучение конструкта субъективного здоровья и разработка его дифференциальной модели представляются актуальной задачей научной психологии как в России, так и за рубежом.
История понятия субъективного здоровья
В клинических исследованиях качества жизни, связанного со здоровьем, субъективные измерения обычно используют для оценки состояния пациента после лечения и служат мерой эффективности реабилитационных процедур [9]. Самооценка состояния здоровья (Self-assessed Health Status) — показатель того, как человек оценивает своё здоровье (например, как отличное / очень хорошее / хорошее / удовлетворительное или плохое). Принятая ВОЗ, эта субъективная мера здоровья входит в различные индексы оценки здоровья как показатель, хорошо себя зарекомендовавший. Интерес к самооценке здоровья возрастает с конца 1990-х годов в связи с тем, что этот показатель в целом ряде исследований предсказывал смертность лучше, чем текущее объективное состояние здоровья [10–13].
Авторы более современных академических исследований всё чаще обращаются к понятию субъективного здоровья (Subjective Health), под которым понимают индивидуальное ощущение собственного здоровья в данный момент времени [14]. Как правило, термины «субъективное здоровье» и «самооценка здоровья» используют как синонимы. Появление же дискурса субъективного здоровья связывают с изменениями в традиционном понимании здравоохранения и медицинских услуг.
Кардинальные изменения в паттернах болезни и здоровья привели к тому, что вопросы о том, является человек больным или здоровым, постепенно обособляются от объективных показателей и всё чаще отдаются на откуп субъективному восприятию человеком своих симптомов как требующих или не требующих профессионального внимания. К примеру, некоторые пожилые люди при наличии патологических процессов в организме считают себя здоровыми и приписывают проблемы с самочувствием наступающей старости. В связи с этим субъективные оценки здоровья стали центральной переменной геронтологических исследований [15, 16]. Таким образом, наука столкнулась с концептуальными трудностями определения здоровья как на индивидуальном уровне, так и на уровне населения, поскольку появилось множество факторов превращения «не больного» человека в «больного», и наоборот [17].
К особой области исследований относятся работы, объединяющие понятия субъективного здоровья и субъективного благополучия. Наиболее признан подход, включающий субъективное здоровье в структуру субъективного благополучия. Вместе с тем, как отмечает Э. Динер, множество политических решений всё ещё опирается на другие индикаторы здоровья, такие как продолжительность жизни, уровень смертности, заболеваемость и другие, а самооценку здоровья игнорируют и исключают из повестки дня государственной политики в области здравоохранения [18]. На практике решения, основанные только на «объективных» показателях, могут противоречить реальным потребностям и ожиданиям населения.
Однако само понимание субъективного здоровья, по всей видимости, развивается несущественно и, несмотря на многочисленные эмпирические исследования, проведённые за последние 20 лет, не удаётся обнаружить явного концептуального прироста в данной области. Так, теории, объясняющие качество взаимоотношений между субъективным благополучием и здоровьем, как правило, сводятся к следующему: оценка жизненных обстоятельств зависит от уровня удовлетворённости потребностей, который варьирует у отдельных людей и социальных групп [19]. Такой подход критикуют как чрезмерно гедонистический.
Довольно мало исследований, которые бы критиковали традиционные способы оценки субъективного здоровья и рассуждали о том, что за этой оценкой может стоять какой-либо другой признак, предсказывающий физическое функционирование [20]. Таким образом, современные исследования субъективного здоровья, как правило, выполняются в той или иной традиции и недостаточно задаются вопросами о внутреннем содержании того субъективного измерения, которое стоит за обыденным пониманием здоровья.
Постановка проблемы изучения
субъективного здоровья
Исследования субъективного здоровья принадлежат, как правило, полю исследований субъективных и объективных социальных индикаторов и конкретизируются в области качества жизни, связанного со здоровьем. Такая медико-социальная традиция исследования здоровья позволила накопить большой объём материалов исследований субъективных оценок здоровья, однако психологического осмысления эти оценки, как правило, не получают, поскольку исследования выполняют в русле других исследовательских вопросов
и/или в предметном поле других дисциплин.
Психологическому полю достаётся скорее вопрос о субъективном благополучии, к которому во многом и сводится понимание психического здоровья. Известное определение ВОЗ гласит: «Психическое здоровье — состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в своё сообщество».
Более глубокое изучение в области психологии здоровья традиционно укоренено в области клинической психологии, особенно в русле отечественной традиции. Так, довольно глубоко изучено понятие внутренней картины болезни, куда А.Р. Лурия включал, в том числе, и все переживания больного о своём здоровье — самочувствие, самонаблюдение [21]. А.Ш. Тхостов и Г.А. Арина, развивая взгляды В.В. Николаевой, уделяют значительное внимание личностному смыслу болезни, приводя в пример смыслы преграды и ограничения [22]. Смысловому содержанию болезни посвящает свои размышления и Б.С. Братусь, говоря о методологии изучения личностных аномалий [23]. Е.Т. Соколова анализирует некоторые феномены искажения самовосприятия при психических расстройствах [24]. Эти и другие накопленные фундаментальные научные результаты, полученные в традиции культурно-исторического и деятельностного подходов, несут в себе большой методологический потенциал для психологии здоровья.
Вопрос о смысле болезни, тем не менее, не снимает вопроса о смысле здоровья и никоим образом его не дублирует. Эти феномены взаимно дополняют друг друга, и продвижение в анализе болезни даёт пищу для размышлений о здоровье, задаёт в адрес последнего новые исследовательские вопросы.
Мы предлагаем начать этот долгий путь исследования глубинных смыслов здоровья с того, что помещаем в фокус нашего внимания один из вариантов операционализации многообразной феноменологии внутренней картины здоровья — понятие субъективного здоровья.
«Субъективность есть факт объективной реальности, она входит в состав реальных жизненных процессов человека», и это даёт основание вслед за В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым говорить о том, что «субъективное само и есть объективное» [25]. Такому заявлению вторят многочисленные эмпирические факты, засвидетельствовавшие связь между переменной субъективного здоровья и множеством объективных показателей, в числе которых центральное место занимает смертность.
Понимание субъективного здоровья, принятое ВОЗ, заключено и фактически сводится к одному единственному вопросу к респонденту о том, как он оценивает своё здоровье в целом. Данная мера, действительно, хорошо себя показала в исследованиях, однако остаётся неясно, что стоит за этой оценкой: каково содержание имплицитного представления о здоровье? О каком здоровье в действительности говорит тот или другой респондент, отвечая на подобный вопрос: о физическом, психическом, психологическом или духовном?
Продолжая размышлять о здоровье в традиции так называемой клинической общей психологии, предложенной Б.С. Братусем, мы можем опереться на концепцию многоуровневой структуры психического здоровья [26]. Согласно данному пониманию, здоровье складывается из относительно независимых уровней регуляции: (1) физиологического (базового), (2) индивидуально-психологического, (3) личностно-смыслового (или духовного). Таким образом, мы предполагаем, что понятие субъективного здоровья может включать все эти измерения. Кроме того, аналогичные сферы субъективного здоровья были выделены нами в рамках пилотажного качественного исследования. Данные, полученные в ходе исследования, позволили предположить наличие минимум трёх измерений субъективного здоровья: физическое здоровье, психологическое здоровье и духовное здоровье (результаты были представлены на международной конференции [27]).
Мы считаем, что текущий вызов, с которым сталкивается исследователь субъективного здоровья, — определиться с содержанием понятия. Одним из выходов из положения размытого понимания субъективного здоровья может стать обоснование нескольких его уровней путём использования разных мишеней, то есть разных вопросов о здоровье респондента. Это может уточнить исследуемый концепт, а также проверить его связи с переменными, отражающими феномены соответствующего уровня. К примеру, физиологический уровень может быть представлен объективными или максимально объективированными мерами здоровья (например, группа здоровья, показатели функционального развития организма, число обращений к врачу за период и др.). Психический уровень может быть представлен мерами стресса, депрессии и прочих клинических феноменов, которые используют в диагностике психических заболеваний.
Учитывая современные подходы к здоровью, а также результаты пилотажного качественного исследования, мы предлагаем разбить личностно-смысловой уровень на два измерения — психологическое и духовное. Понятие психологического здоровья опирается на вполне определённые традиции изучения (Яхода М. [28], Рифф К. [29] и др.) и имеет множество переменных для операционализации (субъективное благополучие, удовлетворённость жизнью, счастье, психологическое благополучие, субъективное качество жизни и т.п.). Оценка духовного здоровья может включать инструменты, измеряющие духовные и экзистенциальные феномены, такие как самотрансценденция, духовный смысл, внешняя и внутренняя религиозность и др.
ВЫВОДЫ
- Таким образом, для науки остаётся неочевидным внутреннее содержание феномена субъективного здоровья, а также не прояснены вопросы о том, насколько объективно субъективное здоровье (как оно соотносится с реальным состоянием, объективным здоровьем); о каких аспектах здоровья мы можем получить ответ, когда задаём вопросы о субъективном здоровье; наконец, как субъективные представления о здоровье связаны с психологическими переменными качества жизни и благополучия?
- Помещая проблему субъективного здоровья в поле психиатрических расстройств, мы сталкиваемся с ещё большей неопределённостью. Здесь остаётся неясным, к чему обращён вопрос о субъективном здоровье для человека с психиатрическим диагнозом.
- Исходя из вышеизложенного, мы можем предположить, что, отвечая на вопрос ВОЗ о здоровье, человек ориентируется на некую имплицитную концепцию здоровья. При этом знание диагноза может определять его представления о здоровье. Он может считать себя больным и приравнивать вопрос о здоровье к вопросу о психическом здоровье, а может считать себя всё же здоровым, хотя и страдающим в определённой мере дисфункциональными состояниями, — и тогда вопрос о субъективном здоровье будет направлен к другой, более сохранной мишени (физической, психологической или духовной). Мы можем также предположить, что высокий уровень субъективного здоровья в случае человека с психиатрическим диагнозом будет способствовать более качественному функционированию и более устойчивым ремиссиям.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 18-18-00480 «Субъективные индикаторы и психологические предикторы качества жизни».
Об авторах
Анна Александровна Лебедева
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: anna.alex.lebedeva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5919-5338
SPIN-код: 4913-6506
Scopus Author ID: 57194632184
ResearcherId: I-3922-2015
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации
Россия, 109074, Москва, Славянская пл., 4, стр. 2, каб. 206Василий Юрьевич Костенко
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Email: vasily.kostenko@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5612-3857
SPIN-код: 4284-5461
Scopus Author ID: 57191710196
ResearcherId: K-9724-2015
https://www.hse.ru/staff/vasily.kostenko
кандидат психологических наук, научный сотрудник, Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации
Россия, 109074, Москва, Славянская пл., 4, стр. 2, каб. 206Список литературы
- Bowling A. Just one question: If one question works, why ask several? J. Epidemiol. Commun. Health. 2005; 59 (5): 342–345.
- Chaparro M.P., Hughes A., Kumari M., Benzeval M. The association between self-rated health and underlying biomarker levels is modified by age, gender, and household income: Evidence from Understanding Society — The UK Household Longitudinal Study. SSM — Population Health. 2019; 8: 100406. doi: 10.1016/j.ssmph.2019.100406.
- Jylhä M. What is self-rated health and why does it predict mortality? Towards a unified conceptual model. Soc. Sci. Med. 2009; 69: 307–316. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.05.013.
- Dowd J.B., Zajacova A. Does self-rated health mean the same thing across socioeconomic groups? Evidence from biomarker data. Ann. Epidemiol. 2010; 20 (10): 743–749.
- Shooshtari S., Menec V., Tate R. Comparing predictors of positive and negative self-rated health between younger (25–54) and older (55+) Canadian adults: A longitudinal study of well-being. Res. Aging. 2007; 29 (6): 512–554.
- Benyamini Y., Leventhal E.A., Leventhal H. Gender differences in processing information for making self-assessments of health. Psychosomatic Med. 2000; 62 (3): 354–364.
- Ritter K., Chaudhry H.R., Aigner M. et al. Mental health beliefs between culture and subjective illness experience. Neuropsychiatry. 2010; 24 (1): 33–41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20146918 (access date: 01.12.2019).
- Герри К.Д., Байдин B.М. Источники искажений в самооценке здоровья. Фармакоэкономика. Соврем. фармакоэконом. и фармакоэпидемиол. 2017; 10 (4): 31–36. [Gerry C.J., Baydin V.M. Sources of bias in self-assessed health. Farmakoekonomika. Modern Pharmacoeconomic and Pharmacoepidemiology. 2017; 10 (4): 31–36. (In Russ., аbstr. in Engl.)] doi: 10.17749/2070-4909.2017.10.4.031-036.
- Лебедева А.А. Теоретические подходы и методологические проблемы изучения качества жизни в науках о человеке. Психология. Ж. ВШЭ. 2012; 9 (2): 3–19. https://psy-journal.hse.ru/en/2012-9-2/53395722.html (дата обращения: 01.12.2019) [Lebedeva A.A. Theoretical approaches and methodological issues of life quality research in human sciences. Psychology. Journal of Higher School of Economics. 2012; 9 (2): 3–19. https://psy-journal.hse.ru/en/2012-9-2/53395722.html (access date: 01.12.2019). (In Russ., аbstr. in Engl.).]
- Mossey J.M., Shapiro E. Self-rated health: A predictor of mortality among the elderly. Am. J. Public Health. 1982; 72 (8): 800–808.
- Idler E.L., Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J. Health Soc. Behav. 1997; 38 (1): 21–37.
- Müters S., Lampert T., Maschewsky-Schneider U. Subjektive Gesundheit als Prädiktor für Mortalität. (Subjective health as predictor for mortality.) Das Gesundheitswesen. (The Health.) 2005; 67 (2): 129–136. (In Germ., аbstr. in Engl.)] doi: 10.1055/s-2005-857886.
- Hirve S., Juvekar S., Sambhudas S. et al. Does self-rated health predict death in adults aged 50 years and above in India? Evidence from a rural population under health and demographic surveillance. Intern. J. Epidemiol. 2012; 41 (6): 1719–1728.
- Johnston D.W., Propper C., Shields M.A. Comparing subjective and objective measures of health: Evidence from hypertension for the income. J. Health Econom. 2009; 28 (3): 540–552.
- Cutler S.J., Grams A.E. Correlates of self-reported everyday memory problems. J. Gerontol. 1988; 43 (3): 82–90.
- Menec V.H., Chipperfield J.G. The interactive effect of perceived control and functional status on health and mortality among young-old and old-old adults. J. Gerontol. Series B: Psychol. Sci. Soc. Sci. 1997; 52 (3): 118–126.
- Hunt S.M., McEwen J. The development of a subjective health indicator. Sociol. Health & Illness. 1980; 2 (3): 231–246.
- Diener E., Lucas R., Schimmack U., Helliwell J. Well-being for public policy. Oxford: Oxford University Press. 2009; 254 р. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195334074.001.0001.
- Gataūlinas A., Banceviča M. Subjective health and subjective well-being (the case of EU countries). Adv. Applied Sociol. 2014; 4 (9): 212.
- Werntz A.J., Green J.S., Teachman B.A. Implicit health associations across the adult lifespan: [Electronic resource]. Psychology & Health. 2017. http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2017.1341514 (access date: 01.12.2019).
- Лурия А.Р. Внутренняя картина болезней и ятрогенные заболевания. 4-е изд. М.: Медицина. 1977; 112 с. [Luriya A.R. Vnutrennyaya kartina bolezney i yatrogennye zabolevaniya. (The intrinsic picture of illness and iatrogenic diseases.) 4th ed. Moscow: Meditsina. 1977; 112 р. (In Russ.)]
- Тхостов А.Ш. Психология телесности. М.: Смысл. 2002; 287 с. [Tkhostov A.S. Psikhologiya telesnosti. (Psychology of physicality.) Moscow: Smysl. 2002; 287 р. (In Russ.)]
- Братусь Б.С. Аномалии личности. Психологический подход. М.: Никея. 2019; 912 с. [Bratusʹ B.S. Anomalii lichnosti. Psikhologicheskiy podkhod. (Personality abnormalities. Psychological approach.) Moscow: Nikeya. 2019; 912 р. (In Russ.)]
- Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М.: Изд-во МГУ 1989; 210 с. [Sokolova E.T. Samosoznanie i samootsenka pri anomaliyakh lichnosti. (Self-awareness and self-esteem of personality anomalies.) Moscow: Moscow State University Publ. 1989; 210 p. (In Russ.)]
- Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: введение в психологию субъективности. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, 2013; 51 с. [Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Psikhologiya cheloveka: vvedenie v psikhologiyu subʺektivnosti. (Human psychology: an introduction to psychology of subjectivity.) 2nd ed. Moscow: St. Tikhon’s Orthodox University publ. 2013; 51 p. (In Russ.)]
- Братусь Б.С., Розовский И.Я., Цапкин В.Н. Психологические проблемы изучения и коррекции аномалий личности. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во МГУ. 1988; 86 с. [Bratusʹ B.S., Rozovskiy I.Ya., Tsapkin V.N. Psikhologicheskie problemy izucheniya i korrektsii anomaliy lichnosti. (Psychological problems of studying and correction of personality anomalies.) Uchebno-metodicheskoe posobie. Moscow: Moscow State University publ. 1988; 86 p. (In Russ.)]
- Lebedeva A.A., Kostenko V.Yu. Subjective health: The implicit theory and links to personality resources. Proceedings of the international conference “Psychological problems. Characteristics, classification and diagnostic principles”. April 2–23, 2019. Yerevan, Armenia. Publishing house “Limush”. 2019: 451–452.
- Jahoda M. Current concepts of positive mental health. New York: Basic Books. 1958; 136 p.
- Ryff C.D., Singer B. The contours of positive human health. Psychol. Inquiry. 1998; 9: 1–28.
Дополнительные файлы