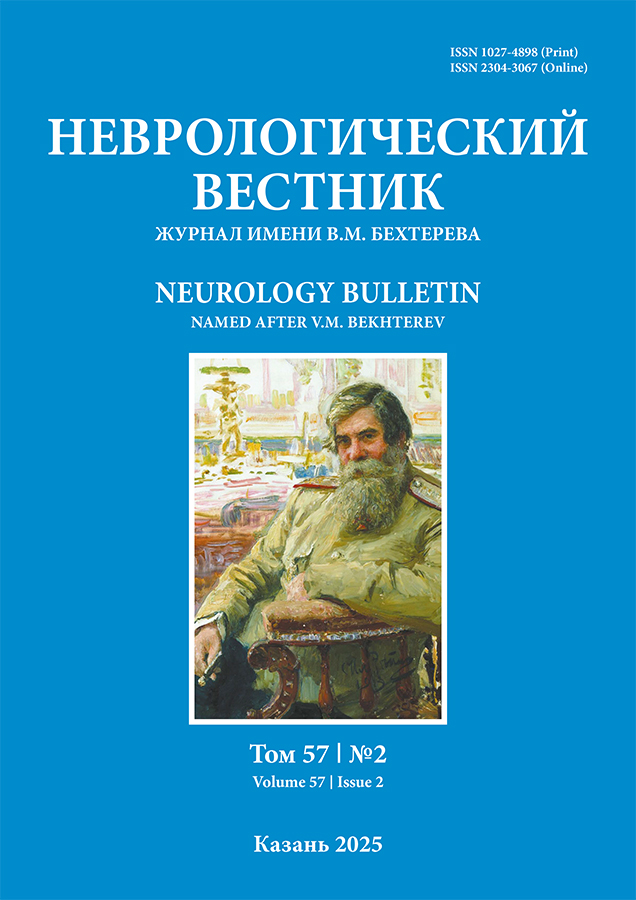Несуицидальное самоповреждающее поведение у девушек-подростков: клинико-социальные и поведенческие характеристики
- Авторы: Дарьин Е.В.1, Король И.С.1, Бойко Е.О.2, Зайцева О.Г.2, Соколова Е.Н.1
-
Учреждения:
- Специализированная психоневрологическая больница
- Кубанский государственный медицинский университет
- Выпуск: Том LVII, № 2 (2025)
- Страницы: 113-123
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 24.01.2025
- Статья одобрена: 03.03.2025
- Статья опубликована: 14.06.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/646625
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb646625
- EDN: https://elibrary.ru/GZVHRC
- ID: 646625
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Несмотря на растущую распространённость несуицидального самоповреждающего поведения (NSSI) среди подростков, особенно девушек, клинико-социальные особенности, предикторы и психологические характеристики остаются недостаточно изученными.
Цель. Анализ клинико-социальных, поведенческих и психологических факторов, связанных с NSSI.
Материалы и методы. В рамках двухлетнего наблюдательного исследования (01.09.2022–01.09.2024) обследовано 186 девушек-подростков, госпитализированных в специализированное психиатрическое учреждение с подтверждёнными эпизодами NSSI. Оценивали социально-демографические (возраст, место жительства, стиль воспитания), клинические (нозологическая структура по МКБ-10, психиатрический анамнез) и поведенческие (локализация и частота эпизодов) характеристики. Психологические параметры оценивали по шкале депрессии М. Ковач, матрицам Равена, шкале оценки суицидального риска и индивидуально-типологическому опроснику.
Результаты. Первый эпизод NSSI чаще всего происходил в возрасте 13–14 лет (38,2%). Высокий уровень депрессии (медиана — 64 балла) ассоциировался с межличностными проблемами и низкой самооценкой. Поведенческие аспекты включали доминирующую локализацию повреждений на предплечьях (81,18%) и склонность к совершению эпизодов дома (83,9%). Суицидальный риск выявлен у 25,8% участниц, значительное число подростков демонстрировало эмоциональную дисрегуляцию.
Заключение. NSSI у девушек-подростков связано с широким спектром социальных, поведенческих и психологических факторов. Дифференцированный подход к оценке и профилактике, учитывающий семейные и эмоциональные аспекты, является ключевым для улучшения лечения и профилактики.
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Несуицидальное самоповреждающее поведение (NSSI) определяется как умышленное нанесение повреждений собственному телу без суицидальных намерений и с предположением, что это не приведёт к серьёзному физическому вреду [1–3]. Включение NSSI в DSM-5 как «исследуемого диагноза» подчёркивает растущий научный и клинический интерес [1, 4]. Распространённость NSSI среди молодёжи составляет около 15%, достигая 50% в стационарных выборках [5–9]. NSSI чаще всего начинается в возрасте 11–15 лет, достигая пика в 15–17 лет, с последующим снижением в раннем взрослом возрасте [10, 11]. Наиболее распространённые методы самоповреждений включают порезы, удары, царапины и ожоги [12].
Основной функцией NSSI является снижение негативного аффекта, связанного с дефицитом эмоциональной регуляции [5, 13–16]. Подростковый возраст, характеризующийся интенсивными эмоциональными и когнитивными изменениями, является уязвимым периодом для развития NSSI. Это поведение часто связано со стрессом из-за межличностных конфликтов, академическим давлением и семейными проблемами, что может приводить к долгосрочным последствиям, включая риск психических расстройств и суицидальных попыток [17, 18].
Настоящее исследование направлено на анализ клинико-социальных, поведенческих и психологических характеристик девушек-подростков с эпизодами NSSI (12–17 лет), госпитализированных в специализированное психиатрическое учреждение. Уникальность исследования заключается в изучении когорты подростков в российском контексте, что позволяет выявить специфические факторы NSSI и предложить стратегии профилактики и интервенции.
Цель исследования — выявить и изучить социально-демографические, клинические и психопатологические характеристики девушек-подростков, совершивших несуицидальные самоповреждения, для описания ключевых факторов, связанных с данным поведением.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
В рамках наблюдательного исследования собраны и проанализированы данные о клинических, эпидемиологических и социальных характеристиках девушек-подростков с NSSI.
Критерии соответствия
Целевая группа включала девушек 12–17 лет с подтверждёнными эпизодами NSSI, соответствующими критериям B–F DSM-5 [19–21]. Основные мотивы — регуляция эмоций и межличностные конфликты. Критерий A (5 и более эпизодов за год) не использовался, чтобы включить пациенток с редкими эпизодами и изучить ранние стадии NSSI. Суицидальные попытки в анамнезе не были критерием исключения, но отсутствие намерений на момент акта подтверждалось клиническим интервью. В России NSSI рассматривается как симптом в рамках МКБ-10, поскольку отдельного диагноза нет [3, 22]. Участие в исследовании основывалось на добровольном информированном согласии пациенток или их законных представителей.
Из исследования исключали пациенток с психозами, аутистическими расстройствами, трихотилломанией и другими состояниями, при которых самоповреждение носит стереотипный характер, а также с тяжёлыми интеллектуальными нарушениями, препятствующими тестированию. Пациенток с F70 включали в исследование при сохранной способности к тестированию, их ответы верифицировал клинический психолог. Также исключали участниц, отказавшихся от участия, и подростков младше 15 лет без согласия законных представителей.
Условия проведения
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Специализированная психоневрологическая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенного по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, пос. Заречный, ул. Садовая, 1. В структуру больницы входят 11 стационарных отделений, рассчитанных на 602 круглосуточные койки. В настоящее время для оказания помощи детскому населению функционируют два общепсихиатрических отделения на 80 и 50 коек соответственно.
Продолжительность исследования
Исследование охватывало период с 01.09.2022 г. по 01.09.2024 г.
Описание медицинского вмешательства
В рамках исследования использовали следующие психометрические инструменты:
- тест IQ Равена [23];
- опросник детской депрессии М. Ковач [24];
- опросник суицидального риска А.Г. Шмелёва (в модификации Т.Н. Разуваевой) [25];
- методику многомерной оценки детской тревожности (МОДТ) [26];
- опросник социально-психологической адаптации (СПА) [27];
- индивидуально-типологический опросник [28];
- шкалу причин самоповреждающего поведения Н.А. Польской [29];
- шкалу социальной поддержки детей и подростков CASSS (K. Malecki, адаптация А.А. Лифинцева, А.В. Рягузова) [30].
Основной исход исследования
Анализ клинико-социальных и эпидемиологических характеристик девушек-подростков с NSSI, включая количественные и качественные характеристики частоты, особенностей и сопутствующих факторов.
Дополнительные исходы исследования
Дополнительные показатели планируются к представлению в последующих публикациях.
Анализ в группах
Всем пациентам, соответствовавшим критериям включения, было предложено принять участие в исследовании.
Структура подгрупп не представлена в публикации; результаты сравнений будут опубликованы позже. Настоящая работа описывает общую характеристику клинико-социальных факторов выборки.
Методы регистрации исходов
Регистрация основных и дополнительных исходов исследования осуществлялась с использованием следующих инструментов: медицинской документации (истории болезней, регистрационные журналы госпитализаций, медицинская информационная система), психометрических тестов, специально разработанной статистической карты, наблюдений исследователя.
Этическая экспертиза
Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (1975 г., с поправками 2013 г.) и принципами ICH GCP. Разрешение на проведение выдано локальным этическим комитетом ГБУЗ СПНБ 14.06.2022 г. (протокол № 204). Все участники или их законные представители подписали информированное согласие на участие, лечение и публикацию обезличенных данных. Автор обладает сертификатом ICH GCP № 1063 от 11.04.2016.
Статистический анализ
Принципы расчёта размера выборки. Предварительный расчёт размера выборки не проводили; объём определяли коечной мощностью учреждения и маршрутизацией пациентов в Краснодарском крае. Подробности дизайна исследования и данные первого года представлены в публикации [31]. Результаты второго года находятся на рецензировании.
Методы статистического анализа включали описательную и инференциальную статистику: расчет медианы (Ме), квартилей (Q1; Q3), среднего, стандартного отклонения, минимума и максимума (min и max), а также U-критерия Манна–Уитни для непрерывных данных и точного критерия Фишера для категориальных. Различия считали значимыми при р <0,05. Дополнительные методы анализа будут представлены в будущих публикациях.
Полученные данные обрабатывали с использованием Microsoft Excel 2019 (Microsoft, США), Statistica 13.5.0.17 (TIBCO Software Inc., США), GraphPad Prism 10.4.0.621 (GraphPad Software, США).
Доступность данных. Материалы исследования, представленные в данной публикации, размещены в наборе данных [32].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты исследования
Выборка
В исследование включены 186 девушек 12–17 лет: 99 участниц в первый год и 87 – во второй. Из 693 пациентов данной возрастной категории (345 — первый год, 348 — второй год) участие в исследовании предложено 194 пациенткам, соответствовавшим критериям включения. Восемь из них отказались участвовать.
Характеристики выборки (групп) исследования
Возраст пациенток варьировал от 12 до 17 лет, медиана — 15 лет [Q1: 14; Q3: 16], при среднем значении 14,9±1,5 года.
Все участницы исследования являлись гражданами России. Большинство пациенток (72,0%) были уроженками Краснодарского края, 26,9% — прибыли из других регионов Российской Федерации, 1,1% — из другого государства. Большая часть проживала в сельской местности (56,5%, p=0,04).
Наиболее частыми диагнозами были эмоциональные расстройства и расстройства поведения (F90–F98), выявленные у 67,2% пациенток (p=0,001). Умственная отсталость (F70–F79) диагностирована у 10,2%, невротические расстройства (F40–F48) — у 7,5%, аффективные расстройства (F30–F39) — у 5,9%. Другие диагнозы, включая шизофрению (F20–F29) и поведенческие синдромы (F50–F55), составили менее 2,2%.
Основные результаты исследования
Наличие и частота самоповреждающих действий (шкала Н.А. Польской)
Наибольшая доля девушек (40,86%) чаще всего совершали самоповреждающие действия с помощью порезов режущими предметами (табл. 1).
Таблица 1. Наличие и частота самоповреждающих действий по шкале Н.А. Польской
Параметры | Самоповреждающие действия | |||||||
Никогда | Один раз | Иногда | Часто | |||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Порезы режущими предметами | 3 | 1,61 | 28 | 15,05 | 79 | 42,47 | 76 | 40,86 |
Уколы или проколы кожи острыми предметами | 133 | 71,51 | 25 | 13,44 | 20 | 10,75 | 8 | 4,30 |
Самоожоги | 144 | 77,42 | 30 | 16,13 | 8 | 4,30 | 4 | 2,15 |
Удары кулаком по своему телу | 118 | 63,44 | 24 | 12,90 | 30 | 16,13 | 14 | 7,53 |
Удары кулаком, ногой, головой или корпусом | 89 | 47,85 | 45 | 24,19 | 39 | 20,97 | 13 | 6,99 |
Выдёргивание волос | 139 | 74,73 | 24 | 12,90 | 15 | 8,06 | 9 | 4,84 |
Расчёсывание кожи | 110 | 59,14 | 23 | 12,37 | 32 | 17,20 | 21 | 11,29 |
Обкусывание ногтей | 75 | 40,32 | 14 | 7,53 | 49 | 26,34 | 46 | 24,73 |
Сковыривание струпов | 93 | 50,00 | 19 | 10,22 | 44 | 23,66 | 30 | 16,13 |
Обкусывание губ | 51 | 27,42 | 22 | 11,83 | 50 | 26,88 | 57 | 30,65 |
Прикусывание щек или языка | 89 | 47,85 | 18 | 9,68 | 42 | 22,58 | 42 | 22,58 |
Другое | 0 | 0,00 | 1 | 0,54 | 13 | 6,99 | 3 | 1,61 |
Среди причин самоповреждающего поведения преобладали душевная боль, необходимость почувствовать облегчение, необходимость справиться со своими эмоциями, необходимость успокоиться (по ≈3,5 балла; рис. 1).
Рис. 1. Причины самоповреждающего поведения: средние баллы по шкале Н.А. Польской (часть 2).
Рис. 2. Средние баллы по шкале причин самоповреждающего поведения Н.А. Польской (часть 2).
Наиболее частой стратегией самоповреждающего поведения являлось избавление от напряжения (Ме 3,28 (1–5); Q1: 2,86; Q3: 3,8 балла; рис. 2). При этом стратегия «самоконтроль» (6,07 балла) преобладала над стратегией «межличностный контроль» (3,74 балла). Стратегия «соматические самоповреждения» (2,01 балла) преобладала над стратегией «инструментальные самоповреждения» (1,97 балла).
Характеристики самоповреждений
Наиболее частые эпизоды NSSI происходили в возрасте 13–14 лет: 38,2% — первый, 37,6% — второй, 33,3% — последующие эпизоды. Возраст 11–12 лет занимал второе место, ранняя манифестация до 10 лет встречалась редко (менее 2%). Полное распределение девушек по возрастам представлено на рис. 3.
Рис. 3. Долевое соотношение девушек-подростков в разрезе возраста на момент последующих эпизодов самоповреждающего поведения.
У большей доли девушек (81,18%) самоповреждения были нанесены на кожу предплечья левой руки.
Наличие застарелых рубцов от прошлых самоповреждений выявлено в 77,96% случаев.
Подавляющее большинство подростков (97,3%) не употребляли психоактивные вещества перед эпизодом самоповреждений, только 2,7% сообщили о их употреблении (p=0,001). В 90,3% случаев подростки находились в одиночестве, лишь 9,7% эпизодов произошли в присутствии свидетелей (p=0,001).
Большинство эпизодов (83,9%) произошло дома, реже — на улице (3,8%), в общежитии (5,9%), в школе (3,2%) или стационаре (0,5%). Наибольшее количество эпизодов отмечено в пятницу (19,9%), а наименьшее — в воскресенье (5,9%, p=0,03).
Пиковое время эпизодов приходилось на вечерние часы: 16:00–20:00 (38,7%) и 20:00–24:00 (28,5%). Наименее характерным был ранний утренний период (04:00–08:00), когда зафиксировано лишь 1,6% случаев (p=0,001).
У 28,0% участников прошло более 29 дней с момента последнего акта, у 24,7% — от 8 до 14 дней, а у 18,8% — от 3 до 7 дней (p=0,008).
У большинства подростков (70,4%) во время самоповреждений не было суицидальных мыслей, однако 15,6% отмечали нежелание жить, а 4,8% испытывали желание умереть (p=0,001).
Часто самоповреждения сопровождались депрессией (21,0%), тревогой (18,3%), гневом (29,0%), напряжением (18,8%) и самокритикой (31,7%). У 31,7% подростков наблюдался общий дистресс, а у 18,8% — трудности самоконтроля.
Размышления о самоповреждении вне эпизодов отсутствовали у 62,9% участников. Однократные размышления встречались у 12,9%, многократные — у 18,8%, постоянные — у 4,8% (p=0,001).
Наличие суицидальных попыток за последние 24 месяца
Суицидальные попытки в анамнезе, как истинные, так и демонстративно-шантажные, не связанные с эпизодами NSSI, были зафиксированы у 25,8% подростков, из них 18,8% совершили однократные попытки, а 7,0% — многократные. У большинства (73,7%) попыток не было. Наиболее частым методом была интоксикация медикаментами (19,4%), за ней следовали порезы предплечий (4,3%) и повешение (3,8%). Использование колюще-режущих предметов или огнестрельного оружия не зарегистрировано.
Результаты психологических шкал и тестов
В данной статье представлены результаты анализа по следующим психодиагностическим шкалам: шкале депрессии М. Ковач, матрицы Равена, шкале оценки суицидального риска и индивидуально-типологическому опроснику. Результаты по другим методикам, использованным в исследовании (МОДТ, СПА, CASSS и др.), будут освещены в последующих публикациях.
Шкала депрессии (М. Ковач). Психодиагностика выявила средний показатель депрессии 61,5±17,6 (min — 34, max — 100; 95% ДИ: 59,0–64,1; Q1–Q3: 49,0–70,8). Преобладали межличностные проблемы (Ме — 64; min — 39, max — 95; Q1–Q3: 40–64), характеризующие подростков как склонных к негативизму и агрессивному поведению.
Шкала А (негативное настроение) показала Ме — 59,6 (min — 37, max — 92; Q1–Q3: 48–70), отражая снижение настроения, тревожность и ожидание неприятностей.
Шкала С (неэффективность): Ме — 57,2 (min — 38, max — 95; Q1–Q3: 45–66), характеризует высокую неуверенность в учебной деятельности.
Шкала Е (негативная самооценка): Ме — 57,1 (min — 39, max — 95; Q1–Q3: 40–64), указывает на негативное восприятие собственной эффективности.
Матрицы Равена. Когнитивные способности по тесту матрицы Равена составили в среднем 79,4±7,2 (min — 63, max — 99; 95% ДИ: 78,4–80,4; Q1–Q3: 75,0–85,0).
Шкала оценки суицидального риска. Девушки демонстрировали высокий уровень социального пессимизма (4,0 балла; Q1–Q3: 3–5) и аффективности (3,3 балла; Q1–Q3: 2–5) при низких показателях максимализма, слома культурных барьеров, уникальности и антисуицидального фактора.
Индивидуальный типологический опросник. Индивидуально-типологический опросник выявил дезадаптирующие свойства, включая экстраверсию (1,08%), интроверсию (9,14%), тревожность (5,38%) и другие черты. Средний профиль группы показал акцентуированную экстраверсию (5,04 балла), указывающую на эмоциональную напряжённость и внутренний конфликт.
Дополнительные результаты исследования
Поведенческие и социальные аспекты
Модификации тела. Большинство девушек (66,7%) не имели модификаций тела. Среди участниц с модификациями отмечены пирсинг в видимых зонах (11,3%), пирсинг в интимных зонах (1,1%), татуировки на видимых частях тела (25,3%) и в интимных зонах (2,7%). Также зафиксированы случаи декоративных шрамов (0,5%), необычных стрижек или окрашивания волос (1,6%) и других модификаций (0,5%).
Курение и экстремальные увлечения. Курение указали 40,9% участниц, 58,6% не курят. Увлечение экстремальными видами спорта отметили лишь 1,1% девушек, тогда как 98,9% такого интереса не проявляют.
Нарушения пищевого поведения. Пищевые расстройства выявлены у 15,1% девушек. Из них нервная анорексия — 10,2%, атипичная анорексия — 1,6%, булимия — 3,2%, переедание, связанное с психологическими расстройствами, — 0,5%. У 84,9% нарушений пищевого поведения не выявлено.
Интернет-сообщества с тематикой самоповреждений. О таких сообществах слышали 22,0% (видели в рекомендациях), целенаправленно искали информацию — 3,2%, состояли (по их словам) — 5,4%, а по словам родителей — 1,6%. Не состояли 44,6%, имеют знакомых или друзей в таких сообществах —11,3%, достоверная информация отсутствует у 22,0%.
Эпизоды травли в школе. Травлю в школе испытывали 34,4% участниц (по их словам), по данным родителей или опекунов — 1,1%. Об отсутствии травли заявили 64,0%, информация отсутствует у 1,6%.
ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализированы клинико-социальные и поведенческие характеристики 186 девушек-подростков с NSSI. NSSI чаще начиналось в 13–14 лет, повреждения локализовались на предплечьях, эпизоды происходили дома, без свидетелей и без суицидальных мыслей. Участницы имели высокий уровень депрессии и межличностных проблем, подчёркивающих роль эмоциональной дисрегуляции. Социальные факторы, включая семейную структуру и асоциальное поведение родителей, оказались значимыми.
Результаты подтверждают ключевые выводы предварительного анализа [33], включая средний возраст (14,69 года) и доминирование первичной госпитализации (72,73%). В расширенной выборке (186 пациенток) медиана возраста составила 15 лет, а основные клинические диагнозы — эмоциональные и поведенческие расстройства (F90–F98; 67,2%).
Анализ по шкале Н.А. Польской показывает, что основной целью NSSI у девушек-подростков является эмоциональная регуляция, с преобладанием физических методов, особенно порезов (40,86%). Ключевые мотивы включают облегчение душевной боли и снижение напряжения, при этом самоконтроль (6,07 балла) выражен сильнее, чем межличностные стратегии (3,74 балла), что подтверждает доминирование внутренних триггеров [5]. Менее агрессивные формы, такие как обкусывание губ (30,65%) и ногтей (24,73%), встречаются чаще, чем самоожоги (2,15%) и выдёргивание волос (4,84%), что может быть связано с их меньшей стигматизацией либо более лёгкими формами расстройств.
Локализация повреждений на левом предплечье (81,18%) и порезы как основной метод NSSI остались неизменными. Социальные факторы, такие как искажённая структура семьи и асоциальное поведение родителей, подтверждают их значимость [3, 22, 34].
Сравнение с другими исследованиями [12, 35, 36] указывает на сходство в частоте буллинга (34,4%), роли дистресса и депрессии (шкала М. Ковач — 61,5). Основные мотивы NSSI, такие как эмоциональное напряжение (89%) и стремление к удовольствию (84%) [37], соответствуют текущим данным. Низкая частота употребления психоактивных веществ (2,7%) перед эпизодами NSSI выделяет исследуемую выборку [34].
Элементы самовыражения, включая татуировки и пирсинг, частично совпадают с наблюдениями В.Д. Менделевича [3]. Тем не менее аспекты принятия решений и поиска новых ощущений требуют дальнейшего изучения [38, 39]. Таким образом, исследование подчёркивает универсальные характеристики NSSI (эмоциональная регуляция, дистресс, социальные факторы) и уникальные особенности выборки.
Ограничения исследования
Исследование ограничено некоторыми аспектами. Выборка: участницы — пациентки специализированного психиатрического учреждения, что ограничивает обобщение на общую популяцию подростков с NSSI. Влияние лекарственных и психолого-психотерапевтических интервенций не анализировали, так как сбор данных проводили в первые три дня госпитализации, когда влияние лечения было минимальным, обеспечивая объективность психометрических показателей. Гендер: включены только девушки, что исключает анализ гендерных различий. Данные: часть информации получена из медицинской документации и опросов, что может вносить субъективность. Контрольная группа: отсутствие сравнения с подростками без NSSI ограничивает анализ факторов риска. Культурный контекст: исследование проведено в одном регионе России, что снижает его применимость к другим условиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
NSSI у девушек-подростков связано с широким спектром социальных, поведенческих и психологических факторов. Дифференцированный подход к оценке и профилактике, включающий семейные и эмоциональные аспекты, является ключевым для улучшения исходов лечения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Е.В. Дарьин, Е.Н. Соколова — обзор литературы, сбор данных; Е.В. Дарьин, И.С. Король — анализ и интерпретация результатов; Е.В. Дарьин, Е.О. Бойко — проведение статистического анализа; Е.В. Дарьин, О.Г. Зайцева — составление черновика рукописи и формирование его окончательного варианта; Е.В. Дарьин, И.С. Король, Е.О. Бойко, О.Г. Зайцева — критический пересмотр черновика рукописи с внесением ценного интеллектуального содержания. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ СПНБ от 14.06.2022 г. (протокол № 204).
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена в соответствии с процедурой fast-track. В рецензировании участвовали члены редакционной коллегии и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Authors’ contribution: E.V. Darin, E.N. Sokolova — literature review, data collection; E.V. Darin, I.S. Korol — analysis and interpretation of results; E.V. Darin, E.O. Boyko — conducting statistical analysis; E.V. Darin, O.G. Zaitseva — drafting the manuscript and forming its final version; E.V. Darin, I.S. Korol, E.O. Boyko, O.G. Zaitseva — critical revision of the draft manuscript with the introduction of valuable intellectual content. All authors confirm that their authorship meets the international ICMJE criteria (all authors have made a significant contribution to the development of the concept, research and preparation of the article, read and approved the final version before publication).
Ethics approval: The study was approved by the local Ethics committee of the St. Petersburg State University on June 14, 2022. (Protocol No. 204).
Funding sources: No found.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: In creating this work, the authors did not use previously published information (text, illustrations, data).
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer-review: This paper was submitted to the journal on an unsolicited basis and reviewed according to the Fast Track procedure. Members of the editorial board, and the scientific editor of the publication participated in the review.
Об авторах
Евгений Владимирович Дарьин
Специализированная психоневрологическая больница
Email: darineugene@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3486-3886
SPIN-код: 9824-0357
врач-психиатр
Россия, Краснодарский край район, пос. ЗаречныйИван Сергеевич Король
Специализированная психоневрологическая больница
Автор, ответственный за переписку.
Email: spnb@miackuban.ru
ORCID iD: 0000-0002-3950-2855
кандидат медицинских наук, главный врач
Россия, Краснодарский край район, пос. ЗаречныйЕлена Олеговна Бойко
Кубанский государственный медицинский университет
Email: e.o.boyko@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7692-2410
SPIN-код: 9499-4030
доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, психиатр-нарколог, заведующий кафедрой психиатрии
Россия, КраснодарОльга Геннадиевна Зайцева
Кубанский государственный медицинский университет
Email: olga_zaitseva@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-5029-1577
SPIN-код: 4888-7993
кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии
КраснодарЕкатерина Николаевна Соколова
Специализированная психоневрологическая больница
Email: katena.sokolova.96@inbox.ru
ORCID iD: 0009-0009-0436-6775
врач-психиатр
Россия, Краснодарский край район, пос. ЗаречныйСписок литературы
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Arlington: American Psychiatric Association; 2013. doi: 10.1176/appi.books.9780890425596
- Whitlock J, Exner-Cortens D, Purington A. Assessment of nonsuicidal self-injury: Development and initial validation of the Non-Suicidal Self-Injury — Assessment Tool (NSSI-AT). Psychol Assess. 2014;26(3):935–946. doi: 10.1037/a0036611
- Mendelevich VD. Self-harm behavior: hierarchical and network analysis. Neurology Bulletin. 2021;53(2):5–9. doi: 10.17816/nb71392 EDN: BYZERM
- Mürner-Lavanchy I, Koenig J, Lerch S, et al. Neurocognitive functioning in adolescents with non-suicidal self-injury. J Affect Disord. 2022;311:55–62. doi: 10.1016/j.jad.2022.05.029
- Lyubov EB, Zotov PB, Bannikov GS. Self-harming behavior of adolescents: definitions, epidemiology, risk factors and protective factors. The message I. Suicidology. 2019;10(4):16–46. doi: 10.32878/suiciderus.19-10-04(37)-16-46 EDN: QZCFZQ
- Swannell SV, Martin GE, Page A, et al. Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: Systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Suicide Life-Threat Behav. 2014;44(3):273–303. doi: 10.1111/sltb.12070
- Lim KS, Wong CH, McIntyre RS, et al. Global lifetime and 12-month prevalence of suicidal behavior, deliberate self-harm, and non-suicidal self-injury in children and adolescents between 1989 and 2018: A meta-analysis. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(22):4581. doi: 10.3390/ijerph16224581
- Darin EV, Zaitseva OG. The epidemiology of non-suicidal self-injurious behavior, a non-systematic narrative review. V.M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology. 2023;57(2):8–19. doi: 10.31363/2313-7053-2023-694 EDN: JVDCOK
- Darin EV. Clinical characteristics of minors patients of female psychiatric department № 6 of “Specialized Neuropsychiatric Hospital” of the Ministry of Health of the Krasnodar Region. Medical Herald of the South of Russia. 2020;11(1):73–80. doi: 10.21886/2219-8075-2020-11-1-73-80 EDN: HJZNKR
- Rodav O, Levy S, Hamdan S. Clinical characteristics and functions of non-suicide self-injury in youth. Eur Psychiatry. 2014;29(8):503–508. doi: 10.1016/j.eurpsy.2014.02.008
- Plener PL, Schumacher TS, Munz LM, Groschwitz RC. The longitudinal course of non-suicidal self-injury and deliberate self-harm: A systematic review of the literature. Borderline Personal Disord Emot Dysregul. 2015;2:2. doi: 10.1186/s40479-014-0024-3
- Skryabin EG, Zotov PB. Main characteristics of intentional self-cutting in children and adolescents in Tyumen (Western Siberia). Academic Journal of Western Siberia. 2020;16(3):62–64. EDN: CFAARM
- Pluhar E, Lois RH, Burton ET. Nonsuicidal self-injury in adolescents. Curr Opin Pediatr. 2018;30(4):483–489. doi: 10.1097/MOP.0000000000000655
- Selby EA, Franklin J, Carson-Wong A, Rizvi SL. Emotional cascades and self-injury: Investigating instability of rumination and negative emotion. J Clin Psychol. 2013;69(12):1213–1227. doi: 10.1002/jclp.21966
- Hetrick SE, Subasinghe A, Anglin K, et al. Understanding the needs of young people who engage in self-harm: A qualitative investigation. Front Psychol. 2020;10:2916. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02916
- Clarke S, Allerhand LA, Berk MS. Recent advances in understanding and managing self-harm in adolescents. F1000Research. 2019;8:1794. doi: 10.12688/f1000research.19868.1
- Ghinea D, Koenig J, Parzer P, et al. Longitudinal development of risk-taking and self-injurious behavior in association with late adolescent borderline personality disorder symptoms. Psychiatry Res. 2019;273:127–133. doi: 10.1016/j.psychres.2019.01.010
- Daukantaitė D, Lundh L-G, Wångby-Lundh M, et al. What happens to young adults who have engaged in self-injurious behavior as adolescents? A 10-year follow-up. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021;30(3):475–492. doi: 10.1007/s00787-020-01533-4
- Clarke DE, Narrow WE, Regier DA, et al. DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part I: Study design, sampling strategy, implementation, and analytic approaches. Am J Psychiatry. 2013;170(1):43–58. doi: 10.1176/appi.ajp.2012.12070998
- Regier DA, Narrow WE, Clarke DE, et al. DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part II: test-retest reliability of selected categorical diagnoses. Am J Psychiatry. 2013;170(1):59–70. doi: 10.1176/appi.ajp.2012.12070999
- Narrow WE, Clarke DE, Kuramoto SJ, et al. DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part III: Development and reliability testing of a cross-cutting symptom assessment for DSM-5. Am J Psychiatry. 2013;170(1):71–82. doi: 10.1176/appi.ajp.2012.12071000
- Darin EV, Zaitseva OG. The phenomenon of non-suicidal self-injurious behavior in the classifications of ICD-10, ICD-11, and DSM-5. Russian Journal of Psychiatry. 2022;(4):73–82. doi: 10.47877/1560-957Х-2022-10409 EDN: UAEITI
- Davydov D, Chmykhova E. Administered of the Raven’s standard progressive matrices with a time limit. Voprosy Psikhologii. 2016;(4):129–139. EDN: YHPZSP
- Volikova SV, Kalina OG, Kholmogorova AB. Validation of M. Kovacs children's depression inventory (CDI). Voprosy Psikhologii. 2011;(5):121–132. EDN: PWWYUL
- Razuvaeva TN, Paramonova YuA. Features of aggressive behavior of youth with different factors of suicidal risk. In: Scientific Initiative in Psychology. Kursk; 2017. Р. 237–250. (In Russ.) EDN: YNSWYX
- Malkova EE. Psychodiagnostic method of multidimensional assessment of childhood anxiety: A manual for doctors and psychologists. St. Petersburg: Research Institute of Psychoneurology V.M. Bekhterev; 2007. 35 р. (In Russ.) EDN: RZIHMP
- Osnitsky AK. Determination of the characteristics of social adaptation. Psychology and School. 2004;(1):43–56. (In Russ.)
- Sobchik LN. Psychology of individuality. Theory and practice of psychodiagnostics. St. Petersburg: Speech; 2008. 621 р. (In Russ.) EDN: QXVMIJ
- Polskaya NA. Phenomenology and functions of self-damaging behavior in normative and disturbed mental development [dissertation]. St. Petersburg; 2017. 423 р. (In Russ.) EDN: YVBGBH
- Lifintseva AA, Ryaguzova AV. Adaptation of “Child and adolescent social support scale” technique by C. Malecki. Clinical Psychology and Special Education. 2013;(2):34–45. EDN: RDPOUP
- Darin EV, Korol IS, Boyko EO, Zaitseva OG. Dynamics of hospitalization of children in a psychiatric hospital, annual analysis of clinical and demographic characteristics and psychopathology. Russian Journal of Psychiatry. 2024;(1):45–56. EDN: NYYETX
- Darin E. Self-harm among hospitalized adolescent girls: a prospective cohort study. Mendeley Data. 2025;V1. doi: 10.17632/f3hkb9vg6h.1
- Darin EV, Boyko EO, Zaitseva OG. Non-suicidal self-injury in adolescent girls, preliminary results from a study in a psychiatric hospital: Prevalence, clinical-social factors, and characteristics of self-injurious behavior. Mental Health. 2023;18(9):33–38. doi: 10.25557/2074-014X.2023.09.33-38 EDN: BJPFGP
- Lyubov EB, Zotov PB. Adolescents non-suicidal self-injury: general and particular. Part II. Suicidology. 2020;11(4):26–55. doi: 10.32878/suiciderus.20-11-04(41)-26-55 EDN: TCIGGY
- Valencia-Agudo F, Burcher GC, Ezpeleta L, Kramer T. Nonsuicidal self-injury in community adolescents: A systematic review of prospective predictors, mediators, and moderators. J Adolesc. 2018;65:25–38. doi: 10.1016/j.adolescence.2018.02.012
- Zotov PB, Garagasheva EP, Umansky EM. Suicidal actions of adolescents in the Tyumen Region in 2017–2022 (prevention strategy). Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry. 2023;(4):97–109. doi: 10.26617/1810-3111-2023-4(121)-97-109 EDN: BBFXLH
- Andrei LE, Efrim-Budisteanu M, Mihailescu I, et al. Non-suicidal self-injury (NSSI) patterns in adolescents from a romanian child psychiatry inpatient clinic. Children (Basel). 2024;11(3):297. doi: 10.3390/children11030297
- Antokhina RI, Vasilieva AV. Decision-making process and negative childhood experience in adolescents with autoaggression. Neurology Bulletin. 2021;53(4):11–22. doi: 10.17816/nb87225 EDN: PZHMII
- Antokhina RI, Antokhin EYu, Nemtseva EK. Deviant behavior in adolescents: The role of non-suicidal self-harm, depression, and the desire to find new sensations. Neurology Bulletin. 2024;55(4):50–55. doi: 10.17816/nb624445 EDN: QZOXYD
Дополнительные файлы