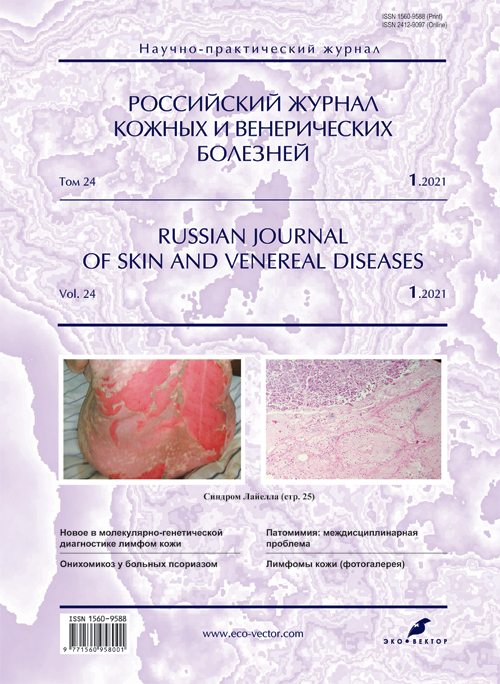Primary cicatricial alopecia: a literature review
- 作者: Zvezdina I.V.1
-
隶属关系:
- Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov
- 期: 卷 24, 编号 1 (2021)
- 页面: 5-16
- 栏目: CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS, AND THERAPY OF DERMATOSES
- ##submission.dateSubmitted##: 20.01.2021
- ##submission.dateAccepted##: 17.03.2021
- ##submission.datePublished##: 15.02.2021
- URL: https://rjsvd.com/1560-9588/article/view/58729
- DOI: https://doi.org/10.17816/dv58729
- ID: 58729
如何引用文章
全文:
详细
The term cicatricial alopecia results from irreversible damage to epithelial stem cells located in the bulge region of the hair follicle with subsequent scarring. Based on the mechanism involved in follicular destruction, cicatricial alopecia is divided into primary and secondary forms. Primary cicatricial alopecia are divided into four groups according to their prominent inflammatory infiltrate: with lymphocytic, neutrophilic, mixed or nonspecific cell inflammation pattern.
The review presents the main clinical, histological and dermatoscopic signs of various types of primary cicatricial alopecia.
全文:
ВВЕДЕНИЕ
Термин алопеция (от греч. alopex — лиса) был впервые введён для обозначения диффузного выпадения волос. В последующем этот термин начали использовать для очагового и других видов облысения [1]. Выделяют две основные группы алопеций — рубцовые и нерубцовые.
Термин «рубцовая алопеция» используется для определения процесса необратимой утраты волос, обусловленной повреждением эпителиальных стволовых клеток области bulge и гибелью волосяных фолликулов в результате воспаления или другого патологического процесса, который завершается рубцеванием [2].
В зависимости от первичности вовлечения в патологический процесс волосяного фолликула можно рассматривать две большие гетерогенные группы расстройств, включающих первичные и вторичные состояния рубцовых алопеций.
Согласно классификации рубцовых алопеций, предложенной Североамериканской ассоциацией исследователей волос (North American Hair Research Society NAHRS; 2001), выделяют четыре группы первичных рубцовых алопеций с учётом характера воспалительного инфильтрата [3, 4]:
I. Лимфоцитарные:
1) дискоидная красная волчанка;
2) фолликулярный красный плоский лишай:
а) классическая форма;
б) фронтальная фиброзная алопеция;
в) синдром Грехема–Литтла–Лассуэра;
3) классическая псевдопелада (псевдопелада Брока);
4) центральная центробежная рубцовая алопеция;
5) фолликулярный декальвирующий шиповидный кератоз.
II. Нейтрофильные:
1) декальвирующий фолликулит;
2) расслаивающий целлюлит/фолликулит (абсцедирующий и подрывающий фолликулит и перифолликулит головы).
III. Смешанные:
1) келоидный фолликулит;
2) некротический фолликулит (acne necrotica);
3) эрозивный пустулёзный дерматоз.
IV. Группа рубцовых алопеций с неспецифическим инфильтратом.
ПЕРВИЧНЫЕ РУБЦОВЫЕ АЛОПЕЦИИ С ЛИМФОЦИТАРНЫМ ИНФИЛЬТРАТОМ
Дискоидная красная волчанка
Аутоиммунное заболевание неясной этиологии с выраженной фоточувствительностью. Чаще возникает у взрослых женщин, как правило, в период между 20 и 40 годами жизни. Более чем у половины пациентов волосистая часть головы поражается в первую очередь и в 11–20% случаев остаётся единственной локализацией заболевания. Пациенты часто жалуются на усиленное выпадение волос, зуд, жжение, повышенную чувствительность кожи головы [5].
При дебюте типичной дискоидной красной волчанки волосистой части головы наблюдается чётко отграниченная эритематозная, слабо инфильтрированная, покрытая крепко прилегающими к поверхности гиперкератотическими чешуйками с неравномерно расположенными фолликулярными роговыми пробками бляшка. При поскабливании очага, которое сопровождается болезненностью (симптом Бенье–Мещерского), чешуйки c трудом отделяются с поверхности. Со временем очаг приобретает синюшный оттенок, и в центральной части развивается атрофия кожи с алопецией. Кожа становится гладкой, блестящей, истончённой, без устьев волосяных фолликулов, с телеангиэктазиями и участками дисхромии [6].
Гистологическая картина
При дискоидной красной волчанке в эпидермисе обнаруживают разлитой и фолликулярный гиперкератоз, вакуольную дистрофию клеток базального слоя (патогномоничный признак). Участки акантоза сменяются истончённым мальпигиевым слоем. В старых очагах отчётлива атрофия эпидермиса. Вокруг волосяных фолликулов, сальных желёз и сосудов имеются инфильтраты, состоящие преимущественно из лимфоцитов и небольшого количества плазматических клеток, гистиоцитов и макрофагов. В области инфильтратов коллагеновые и эластические волокна разрушены, на остальных участках дерма разрыхлена вследствие отёка [7].
Прямая реакция иммунофлюоресценции демонстрирует отложение иммуноглобулина G (IgG) и
С3-комплемента вдоль базальной мембраны как кожного, так и фолликулярного эпителия: у 60–80% пациентов тест «волчаночной полоски» положительный,
у 15–45% выявляются антиядерные антитела. При кожных формах красной волчанки могут вырабатываться аутоантитела. У больных дискоидной красной волчанкой наблюдается образование антител анти-Ro/SS-A,
анти-La/SS-B и анти-annexin-1 [8].
Дерматоскопическая картина
Характерными дерматоскопическими признаками дискоидной красной волчанки на коже волосистой части головы в активной фазе чаще всего являются [9, 10]:
- толстые древовидные сосуды;
- большие жёлтые точки (фолликулярные роговые пробки);
- пятнистая коричневая пигментация.
В неактивных очагах:
- белые зоны (участки атрофии);
- склероз устьев волосяных фолликулов.
Фолликулярный красный плоский лишай
В литературе описано три формы фолликулярного красного плоского лишая (КПЛ) — классический фолликулярный КПЛ, синдром Грехема–Литтла–Лассуэра, фронтальная фиброзная алопеция.
Классическая форма фолликулярного КПЛ чаще всего наблюдается в возрасте 40–60 лет у европейских женщин. Локализуется на коже волосистой части головы, чаще всего в области макушки. У 30% пациентов высыпания локализуются вне головы — на других участках кожи и слизистых оболочках [11].
Фолликулярный, или остроконечный, КПЛ (lichen planopilaris) характеризуется мелкими фолликулярными коническими, сгруппированными или расположенными точечно папулами, фиолетово-коричневого цвета с роговыми пробками в центре, перифоликулярной эритемой и шелушением, которые в острой фазе часто сопровождаются зудом, жжением, болезненностью и повышенной чувствительностью кожи. Заболевание прогрессирует медленно, сопровождается потерей волос и образованием участков атрофии и рубцовой алопеции мультифокального или диффузного характера. Типичные папулы КПЛ встречаются редко.
Началом заболевания может быть ониходистрофия. Характерными для КПЛ являются дорсальный птеригиум и трахионихия [12].
Синдром Грехема–Литтла–Лассуэра сочетает в себе триаду признаков — рубцовую алопецию кожи волосистой части головы, нерубцовую алопецию подмышечных впадин и лобка и наличие на коже туловища и конечностей остроконечных фолликулярных папул с роговым шипиком в центре [13].
Фронтальная фиброзная алопеция представляет особую форму фолликулярного КПЛ, имея с ним не только клинические и гистологические сходства, но и некоторые отличия. Заболевание впервые было описано в 1994 г. S. Kossard [14] как новый тип рубцовой алопеции. Клинически проявляется рецессией лобно-теменной границы роста волос, углублением лобно-височных залысин, поредением волос в височной области с развитием рубцовой атрофии кожи в очагах поражения [15]. Кожа в зоне облысения глянцевая на вид, имеет равномерный бледный оттенок, атрофия кожи в очагах носит умеренный характер и клинически может быть малозаметной, что часто вызывает сложности при постановке диагноза. При осмотре пациенток обращает на себя внимание формирование залысин «по мужскому типу», однако не является тяжёлым вариантом андрогенетической алопеции (как предполагалось ранее) [16]. Характерным является также истончение и поредение бровей, преимущественно латеральной части. Потеря бровей наблюдается примерно у 80% больных; вместе с бровями могут выпадать ресницы [17, 18]. Фронтальной фиброзной алопеции свойственно медленное прогрессирующее течение.
Заболевание чаще выявляется у европеоидных женщин, реже встречается у чернокожих женщин и редко у азиатов [19]. В настоящее время появились сообщения о развитии фронтальной фиброзной алопеции не только у женщин в постменопаузальном, но и пременопаузальном периоде, а также у мужчин [20].
Фронтальная фиброзная алопеция рассматривается большинством исследователей как специфическое
аутоиммунное заболевание, при котором Т-лимфоциты нацелены на фолликулярные антигены с последующим разрушением стволовых клеток волосяного фолликула, вовлечением медиаторов воспаления b-FGF и TGFβ, ответственных за активацию фибробластов. Не исключается роль рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами (PPARγ), в разрушении пилосебацейного комплекса [21].
Гистологическая картина
При гистологическом исследовании в активной фазе наблюдается полосовидный субэпидермальный лимфоцитарный инфильтрат, «охватывающий» верхнюю часть волосяного фолликула в области перешейка, в то время как давно существующие очаги в основном характеризуются гипотрофией/атрофией сальных желёз и мышц, поднимающих волос, перифолликулярным фиброзом и необратимым разрушением фолликула с перифолликулярной гиалинизацией [13].
В эпидермисе — ортогиперкератоз, клиновидный гипергранулёз, акантоз в виде «зубьев пилы», вакуолизация цитоплазмы и апоптоз клеток базального слоя [12].
Дерматоскопическая картина
При дерматоскопическом исследовании наиболее часто выявляются перифолликулярное шелушение (гиперкератоз) и чешуйки, охватывающие волос в виде цилиндра. Реже встречается перифолликулярная эритема с лиловым оттенком, розово-молочные области с отсутствием устьев волосяных фолликулов, «белые точки», перекрученные (pili torti) или сгруппированные в один фолликул волосы (tufted hairs) [10].
Идиопатическая псевдопелада Брока
Редкое заболевание, характеризуемое появлением очагов облысения с признаками атрофии кожи. Этиология дерматоза остаётся до сих пор неизвестной. Основная теория патогенеза фокусируется на теориях отсутствия стволовых клеток и деструкции сальных желёз. Однако некоторые авторы [22] считают, что приобретённый иммунитет, заражение инфекцией Borrelia burgdorferi и старение фолликулярных стволовых клеток также играют важную роль в развитии заболевания [23]. О генетической роли в развитии данной нозологии может говорить наличие семейных случаев заболевания.
Псевдопелада Брока чаще всего наблюдается у женщин старше 35 лет, хотя в литературе описаны случаи заболевания и в других возрастных группах [24]. Заболевание чаще отмечается у представителей европеоидной расы. Псевдопелада Брока может наблюдаться как самостоятельное заболевание, так и в качестве осложнения некоторых других заболеваний.
L. Amato и соавт. [25] утверждают, что данный процесс не может рассматриваться в качестве отдельной нозологической единицы, потому что у 66,6% пациентов это конечная стадия других хронических воспалительных заболеваний, таких как красный фолликулярный лишай и дискоидная красная волчанка. Идиопатические случаи составляют примерно 10% и имеют отличную гистологическую картину [22].
Гистологическая картина
Гистологически при псевдопеладе Брока определяются перифолликулярный и периваскулярный лимфоцитарный инфильтрат, прежде всего на уровне фолликулярной воронки, а также потеря эпителия сальной железы и фибротические тяжи в подкожно-жировой клетчатке без перехода границ или фолликулярных пробок. Красители для эластина помогают различить псевдопеладу (стойкие эластиновые волокна вокруг середины волосяного стержня в волосяном фолликуле) от фолликулярного КПЛ и красной волчанки (потеря эластиновых волокон в этой локализации) [26]. На ранних этапах в дерме определяются перифолликулярные инфильтраты из лимфоцитов, гистиоцитов, иногда с примесью плазмоцитов, тканевых базофилов; возможен фолликулярный кератоз. Позднее обнаруживают истончение эпидермиса, атрофию волосяных фолликулов, отсутствие или уменьшение количества сальных желёз, периваскулярные инфильтраты из лимфоцитов и плазматических клеток, фрагментирование коллагеновых и эластических волокон (склерозирование дермы) [7]. Прямая реакция иммунофлюоресценции отрицательная.
Дерматоскопическая картина
При дерматоскопии отмечают очаги фиброза в виде участков цвета белой слоновой кости, отсутствие устьев волосяных фолликулов и специфических признаков других дерматозов (роговых пробок, шелушения и т.д.), белые точки и единичные волосы в очаге поражения [27].
Дебют псевдопелады Брока остаётся незамеченным из-за отсутствия субъективных ощущений. Неожиданно для больного появляются очаги облысения, чаще на темени или верхней части затылка. В начальном периоде заболевания они мелкие — от 5 до 10 мм, изолированные, круглые или овальные. Эти очаги могут увеличиваться, сливаться в более крупные, неправильной формы. Кожа в зоне облысения бледно-розового или восковидного цвета, гладкая, нежная, атрофичная. По периферии очагов волосы и кожа не изменены; характерным клиническим признаком для псевдопелады является рост нескольких волос из одного отверстия волосяного фолликула. На поражённых участках волосы легко удаляются по периферии очагов, при этом их корневая часть окутана стекловидной муфтой. Волос при выдёргивании имеет вид обгорелой спички: отмечается атрофия корня волоса, волосяная луковица окаймлена бороздой. Постепенно процесс прогрессирует, захватывает новые фолликулы. Вокруг вновь поражённых волос появляется розовая каёмка, а в устье обнаруживается кератоз. По мере развития процесса волосы выпадают, а образованные на их месте рубцы располагаются рассеянно или группами. На белых атрофических рубцах не бывает шелушения, корок. При боковом освещении наблюдаются сглаженность и блеск поверхности. Постепенно разрозненные очаги сливаются и образуют участки облысения причудливой формы с резкими границами. Зоны облысения при псевдопеладе, склонные к слиянию, имеют необычное асимметричное (что послужило поводом для их сравнения со следами на снегу, очагами пламени, листком клевера) расположение. Выпадение волос имеет длительное прогрессирующее необратимое течение, иногда на протяжении 2–3 лет может развиться тотальная рубцовая алопеция. Интенсивность образования очагов рубцовой алопеции у больных различна, процесс со временем может самопроизвольно остановиться [6].
Центральная центробежная рубцовая алопеция
Заболевание встречается преимущественно у афроамериканских женщин на втором или третьем десятилетии жизни, однако в литературе имеются немногочисленные сообщения о развитии данного заболевания у мужчин. По данным разных авторов, распространённость заболевания варьирует от 2,7 до 5,6% [28, 29].
Впервые центральная центробежная рубцовая алопеция была описана в 1968 г. [30] как «алопеция горячего гребня» у чернокожих женщин Соединённых Штатов, которые выпрямляли волосы с помощью горячей расчёски и вазелина. Авторы предположили, что нагретый вазелин, нанесённый на стержни волоса, вызывал хроническое воспаление с последующей дегенерацией наружной корневой оболочки с разрушением фолликула.
При дальнейших исследованиях патогенеза заболевания было высказано предположение, что инициирующим фактором болезни может быть первичный наследственный дефект гена ВФ [аутосомно-доминантный тип с мутацией гена, кодирующего пептидил-аргинин-деиминазу типа III (peptidyl-arginine-deiminase, PADI3)] — фермент, который посттрансляционно модифицирует другие белки, необходимые для формирования волосяного стержня [31].
Клинически процесс начинается с истончения и поредения волос в центральном участке теменной области, на фоне визуально неизменённой кожи, что может симулировать клинику андрогенетической алопеции. В редких случаях может наблюдаться эритема, которая гораздо менее выражена по сравнению с другими воспалительными алопециями. В дальнейшем очаг подвергается медленно прогрессирующему симметричному, округлому, центробежно распространяющемуся рубцеванию без видимого воспаления, в зоне которого кожа телесного цвета с гладкой и блестящей поверхностью. В пределах очагов могут сохраняться островки непоражённых волос. Возможны также перифолликулярная гиперпигментация и политрихия. Субъективно процесс может сопровождаться такими необязательными признаками, как гиперчувствительность, зуд или жжение [32].
Гистологическая картина
Основные гистологические диагностические признаки включают пониженную плотность фолликулов с изменённой фолликулярной архитектурой (отсутствие фолликулов; остатки сальных желёз в виде нескольких долек, окружающих пушковые волосы); преждевременную потерю внутренней корневой оболочки; волосяные фолликулы, окружённые перифолликулярным фиброзом и слабовыраженным воспалительным инфильтратом (структуры, подобные «очкам», которые возникают из-за слияния соседних фолликулов); гиперкератоз/паракератоз в волосяном канале; фолликулярную миниатюризацию. Фолликулярное воспаление обычно слабое или отсутствует [33].
Дерматоскопическая картина
Специфическим признаком дерматоскопической картины центральной центробежной рубцовой алопеции является наличие перипилярного серо-белого ореола; характерны сетчатая гиперпигментация по типу медовых сот, белые межфолликулярные неравномерно распределённые точки, нарушение соотношения терминальных и пушковых волос, белые пятна на месте опустевших склерозированных фолликулов, перифолликулярная эритема, сломанные волоски в виде чёрных точек внутри фолликулярного отверстия [34].
Фолликулярный декальвирующий шиповидный кератоз
Наследственное заболевание, которое сопровождается рубцовой алопецией и фолликулярными папулами, поражающими кожу головы и другие области тела. Заболевание, как правило, соответствует Х-сцепленному типу наследования, но также могут наблюдаться спорадические случаи. Локус мутации локализован в Xp22.13–22.2 [35]. Будучи X-связанным, чаще встречается у мужчин, редко диагностируется у женщин. Кроме того, заболевание у мужчин протекает значительно тяжелее, однако возможны улучшения и ремиссии в постпубертатный период. Начинается в грудном или раннем детском возрасте с появления кератотических мелких фолликулярных папул цвета здоровой кожи на лице, а затем на туловище и конечностях. Отмечаются фолликулярные пробки, окружённые эритемой, расширение устьев волосяного фолликула. По мере прогрессирования заболевания возникает рубцовая алопеция на голове, бровях и ресницах; наблюдаются выпадение волос в подмышечной и лобковой областях, а также точечная атрофия, особенно заметная на лице. В клинической картине некоторых пациентов присутствуют пальмоплантарная кератодермия, различные аномалии глаз, наиболее типичными из которых являются светобоязнь, кератит, конъюнктивит, врождённая глаукома, лентикулярная катаракта и дистрофия роговицы. Начало фотофобии обычно совпадает с появлением высыпаний на коже. Другие редко встречающиеся признаки — атопия, глухота, олигофрения, угри келоидные, кукольные волосы, аминоацидурия [36].
Гистологическая картина
Гистопатологическое исследование обычно демонстрирует в эпидермисе гиперкератоз с фолликулярными роговыми пробками в расширенных устьях волосяных фолликулов, незначительный акантоз. В дерме обнаруживается перифолликулярный лимфоцитарный инфильтрат с эксцентрической эпителиальной атрофией, политрихией и перифолликулярным фиброзом [37].
Дерматоскопическая картина
Дермоскопические признаки напоминают таковые при фолликулярной форме КПЛ, в частности снижение плотности волос с потерей фолликулярных отверстий, наличие гиперкератотических перифолликулярных белых чешуек, перифолликулярной эритемы и иногда перифолликулярных пустул [38].
ПЕРВИЧНЫЕ РУБЦОВЫЕ АЛОПЕЦИИ С НЕЙТРОФИЛЬНЫМ ИНФИЛЬТРАТОМ
Декальвирующий фолликулит
Редкий дерматоз, представляющий собой хронический бактериальный фолликулит кожи волосистой части головы с атрофическим облысением в завершающей стадии. Возбудителем считают Staphylococcus aureus при возможной колонизации волосяных фолликулов грамотрицательной микрофлорой. Обычно образуется изолированно на волосистой части головы, преимущественно в теменной, лобной и височных областях. Вначале на фоне гиперемии на одном и том же участке возникают группирующиеся воспалительные фолликулярные узелки и пустулы, а также мелкие фолликулярно расположенные светло-жёлтые корочки и сероватые чешуйки, которые легко снимаются при соскабливании. Размер элементов сыпи колеблется от булавочной головки до семени чечевицы. В центре папулёзные и пустулёзные элементы пронизаны неизменёнными или обломанными волосами, а в их окружности виден небольшой венчик гиперемии. Характерно крайне медленное развитие фолликулитов: они длительно существуют без заметной динамики и часто не завершаются формированием пустулы. Затем эти элементы сливаются и образуют чётко ограниченную круглую или овальную воспалительную бляшку диаметром ≥2–3 см, винно-красного цвета с плоским безболезненным инфильтратом в основании. Постепенно в её центральной части кожа бледнеет, истончается, становится гладкой, лишённой волос и слегка западает — развивается центральная атрофия. В её пределах могут ещё сохраняться единичные волосы или пучки волос, растущие из одного или нескольких фолликулов. В пограничной зоне продолжают появляться новые фолликулярные узелки и пустулы, чешуйки, корочки, обусловливая медленный периферический рост. Декальвирующий фолликулит приводит к формированию разных по величине и форме очагов атрофического облысения. Хроническое с периодами обострений и ремиссий течение дерматоза продолжается в течение многих лет и даже десятилетий [39].
Дерматоскопическая картина
Дерматоскопическими признаками декальвирующего фолликулита является наличие множественных волосков, растущих из одного расширенного фолликулярного отверстия (политрихия). Как правило, эти пучки содержат до 5–20 волосяных стержней на фолликулярное отверстие. Можно также наблюдать перифолликулярную эритему в виде звездообразного узора, желтоватого цвета трубчатые чешуйки вокруг стержней волос, корочки и фолликулярные пустулы. При длительных поражениях на трихоскопических снимках преобладают молочно-красные участки без фолликулярных отверстий [10].
Гистологическая картина
Гистопатологически при взятии биопсии с активной границы можно наблюдать расширение фолликулярной воронки, связанное с внутрифолликулярным и перифолликулярным нейтрофильным воспалительным инфильтратом. По мере прогрессирования инфильтрат захватывает весь фолликул и состоит в основном из лимфоцитов и гистиоцитов с присутствием плазматических и многоядерных гигантских клеток. Наличие плазматических клеток может являться ключевым фактором в диагностике декальвирующего фолликулита при его запущенном состоянии. Заключительные стадии характеризуются наличием соединительнотканных тяжей, которые замещают волосяные фолликулы [40].
Aбсцедирующий и подрывающий фолликулит, или перифолликулит волосистой части головы Гоффмана
Воспалительное рецидивирующее заболевание кожи волосистой части головы, характеризуемое образованием абсцессов с последующей рубцовой атрофией. Может развиваться самостоятельно или в тетраде фолликулярной окклюзии совместно с гидраденитом, конглобатными акне и пилонидальными кистами [41].
Заболевание поражает представителей обоих полов, преимущественно в возрасте 18–40 лет. Однако мужчины болеют примерно в 5 раз чаще женщин. Как правило, поражаются макушка и затылочная область, но может быть задействована любая область скальпа. Начинается процесс с фолликулярно расположенных папуло-пустул, но со временем образуются более глубокие абсцессы. В дальнейшем характерно образование плотных болезненных, располагающихся глубоко в дерме узлов размером 0,5 см, цвета кожи, образующих извилистые тяжи-валики. Затем кожа над ними приобретает воспалительную окраску, тяжи увеличиваются до 1–2 см, размягчаются и сливаются. Узлы абсцедируются, и гнойно-геморрагическое содержимое через фистулы под давлением извне выделяется на поверхность гиперемированной и отёчной кожи одновременно в нескольких местах. В конечном итоге, разрастается грубоволокнистая соединительная ткань, формируются атрофические или келоидоподобные рубцы, что приводит к необратимой рубцовой алопеции. Кроме воспалительных узлов, также образуются упруго-эластической консистенции невоспалительные шаровидные узлы (кисты). Течение заболевания длительное, но иногда процесс спонтанно разрешается с образованием рубцов, в том числе келоидных. Начало и острая фаза болезни могут сопровождаться увеличением шейных регионарных лимфатических узлов, субфебрильной температурой, повышением скорости оседания эритроцитов, лейкоцитозом, снижением уровня сывороточного альбумина, повышением содержания глобулинов, изменением клеточного иммунитета [42, 43].
Дерматоскопическая картина
На более ранних стадиях заболевания трихоскопическая картина может симулировать симптомы очаговой алопеции. Наличие фолликулярных и перифолликулярных лимфоцитарных инфильтратов в нижних отделах терминальных фолликулов объясняет трихоскопическое сходство с очаговой алопецией. Вовлечение нижних частей фолликула может привести к телогенy и последующему выпадению волос. Фолликул не может начать новую фазу анагена и остаётся пустым, накапливая кожное сало и кератин, образуя жёлтые точки. Альтернативно, воспаление может нарушить адекватное образование стержня волоса. Ослабленные волосы ломаются, что приводит к образованию сломанных волосков и чёрных точек. На стадии абсцедирования, которая сопровождается выраженным воспалением и характеризуется наличием пустул, узелков и абсцессов, можно наблюдать трёхмерные жёлтые точки (эти жёлтые точки больше, чем те, которые наблюдаются на ранней стадии заболевания, и имеют вид «мыльного пузыря»). Дистрофические волосы, а также жёлтые бесструктурные участки — это «озёра гноя», легко обнаруживаются вокруг волосяных фолликулов и являются типичным признаком подрывающего фолликулита. Могут наблюдаться точечные сосуды с беловатым ореолом, даже если они не являются редкостью при других заболеваниях кожи головы.
Фиброзная стадия имеет трихоскопические признаки, схожие с конечными фазами других рубцовых алопеций, таких как белые области без фолликулярных отверстий, которые представляют тканевый фиброз, клинически описанный как блестящие участки алопеции. Другая особенность, весьма характерная для этой стадии подрывающего фолликулита, — образование кожных расщелин (пазух). Из таких расщелин могут образовываться стержни волос, организованные в пучки разных размеров [44].
Гистологическая картина
При гистологическом исследовании на ранних стадиях наблюдается расширение инфундибулума (от лат. infundibulum — воронка), закупоренного роговыми пробками; отмечаются нейтрофильный инфильтрат в области воронки волосяного фолликула, а также разрушение стенок фолликула с образованием кожных и подкожных абсцессов, которые сообщаются друг с другом свищевыми ходами, покрытыми многослойным плоским эпителием. Собственно эпителий, происходящий из наружной корневой оболочки пролиферирующего фолликула, и составляет основную гистопатологическую находку. В наиболее запущенных стадиях инфильтрат имеет смешанный тип с наличием лимфоцитов, плазматических и гигантских клеток (гранулематозное воспаление). В этой стадии присутствует также обширный фиброз, окружающий абсцессы и свищевые ходы, с разрушением волосяных фолликулов и последующей рубцовой алопецией.
Наличие свищевых ходов позволяет проводить дифференциальную диагностику этого заболевания с другими видами гнойного фолликулита волосистой части головы [40].
ПЕРВИЧНЫЕ РУБЦОВЫЕ АЛОПЕЦИИ СО СМЕШАННЫМ ИНФИЛЬТРАТОМ
Акне-келоид
Термин «акне-келоид» некорректен по сути, поскольку заболевание не является типичной формой угревой болезни, а образующиеся впоследствии рубцы не являются истинным келоидом.
Заболевание характерно для афроамериканских мужчин, реже встречается у латиноамериканцев и азиатов, совсем редко — у европейцев. Мужчины страдают акне-келоидом в 20 раз чаще женщин [45]. Пик заболеваемости приходится на возраст от 14 до 25 лет.
Этиопатогенез акне-келоида не изучен, однако значительное преобладание пациентов мужского пола и начало заболевания в пубертатном периоде наталкивают на мысль о роли андрогенов в развитии данного дерматоза. Высокая заболеваемость среди афроамериканцев может свидетельствовать о наличии генетической предрасположенности и связи заболевания с особенностями строения волосяного фолликула и стержня волоса у лиц африканского происхождения. Существует предположение, что акне-келоид является формой механически индуцированного фолликулита, при которой вросшие стержни волос повреждают стенку волосяного фолликула, вызывая гранулематозное воспаление с последующим развитием фиброза. Предрасполагающими к развитию хронического воспалительного процесса факторами могут быть различные виды травматизации волосяного фолликула (бритьё, тесные воротники рубашек, трение от спортивного снаряжения), внутрифолликулярные антигены (кожное сало, кератиноциты, нормальная микрофлора и продукты её метаболизма), применение некоторых видов косметической продукции, лекарственных препаратов (циклоспорин, карбамазепин), присоединение вторичной инфекции [46].
«Излюбленной» локализацией процесса является затылочная область волосистой части головы и примыкающая к ней задняя поверхность шеи; редко вовлекается макушка и теменная область. Заболевание начинается через несколько часов или дней после стрижки или любого другого вида раздражения. Поражения первоначально проявляются в виде пустул, зудящих и болезненных фолликулярных папул красного или застойно-красного цвета, впоследствии сливающихся в бляшки.
В отличие от истинных обыкновенных угрей, комедоны не являются характерной чертой акне-келоида. Сильный зуд приводит к расчёсам, появлению геморрагических корочек и присоединению вторичной инфекции, что не только усугубляет процесс, но и способствует его распространению и латеральному росту очага с образованием линейных келоидных бляшек до 10 см в диаметре, расположенных в виде полосы по задней границе роста волоса, а также образованию абсцессов и пазух с гнойным зловонным отделяемым. По краю бляшек могут наблюдаться повреждённые стержни волос, скрученные и вросшие волосы, а также волосы, растущие пучками из одного фолликула, «кукольные волосы». Процесс склонен к хроническому рецидивирующему течению с развитием рубцовой алопеции [47].
Гистологическая картина
При гистологическом исследовании обнаруживаются перифолликулярное хроническое воспаление с лимфоцитарными и плазмоцитарными клетками, которое наиболее интенсивно на уровне перешейка и нижней части воронки волосяного фолликула; полное исчезновение или разрушение сальных желёз, связанных с воспалёнными или разрушенными фолликулами. На уровне перешейка можно увидеть истончение фолликулярного эпителия, иногда наблюдают несколько волосяных стержней в одной расширенной воронке, тафтинговые, или «кукольные», волосы. Описаны случаи преждевременной десквамации внутреннего корневого слоя и разрушение фолликулярного эпителия с гранулематозным воспалением. Волосяные фолликулы могут быть заменены соединительной тканью [48].
Дерматоскопическая картина
Основной дерматоскопический признак акне-келоида — наличие нескольких стержней волос, пронизывающих центральную часть папулы, а также «кукольные» волосы. Пучки волос становятся особенно заметными, когда папулы сливаются в бляшки [46].
Некротические угри (аcne necrotica varioliformis), или некротический фолликулит
Чрезвычайно редкое хроническое рецидивирующее заболевание неизвестной этиологии, не являющееся разновидностью угревой болезни, а лишь имеющее с ней клиническое сходство. Проявляется повторными вспышками воспалительных болезненных и зудящих фолликулярных папулопустулёзных и узловатых элементов с последующим центральным некрозом и дальнейшим формированием струпа и осповидного (вариолиформного) рубца [49].
В развитии данного заболевания предполагалась связь с бактериальной, вирусной и микотической инфекцией, однако убедительных данных, подтверждающих предположения об инфекционном происхождении заболевания, на сегодняшний день нет, и поиски в этом направлении продолжаются. В литературе приводятся сообщения о развитии аномальной воспалительной реакции на патогенные микроорганизмы, такие как Propinibacterium acnes, Malassesia spp., Demodex folliculorum и Staphylococus aureus в более тяжёлых случаях [50]. Механические факторы, такие как трение и расчёсывание, усугубляют болезнь, но не являются её причиной. Медикаментозная и пищевая аллергия также не играют роли в патогенезе некротического фолликулита.
Судя по ограниченным данным, заболевание поражает чаще женщин, чем мужчин, и обычно начинается в четвертом и пятом десятилетии жизни. Локализация процесса чаще отмечается в лобной и теменной области волосистой части головы (особенно по передней линии роста волос), нередко поражаются и другие себорейные зоны, такие как лицо, межлопаточная область и область грудины. На ранних стадиях появляются папуло-везикулы, содержимое которых быстро приобретает гнойный характер, и они трансформируются в пустулы. Болезненные, от красного до красновато-коричневого цвета фолликулярные папулы размером 2–6 мм впоследствии некротизируются, оставляя после себя геморрагические корочки. Процесс заканчивается образованием глубоких рубцов. Клиническая картина имеет сходство с ветряной оспой, поэтому более раннее название дерматоза — аcne varioliformis. Процесс носит хронический рецидивирующий характер и может длиться годами [51].
Гистологическая картина
В гистологической картине исходные очаги поражения представлены спонгиозом, лимфоцитарным экзоцитозом, дискератозом, обильным перифолликулярным и периваскулярным лимфоцитарным инфильтратом. По мере прогрессирования поражения некротические кератиноциты объединяются, образуя общий некроз прилегающего фолликулярного эпителия, эпидермиса и адвентициальной дермы. В этой области некроза часто наблюдаются остаточные фрагменты волосяных стержней [4, 49].
Эрозивный пустулёзный дерматоз кожи волосистой части головы
Редкий хронический дерматоз неизвестной этиологии, встречающийся преимущественно в пожилом возрасте, чаще у женщин европеоидной расы в соотношении 2:1 к мужчинам; крайне редко наблюдается у молодых людей и детей [52].
Этиология заболевания до сих пор не выяснена, тем не менее высказаны предположения, что состояние может быть вызвано предшествующей травмой, ультрафиолетовым облучением, радиацией, опоясывающим герпесом, лечением топическим фторурацилом или имиквимодом, фотодинамической или криотерапией [53]. Предполагается также связь эрозивного пустулёза с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, в частности ревматоидным артритом, аутоиммунным гепатитом, тиреоидитом Хашимото и др. Учитывая клинические и патологические особенности эрозивного пустулёзного дерматоза, выраженные аберрантной воспалительной реакцией на заживление ран, хроническим воспалением и предрасположенностью к инфекции у пожилых людей, выдвигаются предположения о связи состояния с иммунным старением.
Характерным признаком болезни является развитие стерильных пустул, склонных к слиянию и образованию на эритематозном фоне длительно существующих, частично или полностью покрытых серозно-гнойными корками эрозий. Эрозии чаще всего поверхностные, неправильной формы, кожа вокруг них атрофична. Могут наблюдаться глубокие язвы. Системные симптомы, лихорадка, гиперемия, отёк, региональная лимфаденопатия отсутствуют. В большинстве случаев отмечаются невыраженные боль и зуд. Высыпания локализуются в области волосистой части головы, реже в области нижних конечностей и лица. Это состояние имеет медленно прогрессирующее и иногда рецидивирующее течение, со временем захватывающее обширные участки скальпа. Нередко присоединяется вторичная инфекция. Когда, в конечном итоге, происходит заживление, обычно возникает остаточная рубцовая алопеция на поражённых участках кожи головы. Описаны случаи возникновения в них базальноклеточного и плоскоклеточного рака [54].
Гистологическая картина
Гистология выявляет неспецифические изменения в виде эпидермальных аномалий — атрофию, акантоз, паракератоз и субкорнеальные пустулы. В дерме обычно присутствует инфильтрат смешанного характера, состоящий из лимфоцитов, нейтрофилов, плазматических клеток и в некоторых случаях гигантских клеток типа инородного тела. На более поздних стадиях наблюдается массивный фиброз дермы со значительным уменьшением плотности волосяных фолликулов и отсутствием сальных желёз с нейтрофильным инфильтратом, присутствующим вокруг волосяных фолликулов на уровне перешейка [40, 55].
Дерматоскопическая картина
Дерматоскопическое исследование наиболее часто выявляет атрофическую истончённую кожу головы, отсутствие устьев фолликулов, поверхностные кровеносные сосуды (телеангиэктазии), просвечивающиеся через истончённую кожу скальпа волосяные луковицы, что является наиболее специфичным трихоскопическим признаком эрозивного пустулёзного дерматоза волосистой части головы [56].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необратимые изменения кожи волосистой части головы, сопровождающие рубцовые алопеции, негативно влияют на психоэмоциональный статус пациентов и существенно снижают качество их жизни, обусловливая актуальность проблемы, несмотря на относительно невысокую распространённость заболеваний данной группы. Приведённый анализ литературных данных раскрывает особенности клинической картины, нюансы течения первичных рубцовых алопеций, а также демонстрирует основные гистологические и дерматоскопические признаки, помогая избежать возможных ошибок в диагностике.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования при подготовке публикации.
Конфликт интересов. Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Участие авторов. Автор подтверждает соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (разработка концепции, подготовка статьи, одобрение финальной версии перед публикацией).
ADDITIONAL INFO
Funding source. This publication was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The author declare that they have no competing interests.
Author contribution. The athor made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
作者简介
Irina Zvezdina
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov
编辑信件的主要联系方式.
Email: zvezdinhome@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5532-0672
SPIN 代码: 2883-2408
Cand. Sci. (Med.), Assistant Professor
俄罗斯联邦, 20/1, Delegatskaya street, Moscow, 127473参考
- Gusakov NI. History of Russian dermatovenerology. Moscow: Avvallon; 2007. 461 р. (In Russ).
- Harries MJ, Paus R. The pathogenesis of primary cicatricial alopecias. Am J Pathol. 2010;177(5):2152–2162. doi: 10.2353/ajpath.2010.100454
- Olsen E, Stenn K, Bergfeld W, et al. Update on cicatricial alopecia. J Investig Dermatol Symp Proc. 2003;8(1):18–19. doi: 10.1046/j.1523-1747.2003.12166.x
- Bolduc C, Sperling LC, Shapiro J. Primary cicatricial alopecia: Other lymphocytic primary cicatricial alopecias and neutrophilic and mixed primary cicatricial alopecias. J Am Acad Dermatol. 2016;75(6):1101–1117. doi: 10.1016/j.jaad.2015.01.056
- Zagrtdinova RM, Lyashenko NV, Zagrtdinova RN, Bychkova NYu. Alopecia: pathogenetic and clinical characteristics, treatment methods. Izhevsk : Izhevsk Statu Medicinae Academiae; 2016. 79 р. (In Russ).
- Mikhneva EN, Gavrilyuk AV. Diagnosis of Broca’s pseudopelada and discoid lupus erythematosus of the scalp using dermatoscopy. Dermatovenerology. Cosmetology. Sexopatology. 2011;(1-4):212–214. (In Russ).
- Zhulimova NL, Zilberberg NL, Rimar OG. Pseudopelade Brocq as a separate disease conformed by clinical and histological implications. Lechasсhi Vrach. 2014;(9):81–83. (In Russ).
- Kretz CC, Norpo M, Abeler-Dorner L, et al. Anti-annexin 1 antibodies: a new diagnostic marker in the serum of patients with discoid lupus erythematosus. Exp Dermatol. 2010;19(10):919–921. doi: 10.1111/j.1600-0625.2010.01145.x
- Rakowska A, Slowinska M, Kowalska-Oledzka E, et al. Trichoscopy of cicatricial alopecia. J Drugs Dermatol. 2012;11(6):753–758.
- Karadag Kose O, Gulec AT. Evaluation of a handheld dermatoscope in clinical diagnosis of primary cicatricial alopecias. Dermatol Ther (Heidelb). 2019;9(3):525–535. doi: 10.1007/s13555-019-0304-3
- Assouly P, Reygagne P. Lichen planopilaris: update on diagnosis and treatment. Semin Cutan Med Surg. 2009;28(1):3–10. doi: 10.1016/j.sder.2008.12.006
- Fedotova KYu, Zhukova OV, Kruglova LS, Ptashinsky RI. Lichen ruber planus: etiology, pathogenesis, clinical entities, histological pattern and the main treatment principles. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2014;12(6):9–20. (In Russ).
- Piguet V, Breathnach SM, Le Cleach L. Lichen planus and lichenoid disorders. In: Rook’s Textbook of Dermatology. Vol. 37. Oxford: Wiley-Blackwell; 2016. Р. 6–7. doi: 10.1002/9781118441213.rtd0038
- Kossard S. Postmenopausal frontal fibrosing alopecia. Scarring alopecia in a pattern distribution. Arch Dermatol. 1994;130(6):770–774.
- Kanti V, Constantinou A, Reygagne P, et al. Frontal fibrosing alopecia: demographic and clinical characteristics of 490 cases. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(10):1976–1983. doi: 10.1111/jdv.15735
- Romanova YuYu, Gadzhigoroeva AG, Lvov AN. Classification and differential diagnosis of the frontal fibrosing alopecia. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2015;14(5):130–134. (In Russ).
- Tan KT, Messenger AG. Frontal fibrosing alopecia: clinical presentations and prognosis. Br J Dermatol. 2009;160(1):75–79. doi: 10.1111/j.1365-2133.2008.08861.x
- Vano-Galvan S, Molina-Ruiz AM, Serrano-Falcon C, et al. Frontal fibrosing alopecia: a multicenter review of 355 patients. J Am Acad Dermatol. 2014;70(4):670–678. doi: 10.1016/j.jaad.2013.12.003
- Dlova NC, Jordaan HF, Skenjane A, et al. Frontal fibrosing alopecia: a clinical review of 20 black patients from South Africa. Br J Dermatol. 2013;169(4):939–941. doi: 10.1111/bjd.12424
- Tolkachjov SN, Chaudhry HM, Camilleri MJ, Torgerson RR. Frontal fibrosing alopecia among men: a clinicopathologic study of 7 cases. J Am Acad Dermatol. 2017;77(4):683–690.e2. doi: 10.1016/j.jaad.2017.05.045
- Holmes S. Frontal fibrosing alopecia. Skin Therapy Lett. 2016;21(4):5–7.
- Diwan N, Gohil S, Nair PA. Primary idiopathic pseudopelade of brocq: five case reports. Int J Trichol. 2014;6(1):27–30. doi: 10.4103/0974-7753.136759
- Korsunskaya IM, Guseva SD, Nevozinskaya ZA. In quaestione de Brocq scriptor pseudopelade. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2015;14(3):17–21. (In Russ).
- Nair PA, Singhal R, Pariath K. Primary idiopathic pseudopelade of Brocq in a young child. Int J Trichol. 2017;9(3):113–115. doi: 10.4103/ijt.ijt_24_17
- Amato L, Mei S, Massi D, et al. Cicatricial alopecia; a dermatopathologic and immunopathologic study of 33 patients (pseudopelade of Brocq is not a specific clinico-pathologic entity). Int J Dermatol. 2002;41(1):8–15. doi: 10.1046/j.1365-4362.2002.01331.x
- Elston DM, McCollough ML, Warschaw KE, Bergfeld WF. Elastic tissue in scars and alopecia. J Cutan Pathol. 2000;27(3):147–152. doi: 10.1034/j.1600-0560.2000.027003147.x
- Rudnicka L, Olszewska M, Rakowska A. Atlas of Trichoscopy. Dermoscopy in Hair and Scalp Disease. Springer; 2012. Р. 339–344.
- Khumalo NP, Jessop S, Gumedze F, Ehrlich R. Hairdressing and the prevalence of scalp disease in African adults. Br J Dermatol. 2007;157(5):981–988. doi: 10.1111/j.1365-2133.2007.08146.x
- Olsen EA, Callender V, McMichael A, et al. Central hair loss in African American women: incidence and potential risk factors. J Am Acad Dermatol. 2011;64(2):245–252. doi: 10.1016/j.jaad.2009.11.693
- LoPresti P, Papa CM, Kligman AM. Hot comb alopecia. Arch Dermatol. 1968;98(3):234–238.
- Malki L, Sarig O, Romano MT, et al. Variant PADI3 in central centrifugal cicatricial alopecia. N Engl J Med. 2019;380(9):833–841. doi: 10.1056/NEJMoa1816614
- Herskovitz I, Miteva M. Central centrifugal cicatricial alopecia: challenges and solutions. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2016;9:175–181. doi: 10.2147/CCID.S100816
- Miteva M, Tosti A. Pathologic diagnosis of central centrifugal cicatricial alopecia on horizontal sections. Am J Dermatopathol. 2014;36(11):859–864; quiz 865-7. doi: 10.1097/DAD.0000000000000174
- Miteva M, Tosti A. Dermatoscopic features of central centrifugal cicatricial alopecia. J Am Acad Dermatol. 2014;71(3):443–449. doi: 10.1016/j.jaad.2014.04.069
- Porteous ME, Strain L, Logie LJ, Herd RM, Benton EC. Keratosis follicularis spinulosa decalvans: confirmation of linkage to Xp22.13-p22.2. J Med Genet. 1998;35(4):336–337. doi: 10.1136/jmg.35.4.336
- Sanke S, Mendiratta V, Singh A, Chander R. Keratosis follicularis spinulosa decalvans with associated mental retardation: response to isotretinoin. Int J Trichol. 2017;9(3):138–139. doi: 10.4103/ijt.ijt_25_17
- Malvankar DD, Sacchidanand S. Keratosis follicularis spinulosa decalvans: a report of three cases. Int J Trichol. 2015;7(3):125–128. doi: 10.4103/0974-7753.167461
- Tosti A, Torres F. Dermoscopy in the diagnosis of hair and scalp disorders. Actas Dermosifiliogr. 2009;100(Suppl 1):114–119. doi: 10.1016/s0001-7310(09)73176-x
- Okhlopkov VA, Zubareva EYu, Radul EV. Quinquauds disease: a case study. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2018;17(1):30–33. (In Russ).
- Bernardez C, Molina-Ruiz AM, Requena L. Histologic features of alopecias: part II: scarring alopecias. Actas Dermosifiliogr. 2015;106(4):260–270. doi: 10.1016/j.ad.2014.06.016
- Mildzikhova DR, Sakaniya LR, Korsunskaya IM. Inverse acne: folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens of Hoffman. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2018;17(4):110–113. (In Russ).
- Yutskovskaya YaA, Yutskovsky AD, Taran MG, Malova TA. A clinical event of perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens of Hoffmann. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology. 2012;(2):33–39. (In Russ).
- Lee CN, Chen W, Hsu CK, et al. Dissecting folliculitis (dissecting cellulitis) of the scalp: a 66-patient case series and proposal of classification. J Dtsch Dermatol Ges. 2018;16(10):1219–1226. doi: 10.1111/ddg.13649
- Melo DF, Lemes LR, Pirmez R, Duque-Estrada B. Trichoscopic stages of dissecting cellulitis: a potential complementary tool to clinical assessment. An Bras Dermatol. 2020;95(4):514–517. doi: 10.1016/j.abd.2019.10.008
- Salami T, Omeife H, Samuel S. Prevalence of acne keloidalis nuchae in Nigerians. Int J Dermatol. 2007;46(5):482–484. doi: 10.1111/j.1365-4632.2007.03069.x
- Ogunbiyi A. Acne keloidalis nuchae: prevalence, impact, and management challenges. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2016;9:483–489. doi: 10.2147/CCID.S99225
- Lozano Pena АК, Flores MG, Candiani JO. Primary cicatricial alopecia, diagnosis and treatment updates. Dermatologia CMQ. 2017;15(4):255–264.
- Sperling LC, Homoky C, Pratt L, Sau P. Acne keloidalis is a form of primary scarring alopecia. Arch Dermatol. 2000;136(4):479–484. doi: 10.1001/archderm.136.4.479
- Kossard S, Collins A, McCrossin I. Necrotizing lymphocytic folliculitis: the early lesion of acne necrotica (varioliformis). J Am Acad Dermatol. 1987;16(5 Pt 1):1007–1014. doi: 10.1016/s0190-9622(87)80408-5
- Nikolic M, Peric J, Skiljevic D. Acne necrotica (Varioliformis) — case report. Serbian J Dermatol Venereol. 2019;11(3):94–97. doi: 10.2478/sjdv-2019-0014
- Pitney LK, O’Brien B, Pitney MJ. Acne necrotica (necrotizing lymphocytic folliculitis): An enigmatic and under-recognised dermatosis. Australas J Dermatol. 2018;59(1):e53–e58. doi: 10.1111/ajd.12592
- Vaccaro M, Guarneri C, Barbuzza O, Guarneri B. Erosive pustular dermatosis of the scalp: an uncommon condition typical of elderly patients. J Am Geriatr Soc. 2008;56(4):761–762. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.01615.x
- Vaccaro M, Barbuzza O, Guarneri B. Erosive pustular dermatosis of the scalp following treatment with topical imiquimod for actinic keratosis. Arch Dermatol. 2009;145(11):1340–1341. doi: 10.1001/archdermatol.2009.278
- Thuraisingam T, Mirmirani P. Erosive pustular dermatosis: a manifestation of immunosenescence a report of 8 cases. Skin Appendage Disord. 2018;4(3):180–186. doi: 10.1159/000484488
- Starace M, Loi C, Bruni F, et al. Erosive pustular dermatosis of the scalp: Clinical, trichoscopic, and histopathologic features of 20 cases. J Am Acad Dermatol. 2017;76(6):1109–1114.e2. doi: 10.1016/j.jaad.2016.12.016
- Starace M, Patrizi A, Piraccini BM. Visualization of hair bulbs through the scalp: a trichoscopic feature of erosive pustular dermatitis of the scalp. Int J Trichol. 2016;8(2):91–93. doi: 10.4103/0974-7753.188038
补充文件