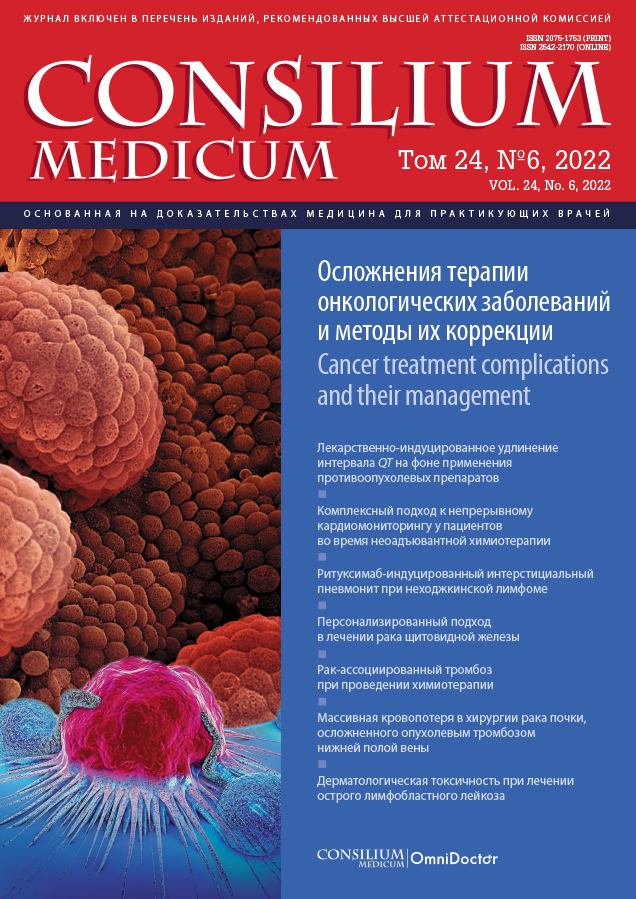Комплексный подход к непрерывному кардиомониторингу у пациентов во время неоадъювантной химиотерапии
- Авторы: Бузиашвили Ю.И.1, Стилиди И.С.2, Асымбекова Э.У.1, Мацкеплишвили С.Т.1, Артамонова Е.В.2,3,4, Ахмедярова Н.К.1, Шерстянникова О.М.1, Акилджонов Ф.Р.1
-
Учреждения:
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
- ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
- ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»
- Выпуск: Том 24, № 6 (2022)
- Страницы: 399-407
- Раздел: Статьи
- Статья опубликована: 15.06.2022
- URL: https://consilium.orscience.ru/2075-1753/article/view/109881
- DOI: https://doi.org/10.26442/20751753.2022.6.201700
- ID: 109881
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. Недавние достижения в области таргетной химиотерапии привели к улучшению исходов у пациенток с раком молочной железы (РМЖ) и снижению общей смертности. Неоадъювантная химиотерапия (НАХТ) используется для уменьшения степени инвазии и процессов диссеминации в организме у онкологических пациентов. Традиционный подход с помощью оценки серийной эхокардиографии выявляет значительные изменения фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) и обеспечивает ограниченную прогностическую чувствительность и специфичность при непрерывном кардиомониторинге. Алгоритмы оценки состояния сердечно-сосудистой системы (ССС), предложенные в мировой литературе, включают оценку ФВ ЛЖ, тканевую допплерографию (ТД) и определение уровней сывороточных биомаркеров. Однако применение данного подхода в клинической рутинной практике ограничено из-за низкой экономической эффективности и осведомленности врачей.
Цель. Провести комплексную оценку показателей систолической и диастолической функции, деформации, тканевой гармоники миокарда и уровней кардиоспецифических биомаркеров в качестве инструмента прогнозирования и стратификации риска кардиотоксичности, ассоциированной с химиотерапией.
Материалы и методы. В проспективное наблюдательное исследование включены 72 пациентки с подтвержденным диагнозом РМЖ во время проведения НАХТ, которым проведена комплексная оценка ССС в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» в качестве непрерывного кардиомониторинга в период с марта 2021 по февраль 2022 г., средний возраст всех пациенток составил 47,9±11,9 года, стадии опухолевого процесса варьировали между I и IV. Клинические методы исследования включали в себя сбор клинико-анамнестических данных и последовательный анализ эхокардиографических параметров, а также уровень сывороточных биомаркеров. Всем пациентам проводились 2D- и М-режимы эхокардиографии, импульсно-волновая допплерография для определения скорости кровотока через митральный клапан и ТД для правого и левого желудочков в соответствии с рекомендациями Американского общества эхокардиографистов (ASE). Согласно клиническим рекомендациям ASE оценена систолическая и диастолическая функция ЛЖ. Пиковая продольная деформация ЛЖ и левого предсердия (ЛП) в различных проекциях проанализирована с помощью рабочей станции Qlab (Philips Qlab, версия 10.5, CMQ; Philips Healthcare, Ботелл, Вашингтон, США). Также проводился анализ сывороточных уровней кардиоспецифических биомаркеров, таких как мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) и белок ST-2 (стимулирующий фактор роста). Кровь натощак использовали для определения уровня растворимого ST-2 и NT-proBNP до проведения НАХТ, на промежуточном и конечном этапе. Уровень растворимого ST-2 измеряли с использованием метода ELISA (R/D Systems, Миннеаполис, Миннесота) и NT-proBNP с использованием метода электрохемилюминесцентного иммуноанализа (Elecsys proBNP, Roche Diagnostics, Индианаполис, Индиана) в соответствии с инструкциями производителя.
Результаты. В нашем исследовании мы оценили ранние изменения миокарда ЛЖ во время проведения НАХТ у пациенток с РМЖ. Уровень содержания обоих маркеров начинает увеличиваться уже во время проведения НАХТ с последующим увеличением после окончания терапии. Так, NT-proBNP с 74,4±25 пг/мл увеличился до 98,9±22 пг/мл на промежуточном этапе и до 110,7±21 пг/мл на конечном этапе. ST-2 увеличился с 25±4,5 нг/мл до 29±3 нг/мл и 31±3 нг/мл. У части (24%) пациентов на конечном этапе обследования уровень NT-ProBNP имел патологические значения и превышал 124 пг/мл. По-другому обстоит дело с ФВ ЛЖ – которая в 1-й группе снижалась на 11%, а во 2-й группе – всего лишь на 6%, но тем не менее значимо. Показатели диастолической функции ЛЖ страдают на фоне приема НАХТ, основными показателями, увеличившимися после НАХТ, оказались объемы ЛП в обеих группах, отношение Е/А и фракция систолического наполнения. Ранняя диастолическая скорость по боковой стенке достоверно уменьшалась только в группе с чрезмерным повышением NT-proBNP после НАХТ. Также представлены результаты изменения показателей деформации миокарда ЛЖ и ЛП до и после НАХТ. Мы наблюдаем значимое ухудшение показателей общей деформации миокарда и деформацию при различных позициях после НАХТ. При анализе сывороточных биомаркеров процент прироста NT-proBNP коррелировал с ухудшением ФВ ЛЖ (коэффициент Спирмана -0,34, р<0,05). Ухудшение по биомаркеру NT-proBNP более 10% имеет прогностическое значение выраженной кардиотоксичности НАХТ с χ2=7,17, р=0,008. При множественной регрессии получена модель, где сочетание указанных показателей имело статистическое значение. Степень изменения маркера ST-2 имела достоверные корреляционные связи со степенью изменения конечно-систолического объема (КСО), объема ЛП, общей продольной деформации, деформации и скорости деформации при 4- и 2-камерном исследовании, а также скорости деформации ЛП. Все 72 пациентки с РМЖ исходно до проведения НАХТ имели сохранную систолическую функцию ЛЖ. Во время НАХТ на этапе промежуточного исследования отмечается увеличение индекса КСО (р=0,02 по сравнению с исходным значением), сразу после окончания курса НАХТ наблюдалось дальнейшее прогрессирование индекса КСО (р=0,006 по сравнению с исходным значением). ФВ при промежуточном исследовании снизилась на 4,5% и после окончания НАХТ – на 8,3%.
Заключение. На основании наших результатов, принимая во внимание всю популяцию пациентов, НАХТ, несомненно, вызывает изменения систолической и диастолической функции, снижение скоростных показателей стенок и показателей деформации миокарда ЛЖ и ЛП, увеличение уровней сывороточных биомаркеров. Наиболее чувствительным и специфичным маркером субклинической дисфункции миокарда ЛЖ являются показатели диастолической функции и деформации миокарда ЛЖ и ЛП, также уровень сывороточных биомаркеров – NT-proBNP и ST-2. Многообразие клинических проявлений кардиотоксичности, длительный период скрытого течения и прогрессирующий характер заболевания подчеркивают необходимость раннего скрининга и продолжительного динамического наблюдения за пациентами после химиотерапии. Данный алгоритм комплексной оценки ССС может стать более широко используемым неинвазивным методом и эффективным инструментом в прогнозировании высокого риска кардиотоксичности.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в анамнезе значительно увеличилась за последние 30 лет, отчасти благодаря открытию новых терапевтических мишеней для химиотерапии и ранней верификации клинического диагноза. Недавние достижения в области таргетной химиотерапии привели к улучшению исходов у пациенток с раком молочной железы (РМЖ) и снижению общей смертности. В 25% случаев при РМЖ наблюдается избыточная экспрессия человеческого эпидермального фактора роста 2 (HER2) на клеточной поверхности тирозинкиназного рецептора. У пациентов с HER2+ РМЖ зарегистрирована наиболее агрессивная форма заболевания, ассоциированная с более высоким риском рецидива и смертности [1]. Неоадъювантная химиотерапия (НАХТ) используется для уменьшения степени инвазии и процессов диссеминации в организме у онкологических пациентов. В крупных рандомизированных исследованиях выявлено, что добавление неоадъювантной терапии увеличивает полный патологический ответ на ранней стадии HER2+ РМЖ [2, 3]. Кардиотоксичность является наиболее распространенным побочным эффектом, связанным с НАХТ, и характеризуется систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ), клинически проявляющейся сердечной недостаточностью (СН), а также развитием желудочковых нарушений ритма сердца. Кардиотоксичность является важным фактором повышенного риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Частота кардиотоксичности, ассоциированной с химиотерапией (КАХ), составляет около 36%, при этом 6% пациентов имеют клинически выраженную кардиотоксичность и 18% – субклинические проявления кардиотоксичности [4]. Несмотря на противоопухолевое действие, НАХТ связана с дозозависимой, потенциально обратимой кардиотоксичностью, определяемой как снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ на 10 процентных пунктов, до <53% [5]. Валидированными маркерами субклинической кардиотоксичности являются снижение ФВ ЛЖ, ухудшение продольной деформации миокарда (GLS) или повышение уровня сывороточных биомаркеров. Традиционный подход с помощью оценки серийной эхокардиографии (ЭхоКГ) выявляет значительные изменения ФВ ЛЖ и обеспечивает ограниченную прогностическую чувствительность и специфичность при непрерывном кардиомониторинге. Алгоритмы оценки состояния сердечно-сосудистой системы (ССС), предложенные в мировой литературе, включают оценку ФВ ЛЖ, тканевую допплерографию и определение уровней сывороточных биомаркеров [6, 7]. Однако применение данного подхода в клинической рутинной практике ограничено из-за низкой экономической эффективности и осведомленности врачей.
Целью исследования является комплексная оценка показателей качества жизни, систолической и диастолической функции, деформации, тканевой гармоники миокарда и уровней кардиоспецифических биомаркеров в качестве инструмента прогнозирования и стратификации риска КАХ.
Материалы и методы
В проспективное наблюдательное исследование включены 72 пациентки с подтвержденным диагнозом РМЖ во время проведения НАХТ, которым проведена комплексная оценка ССС в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева», в качестве непрерывного кардиомониторинга в период с марта 2021 по февраль 2022 г., средний возраст всех пациенток составил 47,9±11,9 года, стадии опухолевого процесса варьировали между I и IV. Клинические методы исследования включали в себя сбор клинико-анамнестических данных: проводилась оценка симптомов, таких как утомление, тошнота/рвота, слабость, снижение толерантности к физической нагрузке, одышка.
Эхокардиографическая оценка исследования проводилась на эхокардиографическом аппарате iE33 (Philips Medical Systems, Андовер, Массачусетс, США; от 1 до 5 МГц). Измерения производили в течение 3 последовательных сердечных циклов. Всем пациенткам проводились 2D- и М-режимы ЭхоКГ, импульсно-волновая допплерография для определения скорости кровотока через митральный клапан и тканевая допплерография (ТД) для правого и левого желудочков в соответствии с рекомендациями Американского общества эхокардиографистов (ASE). Параметры систолической функции ЛЖ включали индексированный конечно-систолический объем (иКСО), индексированный конечно-диастолический объем (иКДО), ФВ ЛЖ по методу Симпсона и индекс Tei. Сегментарная сократимость миокарда анализировалась с помощью вычисления индекса нарушения сегментарной сократимости (ИНСС). Также рассчитывали коэффициент жесткости (КЖ) по формуле КЖ=70/(DT-20), где DT является временем замедления скорости Е. Для измерения индекса Tei ЛЖ по записи скорости митрального притока определяли время изоволюметрического расслабления, время изоволюметрического напряжения и время выброса (соответственно IVRT, IVRС, ET) и рассчитывали по формуле (IVRT+IVRС)/ET. Для измерения индекса времени все допплеровские записи получены в соответствии с критериями руководящих принципов количественной оценки ASE. Скорости движения митрального кольца измерялись по 4 точкам с использованием импульсно-волновой ТД. Согласно клиническим рекомендациям ASE оценена диастолическая функция ЛЖ.
Продольная пиковая диастолическая деформация ЛЖ в 4-камерной проекции проанализирована с помощью рабочей станции Qlab (Philips Qlab, версия 10.5, CMQ; Philips Healthcare, Ботелл, Вашингтон, США). Все измерения проведены по каждому параметру на основе 3 расчетов и предоставлены их средние значения. Проанализированы показатели деформации (St) и скорость деформации (SR). Деформационные показатели левого предсердия (ЛП) в 4-камерной проекции проанализированы также с помощью рабочей станции Qlab. Рассчитанными параметрами стали позитивный и негативный глобальный Strain ЛП (GSA+ и GSA-), ранне-диастолический и поздне-диастолический глобальный Strain Rate (GSRE и GSRL). Также проводился анализ сывороточных уровней кардиоспецифических биомаркеров, таких как мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) и белок ST-2 (стимулирующий фактор роста). Кровь натощак использовали для определения уровня растворимого ST-2 и NT-proBNP до проведения НАХТ, на промежуточном и конечном этапе. Уровень растворимого ST-2 измеряли с помощью метода ELISA (R/D Systems, Миннеаполис, Миннесота) и NT-proBNP с помощью метода электрохемилюминесцентного иммуноанализа (Elecsys proBNP, Roche Diagnostics, Индианаполис, Индиана) в соответствии с инструкциями производителя.
Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0 и в программе Excel Microsoft. Результаты представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение, медианы. После определения нормальности распределения по Колмогорову–Смирнову, индексам Лиллиефорса и Шапиро–Уилка статистическая обработка проводилась с использованием критерия Манна–Уитни, Фишера для непараметрических переменных, критерия Стьюдента для параметрических переменных, расчета коэффициента соответствия χ2, отношения шансов и относительного риска. Показатели считались статистически достоверными при уровне значимости р<0,05.
Результаты
Динамика систолической функции, диастолической функции, деформации.
После окончания НАХТ динамика концентрации биомаркеров – свидетелей неблагоприятного влияния на миокард химиотерапии – показана на рис. 1.
Рис. 1. Динамика изменений концентрации биомаркеров NT-ProBNP и ST-2.
Как видно из рис. 1, уровень содержания обоих маркеров начинает увеличиваться уже во время проведения НАХТ с последующим увеличением после окончания терапии. Так, NT-ProBNP с 74,4±25 пг/мл увеличился до 98,9±22 пг/мл на промежуточном этапе (р=0,00001) и до 110,7±21 пг/мл на конечном этапе (р=0,00001). ST-2 увеличился с 25±4,5 нг/мл до 29±3 нг/мл (р=0,00001) и 31±3 нг/мл (р=0,00001). По степени изменения чувствительность NT-ProBNP оказалась выше, чем ST-2: степень увеличения на промежуточном этапе составила 33 и 16% соответственно, а на конечном этапе – 48 и 24%.
У части (24%) пациентов на конечном этапе обследования уровень NT-ProBNP имел патологические значения и превышал 124 пг/мл. У остальных 76% пациенток изменения NT-ProBNP не превышали данный уровень. Для определения разницы по другим показателям все женщины разделены на 2 группы – 1-я группа (17 женщин) с патологическим повышением NT-ProBNP при НАХТ и 2-я группа – 54 женщины без патологического повышения уровня NT-ProBNP. NT-Pro-BNP исходно в 1-й группе составил 76,8±23,8 пг/мл, а во 2-й группе – 74,2±25 пг/мл (р=0,7), между группами разницы в исходном состоянии не выявлено. После окончания НАХТ уровень NT-ProBNP возрос в 1-й группе до 138,1±12,5 пг/мл (р=0,00001 по сравнению с исходным значением), во 2-й группе – до 102±16,4 пг/мл (р=0,00001 по сравнению с исходным значением). Разница между группами оказалась значимой (р=0,00001). По содержанию маркера ST-2 разницы между группами не выявлено ни до, ни после НАХТ (р=0,2 и 0,9), но в каждой группе увеличение данного маркера стало существенным (1-я группа: исходно 23,4±4,2 пг/мл и после НАХТ – 31,5±2,5 пг/мл, р=0,0001; во 2-й группе – соответственно 25,5±4,5 пг/мл и 31,4±3,4 пг/мл, р=0,00001). В табл. 1 представлены результаты обследования данных двух групп больных.
Таблица 1. Систолическая функция ЛЖ у больных с патологическим повышением NT-ProBNP при НАХТ и без такового | ||||
Исходно | Конечный этап | pи-к | ||
КСО | 1-я группа | 34,1±8,4 | 38,4±9,9 | 0,2 |
2-я группа | 34,3±8 | 38,4±11 | 0,02 | |
p1–2 | 1,0 | 1,0 | ||
КДО | 1-я группа | 88,5±20,1 | 80,5±20 | 0,25 |
2-я группа | 86±16 | 83±16 | 0,3 | |
p1–2 | 0,5 | 0,5 | ||
ФВ | 1-я группа | 61,2±3,6 | 54,7±2,1 | 0,00001 |
2-я группа | 60,1±3,7 | 56,1±3,1 | 0,00001 | |
p1–2 | 0,2 | 0,08 | ||
ИНСС | 1-я группа | 1,0±0 | 1,18±0,2 | 0,0008 |
2-я группа | 1,0±0 | 1,19±0,2 | 0,00001 | |
p1–2 | 1,0 | 0,8 | ||
Примечание. Здесь и далее в табл. 2 и 3: pи-к – p-уровень значимости исходного и конечного этапа химиотерапии. | ||||
Изменения КСО оказались существенными только во 2-й группе, разницы между группами исходно и после НАХТ не выявлено. КДО в обеих группах существенно не изменялся. По-другому обстоит дело с ФВ ЛЖ, которая в 1-й группе снижается на 11%, а во 2-й группе всего лишь на 6%, но тем не менее значимо. Разница между группами являлась недостоверной. ИНСС также между группами не различался исходно и после НАХТ. Но ухудшение сократимости оказалось существенным у всех больных.
Как видно из табл. 2, диастолическая функция ЛЖ страдает на фоне приема НАХТ, основными показателями, увеличившимися после НАХТ, оказались объемы ЛП в обеих группах, отношение Е/А и фракция систолического наполнения. Ранняя диастолическая скорость по боковой стенке достоверно уменьшалась только в группе с чрезмерным повышением NT-ProBNP после НАХТ. По остальным показателям имелась тенденция ухудшения диастолической функции. Разница между группами имела место только по ФСН после НАХТ.
Таблица 2. Диастолическая функция ЛЖ у больных двух групп до и после НАХТ | ||||
Исходно | Конечный этап | pи-к | ||
Объем левого предсердия, мл/м2 | 1-я группа | 32,7±12,7 | 42,6±12,7 | 0,02 |
2-я группа | 36,4±13 | 46,3±13,2 | 0,0002 | |
p1–2 | 0,3 | 0,3 | ||
V трикуспидальной регургитации, см/с | 1-я группа | 230,3±22,8 | 244,8±28,5 | 0,1 |
2-я группа | 230,8±28,6 | 241,6±41,6 | 0,11 | |
p1–2 | 0,9 | 0,76 | ||
e’ laterale, см/с | 1-я группа | 12,6±3,1 | 10,7±2,2 | 0,04 |
2-я группа | 12,3±3,3 | 11,5±2,7 | 0,17 | |
p1–2 | 0,74 | 0,27 | ||
e’ septale, см/с | 1-я группа | 9,9±2,1 | 8,9±1,9 | 0,15 |
2-я группа | 9,6±2,8 | 9,8±2,2 | 0,2 | |
p1–2 | 0,68 | 0,13 | ||
E/e’ | 1-я группа | 7,0±1,5 | 7,2±1,4 | 0,69 |
2-я группа | 7,0±1,3 | 6,5±1,8 | 0,1 | |
p1–2 | 1,0 | 0,14 | ||
E/A | 1-я группа | 1,2±0,2 | 0,7±0,1 | 0,00001 |
2-я группа | 1,15±0,4 | 0,7±0,2 | 0,04 | |
p1–2 | 0,62 | 1,0 | ||
IVRT, м/с | 1-я группа | 94±11 | 97±14 | 0,4 |
2-я группа | 91±16 | 98±13 | 0,01 | |
p1–2 | 0,47 | 0,33 | ||
КЖ | 1-я группа | 0,55±0,17 | 0,62±0,2 | 0,27 |
2-я группа | 0,54±0,14 | 0,59±0,11 | 0,04 | |
p1–2 | 0,8 | 0,4 | ||
Фракция систолического наполнения (ФСН), % | 1-я группа | 0,6±0,06 | 0,4±0,06 | 0,00001 |
2-я группа | 0,58±0,06 | 0,52±0,02 | 0,00001 | |
p1–2 | 0,2 | 0,00001 | ||
В табл. 3 представлены результаты изменения показателей деформации миокарда ЛЖ и ЛП до и после НАХТ. Как видно из табл. 3, деформация миокарда общая и деформация при различных позициях достоверно ухудшаются после НАХТ в обеих группах.
Таблица 3. Динамика показателей деформации ЛЖ и ЛП до и после НАХТ | ||||
Исходно | Конечный этап | pи-к | ||
S mean 3-х, % | 1-я группа | 9,6±1 | 8,4±0,8 | 0,0005 |
2-я группа | 10,3±1,5 | 9,2±1,1* (0,007) | 0,00001 | |
S mean 4-х, % | 1-я группа | 10,6±1,1 | 9±1,2 | 0,0003 |
2-я группа | 10,6±1,5 | 9,2±1,1 | 0,00001 | |
S mean 2-х, % | 1-я группа | 10,2±1,5 | 8,8±1,1 | 0,004 |
2-я группа | 10,3±1,7 | 9,1±1,1 | 0,00001 | |
S total, % | 1-я группа | 10,1±1 | 8,8±0,9 | 0,0004 |
2-я группа | 10,4±1,3 | 9,1±0,9 | 0,00001 | |
SR total, с-1 | 1-я группа | 0,48±0,1 | 0,43±0,09 | 0,83 |
2-я группа | 0,52±0,13 | 0,45±0,1 | 0,002 | |
GSA+, % | 1-я группа | 11,1±2,9 | 10,2±2,5 | 0,33 |
2-я группа | 11,1±2,7 | 9,8±1,8 | 0,004 | |
GSR+, с-1 | 1-я группа | 0,69±0,2 | 0,62±0,14 | 0,24 |
2-я группа | 0,66±0,2 | 0,58±0,1 | 0,009 | |
GSRE, с-1 | 1-я группа | 0,84±0,3 | 0,69±0,15 | 0,07 |
2-я группа | 0,78±0,2 | 0,67±0,2 | 0,005 | |
GSRL, с-1 | 1-я группа | 0,65±0,2 | 0,56±0,1 | 0,1 |
2-я группа | 0,65±0,2 | 0,56±0,1 | 0,1 | |
*Достоверность между группами. | ||||
У больных с меньшим ответом на НАХТ со стороны биомаркеров больше изменяются показатели деформации ЛП. Различий между группами не обнаружено.
Чем больше процент прироста NT-ProBNP, тем больше ухудшение ФВ ЛЖ (коэффициент Спирмена -0,34, р<0,05); рис. 2. Ухудшение по биомаркеру NT-ProBNP более 10% имеет прогностическое значение выраженной кардиотоксичности НАХТ с χ2=7,17, р=0,008.
Рис. 2. Взаимосвязь степени изменения при НАХТ биомаркера NT-ProBNP и степени изменения ФВ ЛЖ.
При множественной регрессии получена модель, где сочетание нижеуказанных показателей имело статистическое значение, что отражено в табл. 4.
Таблица 4. Результаты множественной регрессии | ||||||
Итоги регрессии для зависимой переменной: ухудшение NT-proBNP R=0,84362186 R2=0,71169785 Скоррект. R2=0,67806260 F(7,60)=21,159 p | ||||||
Коэффициенты регресии | Статистическая ошибка – БЕТА | B | Статистическая ошибка – B | t(60) | p | |
Свободный член | 0,985730 | 0,292060 | 3,37510 | 0,001299 | ||
ΔNT-ProBNP | -0,95797 | 0,243952 | -0,534940 | 0,136225 | -3,92689 | 0,000225 |
NT-ProBNP после НАХТ | 1,09748 | 0,141315 | 0,020439 | 0,002632 | 7,76622 | 0,000000 |
NT-proBNP | -1,36334 | 0,230462 | -0,022598 | 0,003820 | -5,91567 | 0,000000 |
ΔSR4 | -0,19557 | 0,073303 | -0,446568 | 0,167379 | -2,66800 | 0,009797 |
ΔФСН | 0,30058 | 0,078166 | 0,973963 | 0,253280 | 3,84540 | 0,000294 |
DT после НАХТ | -0,27027 | 0,076508 | -0,004169 | 0,001180 | -3,53260 | 0,000798 |
Одышка после НАХТ | 0,21025 | 0,073646 | 0,257255 | 0,090113 | 2,85482 | 0,005904 |
Степень изменения маркера ST-2 имела достоверные корреляционные связи со степенью изменения КСО, объема ЛП, общей продольной деформации, деформации и скорости деформации при 4- и 2-камерном исследовании, а также скорости деформации ЛП. Следует отметить, что величина коэффициента Спирмена не такая большая, тем не менее все они статистически достоверны (табл. 5).
Таблица 5. Корреляционная связь между степенью изменения ST-2 и степенью изменения эхокардиографических показателей | |
Степень изменения | Коэффициент Спирмана |
КСО | 0,24 |
Объема ЛП | 0,3 |
Stotal | -0,32 |
S4 | -0,3 |
S2 | -0,3 |
SR4 | -0,24 |
SR2 | -0,3 |
GSR+ | 0,32 |
GSRE | 0,41 |
GSRL | 0,28 |
Все 72 пациентки с РМЖ исходно до проведения НАХТ имели сохранную систолическую функцию ЛЖ. ФВ составила 60,4±3,7%, индексированные показатели конечно- диастолического и конечно-систолического объема в норме, индекс Tei составил 0,54±0,19. Во время НАХТ на этапе промежуточного исследования отмечается увеличение индекса КСО (р=0,02 по сравнению с исходным), сразу после окончания курса НАХТ наблюдалось дальнейшее прогрессирование индекса КСО (р=0,006 по сравнению с исходным значением). Причем размеры ЛЖ в диастолу практически не изменялись. ФВ при промежуточном исследовании снизилась на 4,5% (р=0,00001) и после окончания НАХТ – на 8,3% (р=0,00001). В то же время индекс Tei существенно не менялся (табл. 6).
Таблица 6. Показатели систолической функции ЛЖ исходно, во время и после НАХТ | ||||||
N=72 | Исходно | НАХТ | Окончание НАХТ | p1 | p2 | p3 |
иКСО | 25,1±5,7 | 27,5±(7,1) | 28,2±(7,6) | 0,02 | 0,006 | 0,5 |
иКДО | 63,4±(12,4) | 61,8±(16,8) | 60,6±(12,1) | 0,51 | 0,17 | 0,62 |
ФВ | 60,4±3,7 | 57,7±3,8 | 55,4±2,9 | 0,00001 | 0,00001 | 0,0001 |
Индекс Tei | 0,54±(0,19 | 0,55±(0,17 | 0,57±(0,19) | 0,7 | 0,34 | 0,5 |
В нашем исследовании мы оценили ранние изменения миокарда ЛЖ во время проведения НАХТ у пациенток с РМЖ. На основании наших результатов, принимая во внимание всю популяцию пациентов, НАХТ, несомненно, вызывает изменения систолической и диастолической функции, снижение скоростных показателей стенок и показателей деформации миокарда ЛЖ и ЛП, увеличение кардиоспецифических маркеров. Наиболее чувствительным и специфичным маркером субклинической дисфункции миокарда ЛЖ являются показатели диастолической функции и деформации миокарда ЛЖ и ЛП, также уровень сывороточных биомаркеров – NT-ProBNP и ST-2.
Обсуждение
Не решен вопрос комплексной оценки состояния ССС у пациентов, получающих химиотерапию. Кардиотоксичность может не проявляться в течение многих лет или даже десятилетий и протекать под маской субклинической дисфункции миокарда. Таким образом, данные пациенты должны находиться под непрерывным кардиомониторингом на протяжении всей жизни. Согласно документу ЕОК от 2016 г. кардиотоксичность определяется как снижение сократительной функции миокарда, характеризуемое снижением ФВ ЛЖ более чем на 10%, до уровня менее 53%, и должно быть подтверждено повторным исследованием спустя 3 нед после инициации химиотерапии [8, 9].
С постепенным увеличением общей выживаемости онкологических больных сердечно-сосудистая токсичность, связанная с химио-/лучевой терапией, привлекает все большее внимание врачей-клиницистов. Кардиотоксичность НАХТ впервые обнаружена у пациентов с метастатическим HER2+ РМЖ. Считается, что механизм кардиотоксичности связан с интерференцией кардиопротективных механизмов нейрегулина-1/HER. Ретроспективные исследования показывают значительно более высокие показатели кардиотоксичности, до 32–42%, среди пациентов, получающих НАХТ [10]. Текущие рекомендации по мониторингу КАХ включают рутинную оценку ФВ ЛЖ во время и после химиотерапии, исходя из стратегий непрерывного кардиомониторинга, используемых в рандомизированных клинических исследованиях [11]. Потенциальные преимущества рутинного кардиологического наблюдения включают раннее выявление кардиотоксичности до развития клинических симптомов, что позволяет на ранней стадии инициировать медикаментозную терапию. Тем не менее текущие практические рекомендации Национальной всеобщей онкологической сети и Американского общества клинической онкологии подтверждают, что на данный момент оптимальная частота кардиомониторинга остается неясной. Хотя пациентам, получающим НАХТ, рекомендуется непрерывный кардиомониторинг, во всех руководствах отмечается, что оптимальный интервал не определен 12]. Чрезмерный скрининг на кардиотоксичность также представляет потенциальный вред для пациентов, что несет определенную нагрузку на систему здравоохранения. Одной из возможных стратегий является адаптация режима кардиомониторинга на основе индивидуального риска кардиотоксичности, определяемого исходными факторами сердечно-сосудистого риска.
Исследовательскими группами по визуализации в кардиоонкологии ЕОК в сотрудничестве с EACVI оценены современные данные о роли визуализации сердечно- сосудистых заболеваний, включая трансторакальную ЭхоКГ, магнитно-резонансную томографию и компьютерную томографию до, во время и после химиотерапии [13].
Серийная оценка ФВ ЛЖ является наиболее точным параметром для рутинного мониторинга КАХ у онкологических пациентов. Динамику ФВ ЛЖ следует оценивать путем сравнения исходных и последующих значений. D. Cardinale и соавт. (2020 г.) продемонстрировали, что ФВ ЛЖ является прогностическим маркером КАХ [14]. Хотя некоторые авторы подвергают сомнению роль ФВ ЛЖ из-за низкой чувствительности и специфичности, O. Oren и соавт. (2021 г.) обнаружили, что сократительная способность миокарда ЛЖ значительно снижалась сразу после завершения курсов химиотерапии, а субклинические изменения миокарда присутствовали у большего числа пациентов [15]. Большинство этих данных свидетельствуют о поздних изменениях ФВ ЛЖ у пациентов, получавших химиотерапию. L. Wang и соавт. в своем исследовании продемонстрировали, что значения ФВ ЛЖ до лечения оказались предикторами более позднего возникновения СН у пациентов, получавших таргетную терапию [16]. Прогностическая ценность и сроки серийных измерений ФВ ЛЖ во время химиотерапии для верификации и мониторинга КАХ остаются до конца неясными.
Совместные рекомендации ASE/EACVI по диастолической функции поддерживают проведение комплексной оценки диастолической функции ЛЖ у онкологических пациентов [17]. У пациентов с систолической дисфункцией часто наблюдается сопутствующая диастолическая дисфункция. В проспективных исследованиях сообщалось, что удлинение и снижение параметров диастолической функции предсказывало снижение ФВ ЛЖ более чем на 10% в течение 3 мес, а значительное увеличение индекса контрактильности миокарда сразу после введения НАХТ предсказывало неблагоприятные отдаленные результаты [18, 19]. Клинические проявления правожелудочковой недостаточности крайне редки, но некоторые препараты, такие как антрациклин, циклофосфамид и 5-фторурацил, вызывают нарушение систолической и диастолической функции правого желудочка (ПЖ). Эхокардиографическая оценка ПЖ у пациентов, получающих химиотерапию, должна включать следующие измерения: базальный диаметр и площадь, систолическую экскурсию в плоскости трикуспидального кольца, пик систолической скорости в трикуспидальном кольце по данным ТД и фракционное изменение площади. Данная методика является наиболее чувствительным маркером для раннего выявления дисфункции ПЖ.
В последние несколько лет для более раннего выявления дисфункции миокарда разработаны новые параметры оценки, такие как скорость деформации, что значительно повысило надежность и чувствительность трансторакальной ЭхоКГ.
Недавние исследования сосредоточены на выявлении ранних чувствительных маркеров субклинической дисфункции миокарда ЛЖ [20]. На данный момент ФВ ЛЖ не является чувствительным параметром для выявления кардиотоксичности, так как влияние условия нагрузки и ее изменения являются наиболее частыми во время химиотерапии (увеличение объема из-за внутривенного введения химиотерапии или сокращение объема из-за рвоты или диареи). Таким образом, важно использовать другие параметры, кроме ФВ ЛЖ, для ранней диагностики кардиотоксичности и выявления новых параметров, на которые не влияют условия нагрузки. Среди показателей функция миокарда GLS, определяемая с помощью ЭхоКГ (метод «отслеживания пятен»), является наиболее изученным маркером и обеспечивает простую и количественную оценку глобальной систолической функции по длинной оси. Глобальная продольная деформация (GLS) с помощью спекл-трекинговой ЭхоКГ (STE) является чувствительным маркером систолической функции ЛЖ и может верифицировать ранние изменения в морфофункциональной структуре миокарда. Также продемонстрирована прогностическая ценность GLS для последующей кардиотоксичности среди пациентов, получавших НАХТ. K. Negishi и соавт. показали, что изменение GLS от исходного уровня на 11% (95% ДИ 8,3–14,6%) являлось наиболее чувствительным предиктором КАХ [21]. В клинической практике GLS также может помочь согласовать значимость бессимптомных колебаний ФВ ЛЖ, возникающих при серийной визуализации. На основании рекомендаций ASE относительное снижение GLS>15% отражает клинически значимое изменение систолической функции ЛЖ, которое требует ранней профилактики КАХ [22]. Неопределенная чувствительность ФВ ЛЖ в оценке раннего нарушения систолической функции у пациентов с НАХТ и разработка новых методов изучения деформации миокарда привели к увеличению количества исследований, направленных на определение чувствительности маркеров для оценки КАХ. Максимальная степень систолической деформации миокарда и ее пиковая скорость использовались на региональном и глобальном уровнях. D. Mele и соавт. провели одно из первых исследований с использованием 2D-STE в 2015 г. и продемонстрировали, что данная методика чувствительна и специфична для субклинической дисфункции миокарда ЛЖ, ассоциированной с химиотерапией [23]. Исследования показали, что 2D STE более чувствительна, чем снижение ФВ ЛЖ, для ранней верификации субклинической дисфункции ЛЖ [24]. Также в наблюдательном исследовании проанализирована серийная оценка ССС до и после химиотерапии путем сравнения GLS с ФВ ЛЖ. Обнаружено, что GLS является наиболее чувствительным методом для выявления субклинического повреждения миокарда на ранних стадиях. GLS значительно снизился без какого-либо снижения ФВ ЛЖ [25]. Хорошая прогностическая ценность регионарной деформации также отмечена в небольших исследованиях с более короткими периодами наблюдения. В совместном консенсусе ASE/EACVI представлен практический подход к использованию GLS у пациентов, получающих химиотерапию, на основе большого количества данных для раннего выявления субклинической дисфункции миокарда ЛЖ [26].
Актуальность сывороточных биомаркеров за последние годы возросла значительно, согласно рекомендациям ЕОК измерение BNP 35 пг/мл и NT-ProBNP 125 пг/мл в качестве порогового значения является важным критерием СН [27]. Потенциальная привлекательность натрийуретических пептидов как маркера кардиотоксичности заключается в их способности демонстрировать субклиническую дисфункцию миокарда ЛЖ. В то время как для диагностики СН известны пороговые значения данных маркеров, их точные значения при АХК все еще неизвестны. Недавний метаанализ 8 независимых исследований с участием 695 пациентов, получавших НАХТ, показал небольшую, но статистически значимую корреляцию между началом химиотерапии и окончанием курса [28]. D. Lenihan и соавт. (2016 г.) основное внимание в своих исследованиях уделили важности циркулирующих сердечных биомаркеров в диагностике кардиотоксичности у пациентов, получающих НАХТ [29]. Их результаты подтвердили достоверность серийных измерений BNP/NT-ProBNP при прогнозировании КАХ. Комбинация оценки GLS с определением концентрации сердечных биомаркеров предложена для повышения диагностической точности для раннего обнаружения кардиотоксичности. В частности, интеграция NT-ProBNP и GLS потенциально полезна для выявления ранней субклинической дисфункции миокарда ЛЖ. Ранний скрининг и превентивная профилактика данной категории пациентов могут улучшить результаты и замедлить прогрессирование КАХ при выборе стратегии ранней превентивной профилактики. У 22 (44%) пациентов с повышенным уровнем NT-ProBNP обнаружено абсолютное снижение GLS до значений менее 20%, и 12 (24%) пациентов имели относительное снижение GLS>15% [30, 31].
Растущее количество данных подтверждает сильную прогностическую ценность ST2 при сердечно-сосудистых заболеваниях. Измерения растворимого ST2 являются сильным прогностическим биомаркером, который предоставляет независимую и дополнительную информацию у пациентов с СН. ST-2 является членом суперсемейства рецепторов интерлейкина-1, который существует в двух формах: трансмембранный рецептор (ST2L) и растворимый ST2. Соответственно, сывороточные уровни ST-2 сильно коррелируют с уровнем в крови натрийуретических пептидов. В документе Американского колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциации от 2013 г. по лечению СН впервые даны рекомендации по исследованию биомаркеров, таких как ST-2 и галектин-3, как при острой, так и при хронической СН [32]. Они предоставляют рекомендации класса IIb и признают прогностическую ценность ST-2 как предиктора смертности и повторных госпитализаций по поводу СН. В клинической практике уровень ST2 преимущественно используется для прогнозирования смертности после раннего острого инфаркта миокарда или декомпенсированной СН, поскольку исходный уровень ST2 повышен из-за растяжения миокарда, вызванного перегрузкой объема желудочков.
Оптимальное ведение пациентов с риском КАХ включает контроль сердечно-сосудистых факторов риска, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, и рутинный кардиомониторинг во время НАХТ. Хотя ранее идентифицированы некоторые клинические факторы риска кардиотоксичности, необходимо преобразовать эти данные в валидированный инструмент оценки риска. На основе долгосрочного наблюдения за исследованием A. Mathew и соавт. (2016 г.) предложили шкалу риска, основанную на возрасте и исходной ФВ ЛЖ, для прогнозирования риска кардиотоксичности. Несмотря на эти усилия, одни только клинические факторы не могут выявить всех пациентов, которые входят в группу риска [33]. Данная изменчивость предполагает, что генетические факторы могут играть роль в индивидуальной восприимчивости к неблагоприятным сердечно-сосудистым эффектам химиотерапии, направленной на HER2. После разработки точный инструмент прогнозирования риска может использоваться для принятия решений об оптимальной частоте кардиомониторинга, потенциальной пользе профилактических кардиопротекторных препаратов или для выявления пациентов, которым следует получать альтернативные схемы лечения рака, связанные с более низким риском кардиотоксичности.
Химиотерапевтические агенты вызывают бессимптомные изменения систолической и диастолической функции сердца. Эти изменения показаны с помощью двухмерной ЭхоКГ со стандартным допплеровским и импульсным допплерографией. Значительные изменения систолической и диастолической функции сердца произошли через 3 и 6 мес после начала химиотерапии, но эти изменения более выражены для большинства измерений ТД по сравнению со стандартной ЭхоКГ. Значительное снижение эхокардиографических параметров тканевой и стандартной допплерографии наблюдалось в период непрерывного кардиомониторинга.
Заключение
Для улучшения отдаленных результатов и качества жизни пациентов необходимо сбалансировать ожидаемые преимущества НАХТ с сердечно-сосудистым риском, специфичным для лечения, и определить стратегии профилактики кардиотоксичности. Расширение знаний о визуализирующих и циркулирующих биомаркерах привело к более раннему выявлению субклинической дисфункции миокарда ЛЖ, и это дает возможность для ранней профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Более того, растущая осведомленность о повреждениях ССС, связанных с КАХ, способствует развитию новых междисциплинарных подходов к кардио-онкологической помощи пациентам с РМЖ.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
Информированное согласие на публикацию. Пациентки подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
Об авторах
Юрий Иосифович Бузиашвили
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
Email: firdavs96_tths@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7016-7541
акад. РАН, д-р мед. наук, проф., зав. клинико-диагностическим отд-нием
Россия, МоскваИван Сократович Стилиди
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
Email: firdavs96_tths@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5229-8203
акад. РАН, д-р мед. наук, проф., дир.
Россия, МоскваЭльмира Уметовна Асымбекова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
Email: firdavs96_tths@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5422-2069
д-р мед. наук, вед. науч. сотр. клинико-диагностического отд-ния
Россия, МоскваСимон Теймуразович Мацкеплишвили
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
Email: firdavs96_tths@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5670-167X
чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф., гл. науч. сотр. клинико-диагностического отд-ния
Россия, МоскваЕлена Владимировна Артамонова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России; ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»
Email: artamonovae@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7728-9533
д-р мед. наук, проф., зав. отд-нием; проф. каф. онкологии и лучевой терапии лечебного фак-та; зав. каф. онкологии и торакальной хирургии
Россия, Москва; Москва; МоскваНазли Керимовна Ахмедярова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
Email: firdavs96_tths@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7157-6312
канд. мед. наук, науч. сотр. клинико-диагностического отд-ния
Россия, МоскваОльга Михайловна Шерстянникова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
Email: firdavs96_tths@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0340-695X
канд. мед. наук, науч. сотр. клинико-диагностического отд-ния
Россия, МоскваФирдавсджон Рустамджонович Акилджонов
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
Автор, ответственный за переписку.
Email: firdavs96_tths@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1675-4216
аспирант клинико-диагностического отд-ния
Россия, МоскваСписок литературы
- Patel A, Unni N, Peng Y. The Changing Paradigm for the Treatment of HER2-Positive Breast Cancer. Cancers (Basel). 2020;12(8):2081. doi: 10.3390/cancers12082081
- An S, Duchesneau E, Strassle P. Pathologic complete response and survival after neoadjuvant chemotherapy in cT1-T2/N0 HER2+ breast cancer. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):65. doi: 10.1038/s41523-022-00433-x
- Takada M, Toi M. Neoadjuvant treatment for HER2-positive breast cancer. Chin Clin Oncol. 2020;9(3):32. doi: 10.21037/cco-20-123
- Radulescu L, Radulescu D, Ciuleanu T. Cardiotoxicity Associated with Chemotherapy Used in Gastrointestinal Tumours. Medicina (Kaunas). 2021;57(8):806. doi: 10.3390/medicina57080806
- Perez I, Taveras Alam S, Hernandez G, Sancassani R. Cancer Therapy-Related Cardiac Dysfunction: An Overview for the Clinician. Clin Med Insights Cardiol. 2019;13:1179546819866445. doi: 10.1177/1179546819866445
- Bojan A, Torok-Vistai T, Parvu A. Assessment and Management of Cardiotoxicity in Hematologic Malignancies. Dis Markers. 2021; 2021:6616265. doi: 10.1155/2021/6616265
- Gong F, Cascino G, Murtagh G, Akhter N. Circulating Biomarkers for Cardiotoxicity Risk Prediction. Curr Treat Options Oncol. 2021;22(6):46. doi: 10.1007/s11864-021-00845-0
- Keefe D. Trastuzumab-associated cardiotoxicity. Cancer. 2002;95(7):1592-600. doi: 10.1002/cncr.10854
- Zamorano J, Lancellotti P, Rodriguez Muñoz D. 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines: The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016;37(36):2768-801. doi: 10.1093/eurheartj/ehw211
- Lee Chuy K, Yu A. Cardiotoxicity of Contemporary Breast Cancer Treatments. Curr Treat Options Oncol. 2019;20(6):51. doi: 10.1007/s11864-019-0646-1
- Плохова Е.В., Дундуа Д.П. Кардиоонкология. Основные принципы профилактики и лечения кардиотоксичности на фоне химиотерапии у онкологических пациентов. Клиническая практика. 2019;10(1):31-41 [Plokhova EV, Doundoua DP. Cardiooncology. Basic Principles of Prevention and Treatment of Cardiotoxicity in Cancer Patients. Journal of Clinical Practice. 2019;10(1):31-41 (in Russian)]. doi: 10.17816/clinpract10130–40
- Ruddy K, Sangaralingham L, Van Houten H. Utilization of Cardiac Surveillance Tests in Survivors of Breast Cancer and Lymphoma After Anthracycline-Based Chemotherapy. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2020;13(3):e005984. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.119.005984
- Čelutkienė J, Pudil R, López-Fernández T. Role of cardiovascular imaging in cancer patients receiving cardiotoxic therapies: a position statement on behalf of the Heart Failure Association (HFA), the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the Cardio-Oncology Council of the European Society of Cardiology (ESC). Eur J Heart Fail. 2020;22(9):1504-24. doi: 10.1002/ejhf.1957
- Cardinale D, Iacopo F, Cipolla C. Cardiotoxicity of Anthracyclines. Front Cardiovasc Med. 2020;7:26. doi: 10.3389/fcvm.2020.00026
- Oren O, Neilan T, Fradley M, Bhatt D. Cardiovascular Safety Assessment in Cancer Drug Development. J Am Heart Assoc. 2021;10(24):e024033. doi: 10.1161/JAHA.121.024033
- Wang L, Tan T, Halpern E. Major Cardiac Events and the Value of Echocardiographic Evaluation in Patients Receiving Anthracycline-Based Chemotherapy. Am J Cardiol. 2015;116(3):442-6. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.04.064
- Lang R, Badano L, Mor-Avi V. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28(1):1-39.e14. doi: 10.1016/j.echo.2014.10.003
- Upshaw J, Finkelman B, Hubbard R. Comprehensive Assessment of Changes in Left Ventricular Diastolic Function With Contemporary Breast Cancer Therapy. JACC Cardiovasc Imaging. 2020;13(1 Pt 2):198-210. doi: 10.1016/j.jcmg.2019.07.018
- Venturelli F, Masetti R, Fabi M. Tissue Doppler Imaging for anthracycline cardiotoxicity monitoring in pediatric patients with cancer. Cardiooncology. 2018;4:6. doi: 10.1186/s40959-018-0032-3
- Nicol M, Baudet M, Cohen-Solal A. Subclinical Left Ventricular Dysfunction During Chemotherapy. Card Fail Rev. 2019;5(1):31-6. doi: 10.15420/cfr.2018.25.1
- Negishi K, Negishi T, Hare J, et al. Independent and incremental value of deformation indices for prediction of trastuzumab-induced cardiotoxicity. J Am Soc Echocardiogr. 2013;26(5):493-8. doi: 10.1016/j.echo.2013.02.008
- Liu J, Barac A, Thavendiranathan P, Scherrer-Crosbie M. Strain Imaging in Cardio-Oncology. JACC CardioOncol. 2020;2(5):677-89. doi: 10.1016/j.jaccao.2020.10.011
- Mele D, Rizzo P, Pollina A, et al. Cancer therapy-induced cardiotoxicity: role of ultrasound deformation imaging as an aid to early diagnosis. Ultrasound Med Biol. 2015;41(3):627-43. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2014.11.015
- Ben Abdallah I, Ben Nasr S, Chourabi C. The Predictive Value of 2D Myocardial Strain for Epirubicin-Induced Cardiotoxicity. J Oncol. 2020;2020:5706561. doi: 10.1155/2020/5706561
- Li J, Chang H, Banchs J. Detection of subclinical cardiotoxicity in sarcoma patients receiving continuous doxorubicin infusion or pre-treatment with dexrazoxane before bolus doxorubicin. Cardiooncology. 2020;6:1. doi: 10.1186/s40959-019-0056-3
- Plana J, Galderisi M, Barac A, et al. Expert consensus for multimodality imaging evaluation of adult patients during and after cancer therapy: a report from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2014;15(10):1063-93. doi: 10.1093/ehjci/jeu192
- Castiglione V, Aimo A, Vergaro G, et al. Biomarkers for the diagnosis and management of heart failure. Heart Fail Rev. 2022;27(2):625-43. doi: 10.1007/s10741-021-10105-w
- Xu A, Huang L, Liu W, et al. Neoadjuvant chemotherapy followed by surgery versus surgery alone for gastric carcinoma: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2014;9(1):e86941. doi: 10.1371/journal.pone.0086941
- Lenihan D, Stevens P, Massey M. The Utility of Point-of-Care Biomarkers to Detect Cardiotoxicity During Anthracycline Chemotherapy: A Feasibility Study. J Card Fail. 2016;22(6):433-8. doi: 10.1016/j.cardfail.2016.04.003
- Mueller C, McDonald K, de Boer R. Heart Failure Association of the European Society of Cardiology practical guidance on the use of natriuretic peptide concentrations. Eur J Heart Fail. 2019;21(6):715-31. doi: 10.1002/ejhf.1494
- Alam S, Chandra S, Saran M. To study the usefulness and comparison of myocardial strain imaging by 2D and 3D echocardiography for early detection of cardiotoxicity in patients undergoing cardiotoxic chemotherapy. Indian Heart J. 2019;71(6):468-75. doi: 10.1016/j.ihj.2019.11.253
- Yancy C, Jessup M, Bozkurt B. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013;62(16):e147-239. doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.019
- Mathew A, Romond E. Systemic therapy for HER2-positive early-stage breast cancer. Curr Probl Cancer. 2016;40(2-4):106-16. doi: 10.1016/j.currproblcancer.2016.09.002