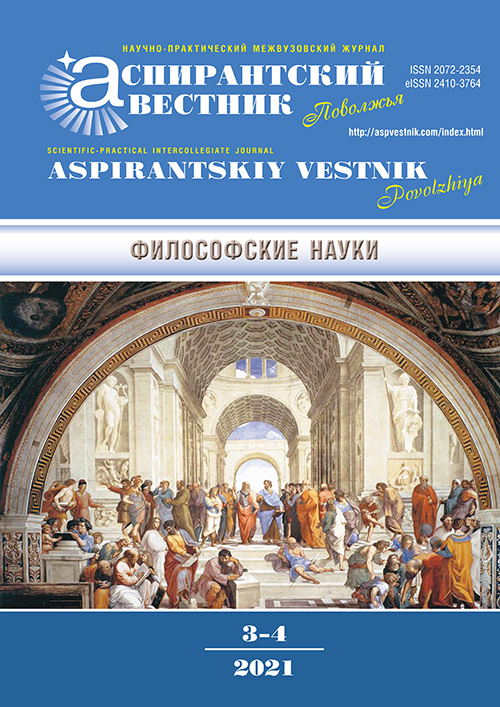Relations between a social subject and a social institution: philosophical foundations and public policy practises
- Authors: Davydov S.V.1
-
Affiliations:
- Nizhny Novgorod Institute of Management – the branch of Russia Academy of National Economics and Public Administration under the President of Russia Federation
- Issue: Vol 21, No 3-4 (2021)
- Pages: 39-42
- Section: Philosophical sciences
- Published: 15.04.2021
- URL: https://aspvestnik.ru/2410-3764/article/view/89698
- DOI: https://doi.org/10.17816/2072-2354.2021.21.2.39-42
- ID: 89698
Cite item
Full Text
Abstract
The article deals with theoretical and applied issues of the development of relationships between social (political) subjects and social (political) institutions. In the philosophical aspect, the author notes the alternativeness of theoretical approaches to understanding the role of man in society, where the idea of “social institution” is opposed by the philosophy of the idea of subjective human activity. In this approach the work of E. Ostrom “Managing the Common. Evolution of institutions of collective activity” is analyzed and the main conclusion is that the relationship between a social (political) subject and an institution develops harmoniously and integrated is rethink. In connection with disagreement with Ostrom’s position of the author of this work in a practical aspect, an analysis of various situations is carried out, which show three types of interaction: 1) a strong social subject – a strong social institution; 2) a weak social institution – a strong social subject; 3) there is a developed social institution, but there is no a social subject. The philosophical analysis allows us to conclude that the sphere of relationships between a social subject and any institution is very heterogeneous. This is most vividly illustrated in the political sphere by the example of city public policy.
Full Text
Современная публичная политика в обществе характеризуется проблемой субъектной активности в обществе [9, 12]. Практики публичной политики показывают, что полноценное функционирование новых социальных институтов сдерживается проблемами отношений с особенностями социальных субъектов. В свете философских теорий проблема взаимосвязи роли социального субъекта и социального института в обществе состоит в том, что идеи человека как субъекта социальной истории (К. Маркс, Э.В. Ильенков, И.Т. Фролов и др.) растворяются в теориях «открытого общества» (К. Поппер), общества как «толпы» (Х. Ортега-и-Гассет), социальной синергетики (И. Пригожин, И. Стенгерс), «смерти субъекта» (М. Фуко), институциональных теорий (Э. Остром). В результате на смену философии человека как субъекта социального существования и развития приходит философия «аутойезиса» [8], в которой социальный субъект не нужен. В практиках публичной политической активности актуальность данной проблемы можно увидеть в патерналистских общественных настроениях, которые отражают молчаливый отказ граждан от функции социально-политического субъекта в вопросах развития своих территорий проживания. Показательным является низкий процент явки граждан РФ на выборы депутатов представительных органов государственной власти и местного самоуправления. Например, в 2015 г. на выборах в Городскую Думу Нижнего Новгорода 6-го созыва явка граждан составила не более 30 %, а на выборах в 2020 г. уже менее 20 %. Данные практики остро ставят вопрос о легитимности и эффективности местных институций публичной политики в ситуации существенного ослабления субъектной функции местных и региональных сообществ.
Цель исследования — философский анализ практик взаимоотношений роли социального субъекта и социального института в аспекте устойчивого существования и развитии общества. Сторонники одной тенденции в основе социальной организации видят «социальные конструкты» [1], «социальные институты» [11], «холоны» [4, 13]. Другие поддерживают идею эмансипации роли человека как субъекта социальных отношений [14], о человеке как основе социального бытия [7] и «социального государства» [2]. В поисках ответа на вопрос, что первично в соотношении субъектного и институционального начал в обществе, можно обратиться к упомянутой выше работе лауреата Нобелевской премии Э. Остром, в которой автор обосновывает вывод о приоритетной значимости «нового институционализма» и новых социальных институтов [11, с. 30]. Критический анализ этой работы, результаты которого представлены в настоящей статье, позволяет поставить данный тезис под вопрос.
Необходимо отметить, во-первых, что, критикуя сторонников государственного управления местными проблемными ситуациями, г-жа Остром говорит, что местные граждане «рассматриваются как заготовки для государственных программ, а не как самостоятельные субъекты, стремящиеся найти эффективные и справедливые решения сложнейших проблем» [11, с. 213]. При этом «самостоятельные субъекты» рассматриваются в числе «значимых переменных» [11, с. 184], влияющих на устойчивость и эффективность институтов. Различные ситуации, которые рассматривает Э. Остром, позволяют выделить несколько типов отношений «социальный субъект – социальный институт», где в качестве субъекта выступает местная община, а в качестве социального института — местный механизм самоорганизации общин по вопросам порядка использования ресурсов общего пользования или институт государства:
1) сильный социальный субъект — сильный социальный институт (даёт эффективное решение проблемы);
2) слабый социальный субъект – сильный социальный институт (не даёт эффективного решения проблемы);
3) слабый социальный субъект – слабый социальный институт (не даёт эффективного решения проблемы);
4) сильный социальный субъект – слабый социальный институт (не даёт эффективного решения проблемы).
Анализ материалов работы г-жи Остром по первой разновидности отношений (примеры изучения многих ситуаций в бассейнах грунтовых вод Южной Калифорнии, в Северной Калифорнии и др.) позволяет заключить, что выход из «кризиса общины» связан с формированием общины в качестве социального субъекта, где первым пунктом стоит задача выявления лидера сообщества, мотивированного на решения местной проблемы. Описанный в книге алгоритм создания «новых институтов» основывается на том, что в первую очередь решается задача по формированию социального субъекта: сначала в индивидуальной форме (местный лидер будущей деятельности), затем в коллективной форме, когда лидер формирует свою «команду». После того как все общины созданы, являющиеся пользователями того или иного ресурса общего пользования (речная вода для полива полей, рыбных ресурсов в конкретной морской бухте и пр.), создаётся основа для переговоров между общинами, для создания некоторого набора правил пользования, которые обязуются выполнять все договаривающиеся стороны. Эти правила и алгоритмы их поддержания, исполнения, контроля и пр. и есть «новые социальные институты», которые служат основным предметом исследования Э. Остром.
Для российской общественно-политической ситуации исследование состояния отношений «социальный субъект – социальный институт» не менее значим, чем для ситуаций «кризиса общин». В контексте политического транзита и индустриализации власти в России, с одной стороны, исследователи указывают проблему самоопределения власти в контексте отношений с «другим» [6]. С другой стороны, внедрение новых политических технологий обостряет проблему гармонизации федеральных общественно-политических целей с ожиданиями конкретных местных сообществ граждан России [3]. Конкретные проблемные ситуации отражают присутствие различных проявлений отношений «социальный субъект – социальный институт». В частности, имеет место ситуация, когда присутствие сильных социально-политических лидеров и сильных социальных институтов порождает не институциональное сотрудничество, а конфликт. Примером такого рода может быть ситуация взаимоотношений главы администрации Нижнего Новгорода и губернатора Нижегородской области [5]. Имея свои истоки в событиях 2010 г. в механизме перехода к «двуглавой» системе управления муниципальным образованием, в 2015 г. «двуглавая» институциональная конструкция стала основой конфликта в отношениях «губернатор В. Шанцев — мэр Н. Новгорода О. Сорокин». Несмотря на то что должностные отношения губернатора, сити-менеджера и главы города прописаны в соответствующих нормативных документах, выборы 2015 г. показали, что как только эти отношения социальных субъектов выходят в политическую сферу, институции перестают работать эффективно.
Особенность Нижегородской ситуации в том, что внутрипартийный «лидерский» конфликт Нижегородского регионального отделения Партии «Единая Россия» между В. Шанцевым и О. Сорокиным на площадке выборов задвигает на второй план межпартийную конкуренцию и становится основным источником местной политической конкуренции. В результате в 2015 г. возникают суррогатные, субпартийные альянсы, которые строил член партии «Единая Россия», глава города О. Сорокин, для того чтобы получить лидерство в новом составе городской Думы в противовес стремлению В. Шанцева получить лояльную Думу в отношении губернатора области. Происходит девальвация институциональной партийной инфраструктуры региона, что ещё больше усиливает ситуацию резкого сужения региональных партийных систем, снижения их конкурентности. В Нижегородской области немало представителей политической элиты, которые искренне не понимают, зачем «возиться с партиями», если можно заключить сделку на «правильное голосование» сначала с тысячей избирателей в «своём» округе, а затем с двумя десятками избранных депутатов в Думе Н. Новгорода. Таким образом, коллекцию ситуаций можно дополнить ещё одним вариантом, когда отношение сильного социального субъекта и сильного социального института приводит к конфликту и к ослаблению системы местных социальных институтов.
Все примеры, которые были рассмотрены в данной статье, позволяют сделать первый вывод: в основе успешных случаев преодоления «кризиса общины», описанных Э. Остром, лежат практики эмансипации, фасилитации субъектной активности местных сообществ. Именно успешное решение задачи «реанимации субъекта» представляется ключевым условием создания «новых социальных институтов». Аналогом «кризиса общины» в современной России можно назвать проблему сельских старост, программа развития которых буксует, прежде всего, потому, что не решается проблема «реанимации субъекта» в сельских сообществах. Ситуация в Нижегородской области показывает, что часто отношения «социальный субъект – социальный институт» ведут не к социально-политической интеграции, а к конфронтации и к ослаблению социальных институтов. Когда члены одной партии для лоббирования своих интересов пользуются ресурсами других партий, это становится одним из факторов кризиса партийной системы в целом [10]. Второй вывод состоит в том, что философия человека как социального субъекта утверждает первичное фундаментальное значение человека (в статусе личности / лидера и коллектива / команды), а социальные институты — это одна из вторичных производных его деятельности. Эта философия находит подтверждение в прикладных исследованиях Э. Остром. Основная же проблема в том, что в сравнении с философией институтов и аутопойезиса она не имеет столь всесторонней, глубокой, последовательной и популярной проработки.
About the authors
Sergey V. Davydov
Nizhny Novgorod Institute of Management – the branch of Russia Academy of National Economics and Public Administration under the President of Russia Federation
Author for correspondence.
Email: 537395@mail.ru
Postgraduate student of the Department of Philosophy, Sociology and Psychology of Management
Russian Federation, Nizhny NovgorodReferences
- Berger P, Lukman T. Social’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat po sociologii znaniya. Moscow; 1995. (In Russ.)
- Dahin AV. The Idea of a Social and Secular State: the phenomenology of Constitution in Russia. Yuridicheskaya nauka i praktika. Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2019;(1(45)):274–278. (In Russ.). doi: 10.24411/2078-5356-2019-10141
- Dahin AV. “Industrialization of power”: Russian political transit in socio-technological dimension. Politeks. 2019;15(4):461–482. (In Russ.). doi: 10.21638/spbu23.2019.402
- Dahin AV. “Integral city”: critical analysis of theoretical approach. Vestnik Nizhegorodskogo Instituta Upravleniya. 2019;(2(52)):18–24. (In Russ.)
- Dahin AV, Semyonov EE, Strelkov DG. Nizhegorodskaya oblast’ v situacii konflikta elit: osnovnye tendencii, prognoznye gipotezy, ocenki. In: Regional’naya politika. Moscow: Grifon; 2017. P. 235–244. (In Russ.)
- Dahin AV. State power system in Russia: phenomenological transit. Polis. Political Studies. 2006;(3):29–41. (In Russ.)
- Kutyrev VA. Poslednee celovanie. Chelovek kak tradiciya. Saint Petersburg: Aletejya; 2015. (In Russ.)
- Luman N. Obshchestvo kak social’naya Sistema. In: Obshchestvo obshchestva: v 5 kn. Kn. 1. Moscow: Logos; 2011. P. 15–201. (In Russ.)
- Makarenko EI. Subjectivity of the Russian technical intelligentsia in the implementation of computerization tasks. Vlast’. 2020;28(3):158–163. (In Russ.). doi: 10.31171/vlast.v28i3.7333
- Marchenya PP. Russian multiparty system: the cradle of civil society or the tomb of imperial statehood? Polis. Politicheskie issledovaniya. 2017;(1):41–52. (In Russ.). doi: 10.17976/jpps/2017.01.05
- Ostrom E. Upravlyaya obshchim: evolyuciya institutov kollektivnoj deyatel’nosti: per. s angl. Moscow; 2011. (In Russ.)
- Papelo VN, Kovtun BA. The development of the village chiefs institution in Russia: problems and solutions. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016;14(2):52–55. (In Russ.)
- Hemilton M. Integral’nyj gorod. Evolyucionnye intellekty chelovecheskogo ul’ya. Moscow: Orientaliya; 2013. (In Russ.)
- Chep’yuk OR. Ekonomicheskaya bessub”ektnost’ kak faktor degumanizacii social’nyh otnoshenij. [dissertation]. N. Novgorod; 2021. (In Russ.). Available from: https://diss.unn.ru/files/2020/1070/diss-Chepyuk-1070.pdf. Accessed: 20.04.2021
Supplementary files