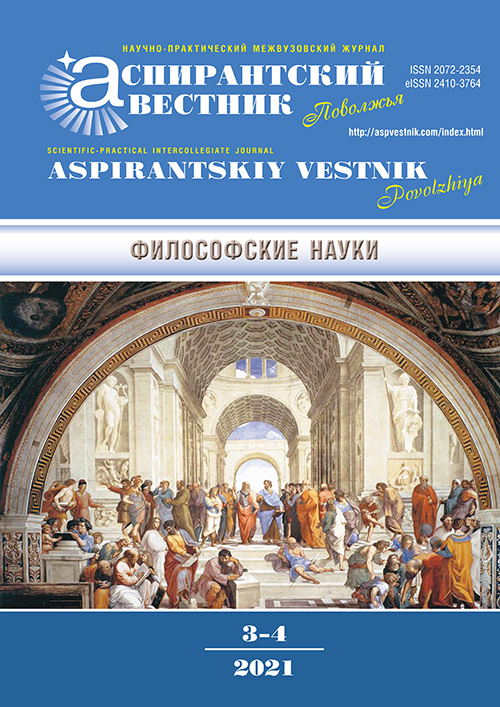A hunam is the body of social being: divercity of collective socio-historical memory frameworks
- Authors: Dakhin A.V.1
-
Affiliations:
- Nizhny Novgorod Institute of Management – the branch of Russia Academy of National Economics and Public Administration under the President of Russia Federation
- Issue: Vol 21, No 3-4 (2021)
- Pages: 43-46
- Section: Philosophical sciences
- Published: 15.04.2021
- URL: https://aspvestnik.ru/2410-3764/article/view/89700
- DOI: https://doi.org/10.17816/2072-2354.2021.21.2.43-46
- ID: 89700
Cite item
Full Text
Abstract
Reflecting some contemporary trends social environment, the author underlines some of them which have increased the level of memory studies discussion. The paper reflects a trend of the postmodern pluralism field, where the social memory is defined as an object for free constructing. The alternative philosophical approach demands to rethink this pluralism by the decision of methodological choice towards memo philosophy which climes the idea of fundamental mission of social memory for social history and future development.
Full Text
Тезис М. Хайдеггера о том, что «язык — это дом бытия» популярен уже почти сто лет [14]. С той поры, когда Хайдеггер пояснял как «бытие говорит повсюду и всегда, через всякую речь» [16, с. 63], объяснял, как «человеком правит принадлежность к бытию» [15, с. 74], произошёл лингвистический поворот философии, который окончательно прояснил, что не человек правит языком, но подкачанный риторикой бытия язык хочет править и правит человеком. Это то же самое, что от представлений о том, что «собака виляет хвостом» мы переходим к представлениям о том, что «хвост виляет собакой». Тенденция ведёт к глобальному плюрализму («эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда), которая выжигает устойчивые смысловые корни понятий, обращая их в «пустые означающие» (Е. Лаклау). В этом случае необходимо использовать иную пунктуацию «Я мыслю, следовательно, я существую» — моё Бытие сводится к иллюзии, порождаемой моей мыслью, и т. д. Все эти версии объединяет акцент на разрыве, который отделяет cogito от sum, мышление от бытия — Лакан стремится разрушить иллюзию их пересечения, указывая на зазор во внешней гомогенности мышления-бытия... «я не субстанция, вещь, сущность; я свожусь к пустоте в порядке бытия, разрыву, béance» [7, с. 21]. В результате сгенерирована языковая структура фобософии (боязнь человеческой мудрости) — мировоззренческая система, разрушающая человеческую мудрость, незаметно для говорящего обнуляющая микрокосм человеческой личности, сводя и личность к «пустому означающему» [9].
Частным проявлением проблемы мировоззренческой деонтологизации человека и общества является сфера политики памяти. Активизация и радикализация мемо-политики на постсоветском пространстве актуализирует не только прикладные аспекты (исторические, политические, социологические и пр.) проблем памятования, в среде которых требуется принятие конкретных решений о сносе, сохранении, перемещении, создании и пр. конкретных мест или объектов памяти. Более сложные проблемы возникают в структуре memory studies, как новой научной парадигмы [2, с. 12], где рельефно проступают основные дилеммы этой проблематики: «культурная ценность» – «экономическая / политическая целесообразность» места памяти, «память» – «достоверность знания», «память» – «свобода творчества», «антропная память» – «кибер-память» и пр. Они заостряют вопрос методологического выбора при изучении социальной памяти — «присутствия того, что отсутствует», как с опорой на терминологию М. Хайдегера, говорит о памяти П. Рикёр [13, с. 25–43].
Память как «традиция» и память как «конструкт» — эта дилемма представляется наиболее фундаментальной. Отечественная философия переживала эту дилемму в формах дискуссии сторонников «революционного» (В.И. Ленин) и «эволюционного» понимания социального развития, в формах дискуссии между сторонниками «мичуринской теории» (Т.Д. Лысенко / 1898–1976) и генетики (Н.И. Вавилов / 1887–1943) [4, с. 103–162]. В этой дилемме упакован и актуальный философский спор о природе человека и человеческой деятельности: ‘человек как традиция’ (В.А. Кутырёв) VS ‘человек как конструкт’ (Н. Луман) и ‘человек как цельный субъект-микрокосм’ (С. Жижек) VS ‘человек как мешок множества информационных потоков’ (Д. Деннет). Сталкиваются альтернативные представления о соотношении исторически детерминированного и здесь-и-теперь конструируемого в предмете человеческой деятельности, а также о взаимосвязи целостного единства и внутреннего разнообразия в структуре человеческой личности.
В поле постмодернистского мировоззрения генерируется непрерывный и бесконечный поток теорий, содержание которых сводится к отказу от «старинного» в пользу «современного», а форма определяется тем, насколько радикально «современное» борется против «старинного» [11, с. 63]. «Мы можем резюмировать, что общество не является какой-то сущностью. Его единство не может быть выявлено путём сведения к чему-то существенному с тем следствием, что противоречащие истолкования могли бы отклоняться как заблуждения… Именно это и является тем пунктом, на котором должно основываться „преописание“ староевропейской традиции» [12, с. 93]. Таковы концептуальные философские установки, следствием влияния которых становится утверждение представлений о вредоносности такого «пережитка прошлого», как социальная память.
Философский подход утверждает жизнеспособность «картезианского субъекта»: «Картезианская субъективность продолжает признаваться всеми академическими силами сильной и всё ещё действенной интеллектуальной традицией» [7, с. 24]. В русле этой традиции доказывается пагубность отчуждения человека от традиции [10], обосновывается фундаментальное значение структур памятования в природе и обществе [5, 6], откуда вытекает представление о непрерывном «подспудном сопутствии» памяти [1] всему тому, что делают люди здесь-и-теперь. Дорожная карта возвращения мировоззренческого дискурса из режима фобософии в режим философии включает интеграцию идей нескольких поколений отечественной философии, вехами которых являются философские системы В.С. Соловьёва, А.Ф. Лосева, Э.В. Ильенкова, И.Т. Фролова, Л.А. Зеленова, В.А. Кутырёва и др. Исследование природы социального бытия в этой философской традиции привело к выводу, что действие структур исторического памятования есть платформенная основа непрерывной диалектики социального бытия (то из предшествующей истории общества-и-человека, что благодаря социальной памяти продолжает присутствовать в каждом здесь-и-теперь) и социального небытия (то из предшествующей социальной истории, что исчезает безвозвратно, не обретает присутствия в здесь-и-теперь существовании общества-и-человека). Ключевая формула социального бытия состоит в том, что активность социальной памяти живых сообществ людей удерживает часть собственной предшествующей истории в каждом здесь-и-теперь собственном социальном существовании в форах «идеального» [8, с. 180]. При этом «домом бытия» являются живой человек и живое сообщество людей, а структурами коллективной социальной памяти — фоновые практики, язык, институты социализации, институты-теки (библиотеки, фонотеки и пр.), места памяти и пр.
На индивидуальном уровне роль социальной памяти в формировании психологических основ человеческой социальности были раскрыты Л.С. Выготским, который заложил фундаментальную альтернативу фрейдистским подходам в понимании социальной памяти. Переход от исследования «рефлексов» к исследованию «поведения», от исследования «поведения-реакции на внешний стимул» к исследованию сознательного поведения в «двигательном поле». Основная концептуальная максима сводится к тому, что «сознательно» — это: а) внешний/внутренний стимул поведения сохраняется в качестве предмета внимания и не зависит от его физического присутствия; б) независимость «стимула» обеспечивается петлёй социальной памяти (поверх прямого «следового» отпечатка); в) поведение подчинено приоритету внимания, а не приоритету физического присутствия «стимула». За этим следует функция координирующего волевого механизма поведения в общем двигательном поле. Это коренной психологический процесс, благодаря которому в каждый момент создаётся единство действия, что является психологической основой личности [3, с. 86]. Психологическая «петля» социальной памяти: нечто идеальное, дополняется таким социальным предметным действием, как «узелок на память», нечто материальное. В результате чего в деятельности человека формируется объемлющий строй социальной памяти, содержащей многообразные связки «идеального» и «материального», в диалектики которых и удерживается бытие предшествующей истории человека.
Такое понимание фундаментальности миссии памяти в мире людей позволяет уточнить «рамки памяти», которые почти сто лет назад обозначил М. Хальбвакс [17]. В современном индустриальном обществе имеет место диверсификация рамок социальной памяти, которая охватывает специфические для мира людей поля социального бытия. В их числе:
- антропомерная коллективная социально-историческая память функционирует в процессах общения между людьми; концентрируется в формах живой деятельности человеческой личности/сообщества; благодаря ей в обществе существуют живые традиции и формируется культурное бытие человека;
- запоминающие техно-, киберустройства функционируют в процессах технологических переработок объектов человеческой деятельности и концентрируются в формах техники; в этой рамке социальной памяти формируется информационное бытие человека;
- экономическая память в виде «денег» (долговых обязательств) функционирует в процессах обмена товарами и услугами, концентрируется в форме капитала; в экономической рамке социальной памяти формируется финансовое бытие человека;
- антропомерная организационная память (политическая память) функционирует в процессах подчинения одних людей другим (интересов одних людей интересам других), концентрируется в формах социальных институтов; в этой рамке памяти формируется политическое бытие человека.
Диверсификация рамок социальной памяти в современном обществе создаёт ситуации, в которых одни из них вступают в конфликтные отношения с другими. В частности, распространение киберпамяти вступает в конфликт со структурами антропомерной коллективной социально-исторической памяти. Экспансия экономической или организационной/политической памяти также может критически ограничивать поле действия антропомерной коллективной социально-исторической памяти. Дальнейшее исследование этих процессов требуется для определения параметров диалектики взаимного действия всех перечисленных рамок социальной памяти, а также для поиска путей эмансипации и реабилитации функций антропомерной коллективной социально-исторической памяти в современном обществе.
About the authors
Andrey V. Dakhin
Nizhny Novgorod Institute of Management – the branch of Russia Academy of National Economics and Public Administration under the President of Russia Federation
Author for correspondence.
Email: nn9222@rambler.ru
Doctor of Philosophy, Professor of Department of Philosophy, Sociology and Psychology of Management
Russian Federation, Nizhny NovgorodReferences
- Assman A. Dlinnaya ten’ proshlogo. Memorial’naya kul’tura i istoricheskaya politika: per.s nem. B. Hlebnikova. Moscow; 2014. (In Russ.)
- Assman Ya. Kul’turnaya pamyat’. Pis’mo, pamyat’ o proshlom i politicheskaya identichnost’ v vysokih kul’turah drevnosti: per. M.M. Sokol’skoj. Moscow; 2004. (In Russ.)
- Vygotskij LS. Soznanie kak problema psihologii povedeniya. In: Sobranie sochinenii v 6 t. Moscow: Pedagogika; 1984. Vol. 1. P. 78–98. (In Russ.)
- Grekhem LR. Estestvoznanie, filosofiya i nauka o chelovecheskom povedenii v Sovetskom Soyuze; per. s angl. Moscow: Politizdat; 1991. P. 103–162. (In Russ.)
- Dakhin AV. Social development and calls of collective memory: prospect of philosophical conceptualisation of memory studies. Voprosy filosofii. 2010;(8):42–44. (In Russ.)
- Dahin AV. Sinergeticheskaya paradigma: korrekciya po probleme istoricheskogo pamyatovaniya. In: Sinergeticheskaya paradigma. Social’naya sinergetika. Moscow: Progress-Tradiciya; 2009. P. 156–182. (In Russ.)
- Zhizhek S. Shchekotlivyj sub”ekt: otsutstvuyushchij centr politicheskoj ontologii: per. s angl. S. Shchukinoj. Moscow; 2014. (In Russ.)
- Il’enkov EV. Dialekticheskaya logika. Ocherki istorii i teorii. Moscow: Politizdat; 1984. (In Russ.)
- Kornev V. Chelovek kak pustoe oznachayushchee v diskurse sovremennogo masskul’ta [internet]. Likbez. Literaturnyj al’manah, 2006. No. 29. Maj-iyun’. (In Russ.). Available from: http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number496/zine_clever501/publication526. Accessed: 04.04.2021.
- Kutyryov VA. Poslednee celovanie. Chelovek kak tradiciya. Saint Petersburg: Aletejya; 2015. (In Russ.)
- Le Goff Zh. Istoriya i pamyat’: per. s fr. Moscow; 2013. (In Russ.)
- Luman N. Obshchestvo kak social’naya sistema. In: Obshchestvo obshchestva: v 5 kn. Kn.1. Moscow: Logos; 2011. Р. 15–201. (In Russ.)
- Rikyor P. Pamyat’, istoriya, zabvenie: per. s fr. Moscow; 2004. (In Russ.)
- Trofimova LI. M. Hajdegger o yazyke kak znakovom vyrazhenii reflektirovannogo bytiya. Proceedings of conference “Aktual’nye problemy social’noj kommunikacii”; 2010 May 20; N. Novgorod. P. 620–622. (In Russ.)
- Hajdegger M. Zakon tozhdestva. In: Razgovor na prosyolochnoj doroge. Sbornik. Ed. by A.L. Dobrohotova. Moscow; 1991. Р. 69–79. (In Russ.)
- Hajdegger M. Izrechenie Anaksagora. In: Razgovor na prosyolochnoj doroge. Sbornik. Ed. by A.L. Dobrohotova. Moscow; 1991. Р. 26–68. (In Russ.)
- Hal’bvaks M. Social’nye ramki pamyati: per. s fr. i vstupit. stat’ya M.N. Zenkina. Moscow; 2007. (In Russ.)
Supplementary files