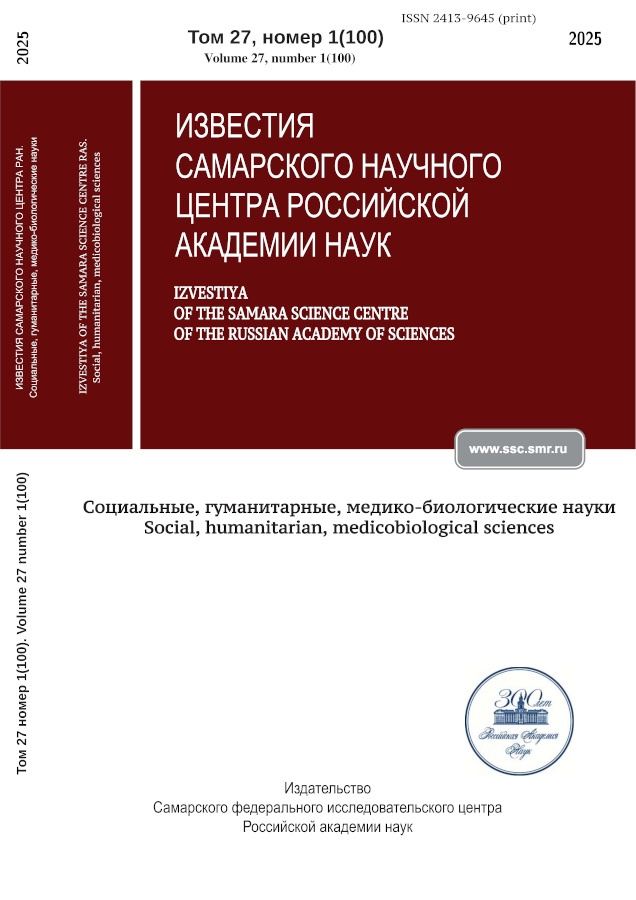Апофатика художественного мышления В.С. Высоцкого: фольклорные фреймы в стихотворении «Мои похорона»
- Авторы: Дударева М.А.1,2, Яковлева Т.С.3
-
Учреждения:
- РГУ им. А.Н. Косыгина
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
- Выпуск: Том 27, № 1 (2025)
- Страницы: 41-47
- Раздел: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/692466
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-27-100-41-47
- EDN: https://elibrary.ru/XLDTZG
- ID: 692466
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Объектом статьи выступает феномен апофатики в современной художественной культуре, который проявляется в поэзии через фольклорные кейсы, национальные константы. Предметом научной работы является анализ взаимодействия фольклора и литературы, которое организует вертикальную трансмиссию в культуре, позволяет проследить процессы апофатизации творчества. Материалом послужило творчество русского поэта В.С. Высоцкого, представляющего феномен авторской песни. В центре герменевтического анализа — известное стихотворение «Мои похорона», переложенное автором на музыку и ставшее известной песней. Большое внимание уделяется поэтике сна, поскольку сон апофатичен по своей природе и приравнивается, по славянским народным представлениям, к смерти. Актуальность предпринятого исследования обусловлена нарастающей необходимостью осмыслить онтологические вопросы советской поэзии, которые долгое время в отечественном литературоведении прошлого века были табуированы. Авторы исследования уделяют большое внимание пограничным этосам в стихотворении поэта, феномену сна, связанного с пространством иного мира и антимира. Анализируются формы проявления фольклорной традиции в поэтике В.С. Высоцкого. Методология исследования сводится к целостному герменевтическому анализу художественного текста. Результаты работы могут быть интересны культурологам и литературоведам, рассматривающим литературу в пространстве большого диалога культур.
Ключевые слова
Полный текст
Введение. Апофатика как феномен культуры иррадиировала во все исследовательские научные парадигмы (философские, филологические, культурологические) и связана со многими феноменами культуры, имеющими трансцендентную природу: смертью, болезнью, сном. Фольклор, древнее народное искусство, является богатейшим источником апофатических воззрений, «истоком формирования семантики невыразимого в русском языке» [Михайлова М.Ю., с. 173]. Показательны в этом отношении фольклорные речения из русской волшебной сказки («иду туда, не знаю куда», «ищу то, не знаю что»), связанные с эйдологией пути-дороги культурного героя. В этом контексте апофатику понимаем культурологически широко, как невыразимое в художественной культуре, ризомно мерцающую сакральную реальность.
Занимаясь реконструкцией апофатической парадигмы художественной культуры советского времени 1960–1990-х гг., невозможно обойти вниманием явление авторской песни, которая, по замечаниям специалистов, имеет глубоко синкретичный характер и латентно связана с фольклорной традицией, или, лучше сказать, с такими феноменами народной жизни, как балагурство, скоморошество и юродство [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.]. «Авторская песня в 1960–70-е годы переживает период становления в литературном качестве, ее поэтическая система складывается в родственном “поле тяготения” фольклорных жанров, служащих, скорее, не запасником поэтических приемов, а почвой для отталкивания…» [Свиридов С.В., с. 310]. В этой связи обратимся к яркому представителю феномена авторской песни В.С. Высоцкому в контексте фольклорной традиции, которая помогает проследить вертикальную трансмиссию в художественной культуре.
Методы исследования. Понятие «фольклор» культурологически расширяем до включения в него дожанровых образований, обряда, ритуала, мифа, которые образуют в словесном космосе диалектическую триаду «миф — фольклор — литература». Именно из этих теоретических представлений мы будем анализировать проявления фольклорной традиции в поэтике В.С. Высоцкого, уделяя внимание латентным формам фольклоризма, фреймам национальной культуры. Онтогерменевтическая реконструкция фольклорных кейсов художественного текста позволяет приблизиться к пониманию его апофатического горизонта и является эквивалентной апофатическому методу познания Божественного, который свойственен теологическому знанию.
История вопроса. По справедливому замечанию Л.Г. Кихней и Т.В. Сафаровой, «обращение Высоцкого к фольклору (в том числе к современному) происходит вследствие присущего поэту целостного народного мироощущения, во многом опирающегося на давние фольклорные традиции» [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.]. Авторы статьи о фольклоризме творчества поэта исходят из комплексного понимания менталитета, который предполагает разговор о народных духовных традициях, выраженных имплицитно и эксплицитно в творчестве разных художников слова. Подобных представлений придерживаются ученые и в современных исследованиях, посвященных функционированию фольклорной традиции в поэтике В.С. Высоцкого, но идут еще дальше в этом вопросе, заменяя понятие «традиция», часто предполагающее разговор о стилизациях и заимствованиях, на понятие «фрейм», под которым подразумевается определенный комплекс знаний о мире (фольклорная структура в данном случае), известных большей части общества: «Активизация фреймов при восприятии, и главное — при понимании, произведения может осуществляться как самим текстом, так и реципиентом» [Юдаева О.В., с. 154].
Масочное игровое начало, характерное для скоморошества, народного театра, присуще и песням В.С. Высоцкого, его лирическому герою. Здесь стоит обратить внимание на обрядовую сторону явления скоморошества на Руси, которая связана с «миром навыворот», ритуальным хаосом. Скоморохи выворачивали красоту поднебесную, чтобы донести простые истины до народа, публики, но это «была лишь форма ее бытования с “обратным” знаком» [Кузьмичев И.К., с. 98] Скоморохи также были связаны, по наблюдению З.И. Власовой, с погребальной обрядностью, иномиром [Власова З.И.]. По существу, антимир часто трансформировался в иномир, когда скоморох занимался фарсовым умерщвлением плоти, что можно приравнять к состоянию обмирания (ср. с играми в покойника свадебной недели). Своеобразную художественную иллюстрацию данного явления можно наблюдать в стихотворении Высоцкого «Мои похорона» (1971), которое исследователями чаще всего воспринимается в трагическом пародийном ключе [Шаулов С.С., с. 69]. Однако этот текст много значимее по своей онтологической глубине, чем кажется.
Результаты исследования. Обратим внимание на первые строчки стихотворения:
Сон мне снится — вот те на:
Гроб среди квартиры.
На мои похорона
Съехались вампиры.
Стали речи говорить —
Все про долголетие.
Кровь сосать решили погодить,
Вкусное — на третие [Высоцкий В.С., с. 83].
Во-первых, читатель сразу же погружается вместе с героем в сонное состояние, сон здесь, выражаясь языком С.Г. Бочарова, носит объявленный характер (ср. с приемом сна и его видами в художественном мире А.С. Пушкина [Бочаров С.Г., с. 205]). Примечательно то, что у В.С. Высоцкого не только реципиент, но и сам герой осознает, что ему снится сон. В этой связи стоит обратить внимание на то, что для человека фольклорного сознания важен не столько сам факт сна и увиденного в нем, сколько реакция на явившееся во сне, что, собственно, и отражается в «устных сонниках»: «…сюжет сновидения неважен, он забывается, первостепенно само по себе чувство беспокойства и тревожный сон» [Лазарева А.А., с. 108]. В последние десять лет отечественной гуманитаристики исследователи также все чаще рассматривают сон с культурологических и философских позиций, справедливо указывая на связь сна с поступками человека: «Связь сновидческого опыта с этическим, точнее, нравственным, возможно, не столь наглядна, поскольку доминанта нравственного опыта — сфера поступков. Вместе с тем каждому человеку знакомо переживание нравственных коллизий во сне» [Карпов Л.М., с. 15]. Однако поступки осмысляются не только во сне, но и post factum, после сна. Современные исследователи справедливо указывают на амбивалентный статус явления: «...сон как феномен ни физиологичен, ни нефизиологичен полностью, по своей сути и речь должна идти о каком-то “резонансе”, мозаичном сочетании объективного состояния мозга и остального организма с субъективным состоянием спящего человеческого духа, а того и другого — с культурными институтами соответствующего социума» [Щавелев С.П., с. 98]. Но сложность этого феномена культуры заключается в его апофатической для человека исключительно дневного сознания природе. В этом случае нам и необходимо рассматривать апофатику как феномен культуры, который иррадиировал во все исследовательские научные парадигмы и также связан со многими феноменами культуры, имеющими трансцендентную природу: смертью, болезнью, страхом. Этот ряд следует продолжить и размышлениями о феномене сна. В этом аспекте интересны наблюдения о. П. Флоренского о сновидениях, которые «соответствуют… мгновенному переходу из одной сферы душевной жизни в другую и лишь… в воспоминании… развертываются в наш, видимого мира, временной ряд; сами же по себе имеют особую меру времени — “трансцендентальную”» [Флоренский П.А., с. 4-5]. Сон априори непостижим, но это не значит, что мы не должны попытаться приблизиться к его апофатическому горизонту и понять его онтологическое назначение.
Во-вторых, на тонкую грань между сном и явью в стихотворении указывают реальные ощущения героя, связанные с разными рецепторами, с оптикой («чую взглядов серию»), с проявлением вкуса (рвотное «зелье приворотное»), с осязанием кожей («стукнул по колену», «мурашки по спине»):
И почетный караул
Для приличия всплакнул,
Но я чую взглядов серию
На сонную мою артерию.
А если кто пронзит артерию,
Мне это сна грозит потерею [Высоцкий В.С., c. 83].
По фольклорным представлениям, «неспособность сновидца совершить действие… и безуспешное повторение попыток… связываются с негативным прогнозом» [Лазарева А.А., с. 118]. Интересно то, что герой В.С. Высоцкого не может пошевелиться и сопротивляться надвигающейся нечистой силе:
Отчего же я лежу,
Дурака валяю?
Почему я не заржу,
Их не напугаю? [Высоцкий В.С., c. 83].
По какой же причине он не оказывает сопротивления? Средство спасения автору песни хорошо известно — смех. В этом случае как раз точно срабатывают механизмы проникновения фольклорной традиции в ее подлинном, не стилизованном виде. Нас интересует один из фольклорных фреймов — парадигма «смерть — смех», реализованная в стихотворении В.С. Высоцкого. Вслед за Л.Г. Кихней и Т.В. Сафаровой стоит «упомянуть о присущем его мироощущению смеховом начале» [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.] а также еще раз указать на парадигматический характер отношений между смертью и смехом, с помощью которой отвергается, отторгается первое [Осипова Н.]. Неслучайным в этом национальном контексте кажется и как бы нарочито грубое сниженное у В.С. Высоцкого «заржать», семиотически значимое в контексте апофатики ситуации, в которую попадает герой:
Я б их мог прогнать давно
Выходкою смелою.
Мне бы взять пошевелиться, но
Глупостей не делаю [Высоцкий В.С., c. 84].
Кроме того, здесь выявляется еще один фольклорный фрейм, характерный для быличек, — «чудо / абсурд», суть которого, по наблюдению Л.Н. Виноградовой, заключается в удивлении антагониста, представителя нечистой силы: «демонстрация абсурдного поведения вынуждает нечистую силу разоблачить себя» [Виноградова Л.Н., с. 199]. У В.С. Высоцкого герой сам предлагает налить крови упырям, что является абсурдным с точки зрения здравой логики:
Кровожадно вопия,
Высунули жалы,
И кровиночка моя
Полилась в бокалы.
Погодите, сам налью,
Знаю, знаю — вкусная.
Нате, пейте кровь мою,
Кровососы гнусные! [Высоцкий В.С., c. 84-85].
Сон здесь не только антимир, сколько иномир, если прочитывать стихотворение в контексте погребальной обрядности. Именно с такими особенностями онейрического пространства сталкиваемся в «фольклорной» поэтике С. Есенина, творчество которого в значительной мере повлияло на Высоцкого [Чибриков В.Ю.]. Сон, по фольклорным славянским представлениям, приравнивается к смерти, которая носит временный характер [Толстой Н.И.]. Однако то, что происходит во сне, может быть актуальным и наяву, таким образом соединяются навь и явь, а также через трансцендентное прозревается реальное:
Вот мурашки по спине
Смертные крадутся,
А всего делов-то мне
Было, что — проснуться.
Что? Сказать чего боюсь?
А сновиденья тянутся —
Да того, что я проснусь,
А они останутся [Высоцкий В.С., c. 85].
Именно по этой причине не просыпается герой песни, для которого реальный мир — реальнейший. Ситуация, воспроизведенная В.С. Высоцким в песне «Мои похорона», напоминает по структуре быличку: «Быличка повествует о неожиданном контакте героя и антагониста: о вторжении антагониста в реальный мир или о перенесении героя в “антимир”» [Ефимова Е.С.]. Однако мы не подводим художника слова к присяге на верность фольклору и не обвиняем его в стилизациях или заимствованиях, а имеем в виду трансформацию фольклорной традиции, ее преломление, которое всегда более продуктивно и в исследовательском плане [Налепин А.Л.], и в отношении обогащения поэтики.
Выводы. Итак, «обращение Высоцкого к фольклору — это прежде всего обращение к нравственно-психологическим истокам, к мифопоэтическому мышлению в его национальном варианте» [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.]. Герменевтическая реконструкция песни «Мои похорона» высвечивает прежде всего не социальный подтекст, которого, конечно, не лишены произведения автора, а онтологический, этосы жизни и смерти, апофатику сна, который приравнивается к смерти. Проведение параллелей с устным народным творчеством продуктивно в данном случае, поскольку фольклор выступает источником апофатических воззрений и предлагает свой вариант «отторжения» смерти — через смеховое начало, характерное для творчества В.С. Высоцкого, явления авторской песни. По этим причинам большое внимание уделено фольклорным фреймам, связанным с парадигмой «смерть — смех» и явлениями антимира. Сон у В.С. Высоцкого приравнивается к временной смерти, что совпадает с фольклорными архаическими представлениями об этом феномене, но, в отличие от фольклорной традиции, в стихотворении герой не желает просыпаться: он не хочет, чтобы его антимир превратился в иномир. В этом случае автор вступает в продуктивный творческий диалог-спор с традицией. Сон носит апофатический амбивалентный характер.
Источники:
Высоцкий, В. С. Мои похорона // Собр. соч.: в 7 т. — Германия: Вельтон: Б.Б.Е., 1994. — Т. 3. — 528 с.
References:
Vysockij, V. S. Moi pohorona (My Funeral) // Sobr. soch.: v 7 t. — Germanija: Vel'ton: B.B.E., 1994. — T. 3. — 528 s.
Об авторах
Марианна Андреевна Дударева
РГУ им. А.Н. Косыгина; Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Автор, ответственный за переписку.
Email: marianna.galieva@yandex.ru
доктор культурологии, доктор филологических наук, заведующий кафедрой общей и славянской филологии Института славянской культуры, профессор кафедры журналистики
Россия, Москва, Нижний НовгородТатьяна Сергеевна Яковлева
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
Email: tasha10.02.85@mail.ru
старший педагог кафедры русского языка и лингвокультурологии
Россия, МоскваСписок литературы
- Бочаров, С. Г. О смысле «Гробовщика» (К проблеме интерпретации произведения) // Контекст. Литературно-теоретические исследования. — М.: Наука, 1974. — С. 196–230.
- Виноградова, Л. Н. Сообщение об абсурдных событиях как способ отгона нечистой силы // In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах № 7. — М.: РГГУ, 2018. — С. 187–204.
- Власова, З. И. Скоморохи и фольклор. — СПб.: Алетейя, 2001. — 524 с.
- Ефимова, Е. С. Основные мотивы русских быличек (опыт классификации) // Сайт Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета [Электронный ресурс]. — URL: https://www.ruthenia.ru/folklore/efimova7.htm (дата обращения: 07.01.2025).
- Карпова, Л. М. Сновидение и духовный опыт // Гуманитарные исследования. — 2014. — № 1 (2). — С. 13–16.
- Кихней, Л. Г., Сафарова, Т. В. К вопросу о фольклорных традициях в творчестве Владимира Высоцкого [Электронный ресурс]. — URL: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/kihnej-safarova-k-voprosu-o-folklornyh-tradiciyah.htm (дата обращения: 07.01.2025).
- Кузьмичев, И. К. Лада. — М.: Молод. гвардия, 1990. — 301 с.
- Лазарева, А. А. Толкование сновидений в народной культуре. — М.: РГГУ, 2020. — 260 с.
- Михайлова, М. Ю. Семантика невыразимого и средства ее передачи в русском языке: дис. … д-ра филол. наук. — Уфа, 2017. — 322 с.
- Налепин, А. Л. Два века русского фольклора: Опыт и сравнительное освещение подходов в фольклористике России, Великобритании и США в XIX–XX столетиях. — М.: ИМЛИ РАН, 2009. — 502 с.
- Осипова, Н. Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива // Slavica Wratislaviensia CLXVII. Wrocław. — 2018. — N 3838. — Р. 23–34.
- Свиридов, С. В. Авторская песня В. Высоцкого: литература с фольклорным «прошлым» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2012. — № 6 (1). — С. 310–315.
- Толстой, Н. И. Народные толкования снов и их мифологическая основа // Очерки славянского язычества. — М.: Индрик, 2003. — С. 303–310.
- Флоренский, П. Иконостас. Избранные труды по искусству. — СПб.: МИФРИЛ, Русская книга, 1993. — 365 с.
- Чибриков, В. Ю. Сергей Есенин и Высоцкий. Влияние поэзии Сергея Есенина на творчество Высоцкого // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века: сб. ст. / под ред. В. П. Скобелева и И. Л. Фишгойта. — Самара: Дом печати, 2001. — С. 66–70.
- Шаулов, С. С. Ф.М. Достоевский и А.Н. Башлачев: классика в неклассическом отражении // Вестник Челябинского государственного университета. — 2012. — № 36 (290). — С. 67–71.
- Щавелев, С. П. Вечная тень реальности: очерк философской антропологии сновидений // Научные ведомости БелГУ. — 2014. — № 9 (180). Вып. 28. — С. 92–99.
- Юдаева, О. В. Фольклорные фреймы и их языковая репрезентация в лирических стихотворениях В.С. Высоцкого // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. — № 8 (50). Ч. 5. — С. 154–157.
Дополнительные файлы