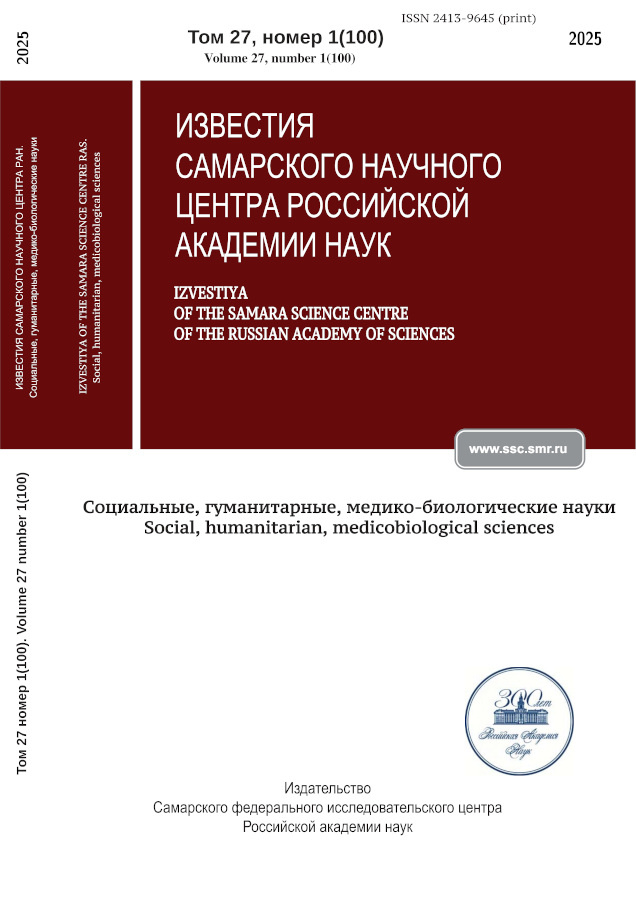Apophatics of artistic thinking of V.S. Vysotsky: folklore frames in the poem «My funeral»
- 作者: Dudareva M.A.1,2, Yakovleva T.S.3
-
隶属关系:
- Russian State University named after A.N. Kosygin
- Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
- Peoples' Friendship University of Russia
- 期: 卷 27, 编号 1 (2025)
- 页面: 41-47
- 栏目: PHILOLOGICAL SCIENCES
- URL: https://journals.eco-vector.com/2413-9645/article/view/692466
- DOI: https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-27-100-41-47
- EDN: https://elibrary.ru/XLDTZG
- ID: 692466
如何引用文章
全文:
详细
The object of the article is the phenomenon of apophatics in modern artistic culture, which manifests itself in poetry through folklore cases and national constants. The subject of the scientific work is the analysis of the interaction of folklore and literature, which organizes vertical transmission in culture and allows us to trace the processes of apophaticization of creativity. The material was the work of the Russian poet V.S. Vysotsky, who represents the phenomenon of the author's song. In the center of the hermeneutic analysis is the famous poem "My Funeral", which was set to music by the author and became a famous song. Much attention is paid to the poetics of sleep, since sleep is apophatic in nature and is equated, according to Slavic folk beliefs, with death. The relevance of the undertaken study is due to the growing need to comprehend the ontological issues of Soviet poetry, which for a long time were taboo in Russian literary criticism of the last century. The authors of the study pay great attention to the border ethos in the poet's poem, the phenomenon of sleep associated with the space of another world and anti-world. The forms of manifestation of the folklore tradition in the poetics of V.S. Vysotsky are analyzed. The methodology of the study is reduced to a holistic hermeneutic analysis of the artistic text. The results of the study may be of interest to cultural scientists and literary scholars who consider literature in the space of a large dialogue of cultures.
全文:
Введение. Апофатика как феномен культуры иррадиировала во все исследовательские научные парадигмы (философские, филологические, культурологические) и связана со многими феноменами культуры, имеющими трансцендентную природу: смертью, болезнью, сном. Фольклор, древнее народное искусство, является богатейшим источником апофатических воззрений, «истоком формирования семантики невыразимого в русском языке» [Михайлова М.Ю., с. 173]. Показательны в этом отношении фольклорные речения из русской волшебной сказки («иду туда, не знаю куда», «ищу то, не знаю что»), связанные с эйдологией пути-дороги культурного героя. В этом контексте апофатику понимаем культурологически широко, как невыразимое в художественной культуре, ризомно мерцающую сакральную реальность.
Занимаясь реконструкцией апофатической парадигмы художественной культуры советского времени 1960–1990-х гг., невозможно обойти вниманием явление авторской песни, которая, по замечаниям специалистов, имеет глубоко синкретичный характер и латентно связана с фольклорной традицией, или, лучше сказать, с такими феноменами народной жизни, как балагурство, скоморошество и юродство [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.]. «Авторская песня в 1960–70-е годы переживает период становления в литературном качестве, ее поэтическая система складывается в родственном “поле тяготения” фольклорных жанров, служащих, скорее, не запасником поэтических приемов, а почвой для отталкивания…» [Свиридов С.В., с. 310]. В этой связи обратимся к яркому представителю феномена авторской песни В.С. Высоцкому в контексте фольклорной традиции, которая помогает проследить вертикальную трансмиссию в художественной культуре.
Методы исследования. Понятие «фольклор» культурологически расширяем до включения в него дожанровых образований, обряда, ритуала, мифа, которые образуют в словесном космосе диалектическую триаду «миф — фольклор — литература». Именно из этих теоретических представлений мы будем анализировать проявления фольклорной традиции в поэтике В.С. Высоцкого, уделяя внимание латентным формам фольклоризма, фреймам национальной культуры. Онтогерменевтическая реконструкция фольклорных кейсов художественного текста позволяет приблизиться к пониманию его апофатического горизонта и является эквивалентной апофатическому методу познания Божественного, который свойственен теологическому знанию.
История вопроса. По справедливому замечанию Л.Г. Кихней и Т.В. Сафаровой, «обращение Высоцкого к фольклору (в том числе к современному) происходит вследствие присущего поэту целостного народного мироощущения, во многом опирающегося на давние фольклорные традиции» [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.]. Авторы статьи о фольклоризме творчества поэта исходят из комплексного понимания менталитета, который предполагает разговор о народных духовных традициях, выраженных имплицитно и эксплицитно в творчестве разных художников слова. Подобных представлений придерживаются ученые и в современных исследованиях, посвященных функционированию фольклорной традиции в поэтике В.С. Высоцкого, но идут еще дальше в этом вопросе, заменяя понятие «традиция», часто предполагающее разговор о стилизациях и заимствованиях, на понятие «фрейм», под которым подразумевается определенный комплекс знаний о мире (фольклорная структура в данном случае), известных большей части общества: «Активизация фреймов при восприятии, и главное — при понимании, произведения может осуществляться как самим текстом, так и реципиентом» [Юдаева О.В., с. 154].
Масочное игровое начало, характерное для скоморошества, народного театра, присуще и песням В.С. Высоцкого, его лирическому герою. Здесь стоит обратить внимание на обрядовую сторону явления скоморошества на Руси, которая связана с «миром навыворот», ритуальным хаосом. Скоморохи выворачивали красоту поднебесную, чтобы донести простые истины до народа, публики, но это «была лишь форма ее бытования с “обратным” знаком» [Кузьмичев И.К., с. 98] Скоморохи также были связаны, по наблюдению З.И. Власовой, с погребальной обрядностью, иномиром [Власова З.И.]. По существу, антимир часто трансформировался в иномир, когда скоморох занимался фарсовым умерщвлением плоти, что можно приравнять к состоянию обмирания (ср. с играми в покойника свадебной недели). Своеобразную художественную иллюстрацию данного явления можно наблюдать в стихотворении Высоцкого «Мои похорона» (1971), которое исследователями чаще всего воспринимается в трагическом пародийном ключе [Шаулов С.С., с. 69]. Однако этот текст много значимее по своей онтологической глубине, чем кажется.
Результаты исследования. Обратим внимание на первые строчки стихотворения:
Сон мне снится — вот те на:
Гроб среди квартиры.
На мои похорона
Съехались вампиры.
Стали речи говорить —
Все про долголетие.
Кровь сосать решили погодить,
Вкусное — на третие [Высоцкий В.С., с. 83].
Во-первых, читатель сразу же погружается вместе с героем в сонное состояние, сон здесь, выражаясь языком С.Г. Бочарова, носит объявленный характер (ср. с приемом сна и его видами в художественном мире А.С. Пушкина [Бочаров С.Г., с. 205]). Примечательно то, что у В.С. Высоцкого не только реципиент, но и сам герой осознает, что ему снится сон. В этой связи стоит обратить внимание на то, что для человека фольклорного сознания важен не столько сам факт сна и увиденного в нем, сколько реакция на явившееся во сне, что, собственно, и отражается в «устных сонниках»: «…сюжет сновидения неважен, он забывается, первостепенно само по себе чувство беспокойства и тревожный сон» [Лазарева А.А., с. 108]. В последние десять лет отечественной гуманитаристики исследователи также все чаще рассматривают сон с культурологических и философских позиций, справедливо указывая на связь сна с поступками человека: «Связь сновидческого опыта с этическим, точнее, нравственным, возможно, не столь наглядна, поскольку доминанта нравственного опыта — сфера поступков. Вместе с тем каждому человеку знакомо переживание нравственных коллизий во сне» [Карпов Л.М., с. 15]. Однако поступки осмысляются не только во сне, но и post factum, после сна. Современные исследователи справедливо указывают на амбивалентный статус явления: «...сон как феномен ни физиологичен, ни нефизиологичен полностью, по своей сути и речь должна идти о каком-то “резонансе”, мозаичном сочетании объективного состояния мозга и остального организма с субъективным состоянием спящего человеческого духа, а того и другого — с культурными институтами соответствующего социума» [Щавелев С.П., с. 98]. Но сложность этого феномена культуры заключается в его апофатической для человека исключительно дневного сознания природе. В этом случае нам и необходимо рассматривать апофатику как феномен культуры, который иррадиировал во все исследовательские научные парадигмы и также связан со многими феноменами культуры, имеющими трансцендентную природу: смертью, болезнью, страхом. Этот ряд следует продолжить и размышлениями о феномене сна. В этом аспекте интересны наблюдения о. П. Флоренского о сновидениях, которые «соответствуют… мгновенному переходу из одной сферы душевной жизни в другую и лишь… в воспоминании… развертываются в наш, видимого мира, временной ряд; сами же по себе имеют особую меру времени — “трансцендентальную”» [Флоренский П.А., с. 4-5]. Сон априори непостижим, но это не значит, что мы не должны попытаться приблизиться к его апофатическому горизонту и понять его онтологическое назначение.
Во-вторых, на тонкую грань между сном и явью в стихотворении указывают реальные ощущения героя, связанные с разными рецепторами, с оптикой («чую взглядов серию»), с проявлением вкуса (рвотное «зелье приворотное»), с осязанием кожей («стукнул по колену», «мурашки по спине»):
И почетный караул
Для приличия всплакнул,
Но я чую взглядов серию
На сонную мою артерию.
А если кто пронзит артерию,
Мне это сна грозит потерею [Высоцкий В.С., c. 83].
По фольклорным представлениям, «неспособность сновидца совершить действие… и безуспешное повторение попыток… связываются с негативным прогнозом» [Лазарева А.А., с. 118]. Интересно то, что герой В.С. Высоцкого не может пошевелиться и сопротивляться надвигающейся нечистой силе:
Отчего же я лежу,
Дурака валяю?
Почему я не заржу,
Их не напугаю? [Высоцкий В.С., c. 83].
По какой же причине он не оказывает сопротивления? Средство спасения автору песни хорошо известно — смех. В этом случае как раз точно срабатывают механизмы проникновения фольклорной традиции в ее подлинном, не стилизованном виде. Нас интересует один из фольклорных фреймов — парадигма «смерть — смех», реализованная в стихотворении В.С. Высоцкого. Вслед за Л.Г. Кихней и Т.В. Сафаровой стоит «упомянуть о присущем его мироощущению смеховом начале» [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.] а также еще раз указать на парадигматический характер отношений между смертью и смехом, с помощью которой отвергается, отторгается первое [Осипова Н.]. Неслучайным в этом национальном контексте кажется и как бы нарочито грубое сниженное у В.С. Высоцкого «заржать», семиотически значимое в контексте апофатики ситуации, в которую попадает герой:
Я б их мог прогнать давно
Выходкою смелою.
Мне бы взять пошевелиться, но
Глупостей не делаю [Высоцкий В.С., c. 84].
Кроме того, здесь выявляется еще один фольклорный фрейм, характерный для быличек, — «чудо / абсурд», суть которого, по наблюдению Л.Н. Виноградовой, заключается в удивлении антагониста, представителя нечистой силы: «демонстрация абсурдного поведения вынуждает нечистую силу разоблачить себя» [Виноградова Л.Н., с. 199]. У В.С. Высоцкого герой сам предлагает налить крови упырям, что является абсурдным с точки зрения здравой логики:
Кровожадно вопия,
Высунули жалы,
И кровиночка моя
Полилась в бокалы.
Погодите, сам налью,
Знаю, знаю — вкусная.
Нате, пейте кровь мою,
Кровососы гнусные! [Высоцкий В.С., c. 84-85].
Сон здесь не только антимир, сколько иномир, если прочитывать стихотворение в контексте погребальной обрядности. Именно с такими особенностями онейрического пространства сталкиваемся в «фольклорной» поэтике С. Есенина, творчество которого в значительной мере повлияло на Высоцкого [Чибриков В.Ю.]. Сон, по фольклорным славянским представлениям, приравнивается к смерти, которая носит временный характер [Толстой Н.И.]. Однако то, что происходит во сне, может быть актуальным и наяву, таким образом соединяются навь и явь, а также через трансцендентное прозревается реальное:
Вот мурашки по спине
Смертные крадутся,
А всего делов-то мне
Было, что — проснуться.
Что? Сказать чего боюсь?
А сновиденья тянутся —
Да того, что я проснусь,
А они останутся [Высоцкий В.С., c. 85].
Именно по этой причине не просыпается герой песни, для которого реальный мир — реальнейший. Ситуация, воспроизведенная В.С. Высоцким в песне «Мои похорона», напоминает по структуре быличку: «Быличка повествует о неожиданном контакте героя и антагониста: о вторжении антагониста в реальный мир или о перенесении героя в “антимир”» [Ефимова Е.С.]. Однако мы не подводим художника слова к присяге на верность фольклору и не обвиняем его в стилизациях или заимствованиях, а имеем в виду трансформацию фольклорной традиции, ее преломление, которое всегда более продуктивно и в исследовательском плане [Налепин А.Л.], и в отношении обогащения поэтики.
Выводы. Итак, «обращение Высоцкого к фольклору — это прежде всего обращение к нравственно-психологическим истокам, к мифопоэтическому мышлению в его национальном варианте» [Кихней Л.Г., Сафарова Т.В.]. Герменевтическая реконструкция песни «Мои похорона» высвечивает прежде всего не социальный подтекст, которого, конечно, не лишены произведения автора, а онтологический, этосы жизни и смерти, апофатику сна, который приравнивается к смерти. Проведение параллелей с устным народным творчеством продуктивно в данном случае, поскольку фольклор выступает источником апофатических воззрений и предлагает свой вариант «отторжения» смерти — через смеховое начало, характерное для творчества В.С. Высоцкого, явления авторской песни. По этим причинам большое внимание уделено фольклорным фреймам, связанным с парадигмой «смерть — смех» и явлениями антимира. Сон у В.С. Высоцкого приравнивается к временной смерти, что совпадает с фольклорными архаическими представлениями об этом феномене, но, в отличие от фольклорной традиции, в стихотворении герой не желает просыпаться: он не хочет, чтобы его антимир превратился в иномир. В этом случае автор вступает в продуктивный творческий диалог-спор с традицией. Сон носит апофатический амбивалентный характер.
Источники:
Высоцкий, В. С. Мои похорона // Собр. соч.: в 7 т. — Германия: Вельтон: Б.Б.Е., 1994. — Т. 3. — 528 с.
References:
Vysockij, V. S. Moi pohorona (My Funeral) // Sobr. soch.: v 7 t. — Germanija: Vel'ton: B.B.E., 1994. — T. 3. — 528 s.
作者简介
Marianna Dudareva
Russian State University named after A.N. Kosygin; Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
编辑信件的主要联系方式.
Email: marianna.galieva@yandex.ru
Doctor of Culturology, Doctor of Philology, Head of The Department of General and Slavic Philology Institute of Slavic Culture, Professor of The Department of Journalism
俄罗斯联邦, Moscow, Nizhny NovgorodTatiana Yakovleva
Peoples' Friendship University of Russia
Email: tasha10.02.85@mail.ru
Senior Teacher of The Department of Russian Language and Linguoculturology
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Bocharov, S. G. O smysle «Grobovshhika» (K probleme interpretacii proizvedenija) (On the Meaning of "The Undertaker" (Towards the Problem of Interpretation of the Work)) // Kontekst. Literaturno-teoreticheskie issledovanija. — M.: Nauka, 1974. — S. 196–230.
- Vinogradova, L. N. Soobshhenie ob absurdnyh sobytijah kak sposob otgona nechistoj sily (Reporting Absurd Events as a Way to Drive Away Evil Spirits) // In Umbra: Demonologija kak semioticheskaja sistema: Al'manah № 7. — M.: RGGU, 2018. — S. 187–204.
- Vlasova, Z. I. Skomorohi i fol'klor (Buffoons and Folklore). — SPb.: Aletejja, 2001. — 524 s.
- Efimova, E. S. Osnovnye motivy russkih bylichek (opyt klassifikacii) (The Main Motifs of Russian Byliks (Classification Experience)) // Sajt Centra tipologii i semiotiki fol'klora Rossijskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta [Jelektronnyj resurs]. URL: https://www.ruthenia.ru/folklore/efimova7.htm (data obrashhenija: 07.01.2025).
- Karpova, L. M. Snovidenie i duhovnyj opyt (Dream and Spiritual Experience) // Gumanitarnye issledovanija. — 2014. — № 1 (2). — S. 13–16.
- Kihnej, L. G., Safarova, T. V. K voprosu o fol'klornyh tradicijah v tvorchestve Vladimira Vysockogo (On the Issue of Folklore Traditions in the Works of Vladimir Vysotsky) [Jelektronnyj resurs]. — URL: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/kihnej-safarova-k-voprosu-o-folklornyh-tradiciyah.htm (data obrashhenija: 07.01.2025).
- Kuz'michev, I. K. Lada (Lada). — M.: Molod. gvardija, 1990. — 301 s.
- Lazareva, A. A. Tolkovanie snovidenij v narodnoj kul'ture (Interpretation of dreams in folk culture). — M.: RGGU, 2020. — 260 s.
- Mihajlova, M. Ju. Semantika nevyrazimogo i sredstva ee peredachi v russkom jazyke (Semantics of the inexpressible and the means of its transmission in the Russian language): dis. … d-ra filol. nauk. — Ufa, 2017. — 322 s.
- Nalepin, A. L. Dva veka russkogo fol'klora: Opyt i sravnitel'noe osveshhenie podhodov v fol'kloristike Rossii, Velikobritanii i SShA v XIX–XX stoletijah 9Two Centuries of Russian Folklore: Experience and Comparative Coverage of Approaches to Folklore Studies in Russia, Great Britain, and the USA in the 19th–20th Centuries). — M.: IMLI RAN, 2009. — 502 s.
- Osipova, N. Smeh i smert' v russkoj kul'turnoj tradicii: istoki i transformacija motiva (Laughter and Death in the Russian Cultural Tradition: Origins and Transformation of the Motif) // Slavica Wratislaviensia CLXVII. Wrocław. — 2018. — N 3838. — R. 23–34.
- Sviridov, S. V. Avtorskaja pesnja V. Vysockogo: literatura s fol'klornym «proshlym» (Author's Song of V. Vysotsky: Literature with a Folklore “Past”) // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. — 2012. — № 6 (1). — S. 310–315.
- Tolstoj, N. I. Narodnye tolkovanija snov i ih mifologicheskaja osnova (Folk interpretations of dreams and their mythological basis) // Ocherki slavjanskogo jazychestva. — M.: Indrik, 2003. — S. 303–310.
- Florenskij, P. Ikonostas. Izbrannye trudy po iskusstvu (Iconostasis. Selected works on art). — SPb.: MIFRIL, Russkaja kniga, 1993. — 365 s.
- Chibrikov, V. Ju. Sergej Esenin i Vysockij. Vlijanie pojezii Sergeja Esenina na tvorchestvo Vysockogo (Sergei Yesenin and Vysotsky. The influence of Sergei Yesenin's poetry on Vysotsky's work) // Tvorchestvo Vladimira Vysockogo v kontekste hudozhestvennoj kul'tury XX veka: sb. st. / pod red. V. P. Skobeleva i I. L. Fishgojta. — Samara: Dom pechati, 2001. — S. 66–70.
- Shaulov, S. S. F.M. Dostoevskij i A.N. Bashlachev: klassika v neklassicheskom otrazhenii (F. M. Dostoevsky and A.N. Bashlachev: Classics in a Non-Classical Reflection) // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2012. — № 36 (290). — S. 67–71.
- Shhavelev, S. P. Vechnaja ten' real'nosti: ocherk filosofskoj antropologii snovidenij (The Eternal Shadow of Reality: An Essay on the Philosophical Anthropology of Dreams) // Nauchnye vedomosti BelGU. — 2014. — № 9 (180). Vyp. 28. — S. 92–99.
- Judaeva, O. V. Fol'klornye frejmy i ih jazykovaja reprezentacija v liricheskih stihotvorenijah V.S. Vysockogo (Folklore Frames and Their Linguistic Representation in the Lyric Poems of V.S. Vysotsky) // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. — 2016. — № 8 (50). Ch. 5. — S. 154–157.
补充文件