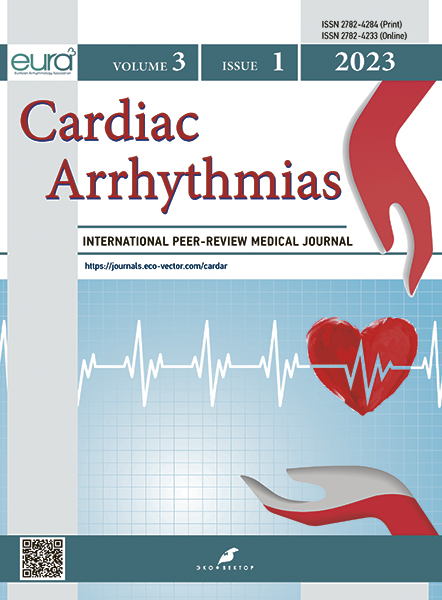Эффективность катетерной аблации фибрилляции предсердий в различных клинических группах: влияние ишемической болезни сердца и возраста
- Авторы: Горев М.В.1, Уразовская И.Л.2
-
Учреждения:
- Семейный доктор
- Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова
- Выпуск: Том 3, № 1 (2023)
- Страницы: 31-40
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://journals.eco-vector.com/cardar/article/view/305725
- DOI: https://doi.org/10.17816/cardar305725
- ID: 305725
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Катетерная аблация (КА) — распространенный метод лечения фибрилляции предсердий (ФП). До 20 % пациентов с ФП в качестве сопутствующего диагноза имеют ишемическую болезнь сердца (ИБС). Данные о влиянии ИБС на эффективность КА при ФП противоречивы. В то же время артериальная гипертензия (АГ) является известным фактором риска ФП и рецидива ФП после КА.
Цель — оценка вероятности рецидива ФП после первичной КА в разных клинических группах пациентов, включая идиопатическую ФП, ФП на фоне АГ и ФП, сочетающуюся с ИБС.
Материалы и методы. Среди пациентов, которым с января 2016 г. по декабрь 2017 г. были выполнены КА по поводу ФП, был проведен скрининг на предмет АГ, ИБС и другой структурной патологии сердца. Пациенты с ГКМП и клапанной патологией, а также пациенты с повторными КА были исключены. Для последующего анализа были отобраны 153 пациента и разделены на 3 группы — идиопатическая ФП, ФП + АГ, ФП + ИБС.
Результаты. Наличие ИБС (r = 0,313, p < 0,001), возраст (r = 0,224, p = 0,008), риск по CHA2DS2-VASc (r = 0,279, p = 0,001), постинфарктный кардиосклероз (r = 0,240, p = 0,004) и передне-задний размер ЛП (r = 0,204, p = 0,018) коррелировали с риском рецидива ФП. В группе ФП + ИБС пациенты старше 65 лет имели значительно меньшую эффективность КА (37,5 %), чем более молодые пациенты с ИБС (75 %, логарифмический ранг p < 0,001) и пациенты без ИБС.
Заключение. Наличие у пациента ИБС должно учитываться при принятии решения о выполнении КА по поводу ФП. Возрастные пациенты с ИБС имеют наиболее низкую эффективность КА и предпочтительная тактика лечения (более агрессивная КА или перевод в постоянную форму ФП) требует изучения.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Катетерная абляция является распространенным методом лечения фибрилляции предсердий (ФП) [1]. Несмотря на то, что это наиболее эффективный подход для поддержания синусового ритма [2, 3], частота рецидивов после процедуры остается высокой. Лучший отбор пациентов является одним из нескольких направлений (наряду с длительной изоляцией легочной вены (ИЛВ) и поиском дополнительных триггеров ФП) для повышения эффективности абляции. До 20 % пациентов с ФП страдают ишемической болезнью сердца (ИБС) [4, 5]. Данные о том, влияет ли ИБС на эффективность абляции ФП, противоречат друг другу [6, 7], вероятно, из-за неоднородности группы ИБС (индивидуальная коронарная анатомия, статус реваскуляризации, признаки ишемии, сердечной недостаточности и других сопутствующих заболеваний и т. д.), а также из-за множества сопутствующих ИБС заболеваний, которые являются факторами риска, влияющими на риск рецидива ФП. Мы предположили, что разделение популяции с ФП на несколько клинических групп могло бы помочь лучше описать различные профили пациентов и оценить сложные взаимодействия между ФП и ИБС в реальной популяции.
Цель исследования — оценка частоты рецидивов ФП и факторов ее риска после процедуры первичной катетерной абляции ФП в различных клинических группах, включая идиопатическую ФП, ФП в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) и ФП в сочетании с ИБС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Данная работа представляла собой одноцентровое ретроспективное сравнительное исследование.
Исследуемая популяция
Из 451 процедуры ИЛВ, проведенной с января 2016 по декабрь 2017 года, 396 были первичными. Двести сорок пациентов с известной анатомией коронарных артерий (коронарная ангиография (КАГ) или компьютерная томография-ангиография (КТА)) были отобраны для последующего анализа. Пациенты с гипертрофической кардиомиопатией, митральным стенозом (клапанная ФП) в исследование не включались.
Оставшиеся после применения критериев включения и исключения пациенты (n = 153) были ретроспективно включены в это исследование и разделены на 3 группы на основе данных истории болезни и данных КТ-КАГ: группа идиопатической ФП, группа ФП + АГ и группа ФП + ИБС (рис. 1).
Рис. 1. Отбор пациентов для исследования. ФП — фибрилляции предсердий, КАГ — коронарная ангиография
Группа с идиопатической ФП (n = 32)
Диагноз идиопатической ФП был установлен у пациентов с ФП без артериальной гипертензии и коронарного атеросклероза в анамнезе (индекс коронарного кальция = 0).
Группа ФП + АГ (n = 73)
АГ была диагностирована в соответствии с рекомендациями [8]. У всех пациентов дозы лекарств были подобраны таким образом, чтобы поддерживать артериальное давление на целевом уровне менее 139/89 мм рт. ст. Ни у кого из пациентов в этой группе не было признаков коронарного атеросклероза по данным КАГ или КТ-КАГ (отсутствие стенозов и индекс коронарного кальция = 0).
Группа ФП + ИБС (n = 48)
ИБС была диагностирована у пациентов по крайней мере с одним из следующих признаков:
- значительный ( > 50 %) стеноз коронарной артерии, выявленный при КАГ или КТ-КАГ,
- перенесенное в анамнезе чрескожное коронарное вмешательство или аортокоронарное шунтирование до первичной абляции
- перенесенный инфаркт миокарда.
Все пациенты подписали информированное согласие на обработку персональных данных во время их госпитализации для проведения процедуры первичной абляции.
Клинические и демографические данные представлены в таблице 1.
Процедура катетерной аблации
Всем пациентам перед аблацией была выполнена КТА левого предсердия (ЛП) и легочных вен для оценки индивидуальной анатомии и исключения тромбоза ЛП. У некоторых пациентов использовалась чреспищеводная эхокардиография для исключения тромбов в левом предсердии (если КТА была выполнена более чем за 48 ч до процедуры абляции) или для сопровождения септальной пункции. Для введения диагностических и абляционных катетеров использовался правый феморальный и правый яремный (или левый подключичный) венозный доступы. Пункция межпредсердной перегородки производилась под контролем рентгеноскопии, а затем выполнялась прямая ангиография ЛП на фоне стимуляции желудочков с частотой 200 уд/мин.
Для ИЛВ использовались различные источники энергии. Радиочастотная абляция (РЧА) была применена у 112 пациентов (73,2 %), а криобаллонная абляция (КБА) — у 41 пациента (26,8 %) (см. табл. 1). Во время процедур РЧА использовался подход «одна пункция —двойной доступ». Многополярный циркулярный диагностический катетер Lasso 2515 (Biosense Webster, США) вводили в ЛП через транссептальный интродьюсер SR0 или SL0 (Abbott, США). В большинстве случаев РЧА выполнялась под контролем рентгеноскопии с использованием абляционного катетера с открытым контуром орошения Thermocool EZsteer (Biosense Webster, США) последовательно в правой верхней (ПВЛВ), правой нижней (ПНЛВ), левой верхней (ЛВЛВ) и левой нижней (ЛНЛВ) легочных венах. Если использовалась нефлюороскопическая картографическая система Carto 3 (Biosense Webster, США), широкая антральная изоляция антрумов правых, а затем левых легочных вен выполнялась с помощью катетеров Thermocool SF Nav (Biosense Webster, США) или Thermocool SmartTouch (Biosense Webster, США). Технология контактного воздействия, а также индекс абляции и протокол CLOSE не использовались у пациентов, включенных в это исследование. Блокада входа и выхода из ЛВ контролировались и были достигнуты в конце процедуры у всех пациентов.
Таблица 1. Демографические, эхокардиографические и интраоперационные данные
Параметр | ИдиопФП (n = 32) | ФП + АГ (n = 72) | ФП + ИБС (n = 48) | p | |
Мужской пол, n | 22 (68,8 %) | 28 (38,4 %) | 30 (62,5 %) | 1–2 – 0,004 2–3 – 0,009 | |
Возраст, лет | 48,6 ± 11,9 | 59,6 ± 9,2 | 66 ± 6,9 | < 0,001 | |
Артериальная гипертензия, n | 0 | 72 (100 %) | 48 (100 %) | – | |
Сахарный диабет, n | 1 (3,1 %) | 5 (6,8 %) | 11 (22,9 %) | 1–3 – 0,005 2–3 – 0,021 | |
Постинфарктный кардиосклероз, n | – | – | 19 (39,6 %) | – | |
Реваскуляризация в анамнезе, n | – | – | 20 (42 %) | – | |
CHA2DS2-VASc score | 0,3 ± 0,7 | 2,3 ± 1,2 | 3,7 ± 1,3 | < 0,001 | |
Антикоагулянт | ривароксабан, n | 9 (45 %) | 26 (60 %) | 18 (69 %) | |
апиксабан, n | 3 (15 %) | 7 (16 %) | 0 (0 %) | ||
дабигатрана этексилат, n | 6 (30 %) | 10 (23 %) | 5 (19 %) | ||
варфарин, n | 2 (10 %) | 0 (0 %) | 3 (12 %) | ||
Инсульт в анамнезе, n | 0 | 4 (7,1 %) | 9 (22,5 %) | 0,044 | |
Пароксизмальная ФП, n | 25 (78,1 %) | 62 (84,9 %) | 44 (91,7 %) | – | |
Фракция выброса левого желудочка, % | 64,4 ± 2,3 | 62,3 ± 4,5 | 61,2 ± 7,4 | 1–2 – 0,002 1–3 – 0,008 | |
Размер левого предсердия, мм | 39,4 ± 4,0 | 42 ± 4,4 | 44,3 ± 4,8 | 1–2 – 0,004 1–3 < 0,001 2-3 – 0,011 | |
Степень митральной регургитации | 0,8 ± 0,6 | 1,1 ± 0,6 | 1,2 ± 0,6 | 1–2 – 0,013 1–3 – 0,003 | |
Аблация КТИ, n | 6 (18,8 %) | 18 (25 %) | 23 (47,9 %) | 1–3 – 0,005 2–3 – 0,01 | |
Источник энергии для ИЛВ, n | РЧА | 19 (59,4 %) | 55 (76,4 %) | 38 (79,2 %) | – |
КБА | 13 (40,6 %) | 17 (23,6 %) | 10 (20,8 %) | ||
Примечание: ФП — фибрилляция предсердий; АГ — артериальная гипертензия; ИБС — ишемическая болезнь сердца; ЛП — левое предсердие; КТИ — кавотрикуспидальный перешеек; РЧА — радиочастотная абляция; КБА — криобаллонная абляция.
Криобаллонную абляцию проводили с помощью криобаллонных катетеров Arctic Front Advance (Medtronic, США). Однократное 240-секундное нанесение выполнялось последовательно в LSPV, LIPV, RIPV и RSPV. Блокаду входа и выхода проверяли после криовоздействий в каждой вене с помощью циркулярного многополярного диагностического катетера диаметром 20 мм Achieve Advance (Medtronic, США). Контроль проведения по диафрагмальному нерву производили с помощью его стимуляции из верхней полой вены с циклом 1000–2000 мс и напряжением 15 В во время криоабляции правых ЛВ.
Если до операции было зарегистрировано по ЭКГ или во время процедуры индуцировалось типичиное трепетание предсердий, выполнялась линейная радиочастотная абляция в кавотрикуспидальном перешейке и в конце процедуры подтверждалась двунаправленная блокада проведения по нему.
Динамическое наблюдение
Для сбора данных о рецидивах аритмии пациентам, получавшим антиаритмическую терапию, проводился телефонный опрос, включающий следующие вопросы:
- Бывают ли у вас приступы учащенного сердцебиения после процедуры абляции?
- Через какое время после абляции у вас был диагностирован рецидив ФП?
- Преобразовалась ли пароксизмальная аритмия в постоянную форму?
- Если ФП пароксизмальная, как часто случались пароксизмы?
- Сколько госпитализаций, связанных с ФП, у вас было после процедуры абляции?
- Какие препараты и в какой дозе вы принимаете сейчас?
Средняя продолжительность наблюдения на момент телефонного опроса была одинаковой в группе с идиопатической ФП (27,0 мес.) и группе с ФП + АГ (29,1 мес., р = 0,47), в то время как в группе с ФП + ИБС она была значительно короче (23,5 мес., pФП + ИБВ vs. ИдиопФП — 0,011, pФП + ИБС vs. ФП + АГ < 0,001).
Определение послеоперационного рецидива ФП
Рецидив после абляции диагностировался, если устойчивый эпизод ФП регистрировался с помощью стандартной поверхностной ЭКГ в 12 отведениях или во время мониторирования ЭКГ.
Таблица 2. Антиаритмическая терапия через 2 года после операции
Антиаритмическая терапия | ИдиопФП, % | ФП + АГ, % | ФП + ИБС, % | |
Без ААТ (без терапии или бета-адреноблокатор) | 70,5 | 42,3 | 45,4 | |
без терапии | 47 | 23,1 | 21,2 | |
бета-адреноблокатор | 23,5 | 19,2 | 24,2 | |
Лаппаконитина гидробромид | 5,9 | 7,7 | 9,1 | |
Пропафенон | 5,9 | 7,7 | 0 | |
Флекаинид | 0 | 1,9 | 0 | |
Соталол | 17,6 | 32,7 | 39,4 | |
Соталол + аллапинин | 0 | 5,7 | 0 | |
Амиодарон | 0 | 1,9 | 6,1 | |
Примечание. Общие отличия между группами отсутствуют.
Антиаритмическая терапия после абляции
Всем пациентам назначались антиаритмические препараты как минимум в течение 3 месяцев после абляции. Решение о продолжении терапии, смене препарата или прекращении его применения через 3 месяца принималось кардиологом поликлиники. Как показано в таблице 2, на момент телефонного звонка 70,5 % в группе ИдиопФП, 42,3 % в группе с ФП + АГ и 45,4 % в группе с ФП + ИБС не принимали антиаритмические препараты 1-го и 3-го классов (р > 0,05).
Статистический анализ
Статистический анализ проводился с использованием лицензионного программного обеспечения SPSS Statistics версии 26.0 (IBM, США).
Проверка нормальности распределения для непрерывных и категориальных параметров проводилась с использованием критерия Колмогорова – Смирнова. Описательная статистика была представлена в виде среднего значения и стандартного отклонения. Номинальные переменные были описаны как количество случаев и доля в процентах.
Различия между двумя группами по количественным параметрам анализировали с помощью t-критерия Стьюдента или критерия Манна – Уитни в зависимости от нормальности распределения. Три и более группы сравнивались с использованием критерия Краскела – Уоллиса или ANOVA.
Сравнение категориальных данных проводилось с использованием точного критерия Фишера или критерия χ2. Чтобы сравнить 3 и более групп, мы провели post-hoc анализ по методу χ2 Пирсона.
Для сравнения эффективности был использован анализ Каплана – Мейера. Разницу оценивали с помощью логарифмического рангового теста.
Корреляцию между факторами риска и рецидивом оценивали с помощью метода Спирмена.
Прогностическая модель использовалась для оценки зависимости частоты рецидивов ФП от изучаемых факторов риска. Для проверки значимости отдельных коэффициентов в модели использовался тест Вальда, и на каждом шаге исключался фактор, коэффициент которого с наименьшей вероятностью отличен от нуля. Вероятность повторения ФП рассчитывали по формуле p = 1 / (1 + e-z).
Разница во всех тестах считалась статистически значимой, когда значение p было ниже 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота рецидивов в разных клинических группах
Как показано на рисунке 2, пациенты в группе ФП + ИБС продемонстрировали значительно более низкую эффективность, чем в других клинических группах: 50 против 83,3 % (ИдиопФП, логарифмический ранг (лог-ранг) р = 0,008) и 79,1 % (ФП + АГ, лог-ранг р = 0,002). Частота рецидивов в группе ФП + АГ не отличалась от группы ИдиопФП (лог-ранг p = 0,616).
Рис. 2. Кривая Каплана – Мейера для риска рецидива ФП в течение 2 лет после аблации в разных клинических группах
Факторы риска, влияющие на частоту рецидивов
Наличие ИБС (r = 0,313, p < 0,001), возраст (r = 0,224, p = 0,008), оценка CHA2DS2-VASc (r = 0,279, p = 0,001), ИМ в анамнезе (r = 0,240, p = 0,004), размер ЛП (r = 0,204, p = 0,018) коррелировали с частотой рецидивов. Эти слабые корреляции были подтверждены значимыми различиями, которые были обнаружены при парных сравнениях подгрупп пациентов с и без рецидива по этим факторам.
Логистическая регрессия
Все факторы, коррелирующие с частотой повторений, показали низкий уровень корреляции (менее 0,3) и утратили свое влияние после их включения в регрессионную модель. Бета-коэффициенты и p-значения для каждого отдельного фактора риска на каждом этапе бинарной регрессии представлены в таблице 3. На заключительном этапе наличие ИБС оставалось единственным статистически значимым фактором риска.
Таблица 3. Бета-коэффициенты и значения р для каждого фактора риска на каждом этапе бинарного регрессионного анализа
Факторы риска | Бета-коэффициент | p | |
Шаг 1 | ИБС | 0,669 | 0,234 |
Возраст | 0,023 | 0,442 | |
СHADS-VASc score | 0,184 | 0,350 | |
ПИКС | 0,427 | 0,500 | |
Размер ЛП | 0,057 | 0,211 | |
Константа | –5,468 | 0,037 | |
Шаг 2 | ИБС | 0,864 | 0,072 |
Возраст | 0,022 | 0,453 | |
СHADS-VASc score | 0,177 | 0,368 | |
Размер ЛП | 0,054 | 0,231 | |
Константа | –5,305 | 0,042 | |
Шаг 3 | ИБС | 0,887 | 0,065 |
СHADS-VASc score | 0,268 | 0,087 | |
Размер ЛП | 0,051 | 0,259 | |
Константа | –4,017 | 0,034 | |
Шаг 4 | ИБС | 0,964 | 0,043 |
СHADS-VASc score | 0,293 | 0,059 | |
Константа | –1,948 | 0,000 |
Примечание. ИБС — ишемическая болезнь сердца, ЛП — левое предсердие.
Окончательная формула модели бинарной логистической регрессии выглядела следующим образом:
p = 1 / (1 + e-z) · 100 %,
где z = –1,948 + 0,964 · ИБС, p — вероятность рецидива ФП, ИБС — наличие ИБС (0 — отсутствие ИБС, 1 — ИБС), были статистически значимыми (p = 0,001) и модель обладала специфичностью 87,1 %, чувствительностью 31,7 % и диагностической эффективностью 70,1 %.
Взаимосвязь ИБС и возраста
Затем мы провели поиск факторов, снижающих эффективность абляции ФП в группе пациентов ФП + ИБС. Для достижения этой цели мы последовательно разделили группу ФП + ИБС на 2 подгруппы на основе различных параметров (мужчины против женщин, пароксизмальная ФП против персистирующей ФП, СД против отсутствия СД, ЛП < 40 мм против ЛП > 40 мм, ЛП < 45 мм против ЛП > 45 мм, возраст < 60 лет против возраста > 60 лет и т. д.).
Возраст старше 65 лет был единственным значимым фактором риска рецидива ФП.
В группе ФП + ИБС пожилые пациенты продемонстрировали значительно более низкую вероятность свободы от ФП (37,5%) по сравнению с более молодой популяцией ИБС (75%, лог-ранг p < 0,001), а также с более молодыми и пожилыми пациентами без ИБС (рис. 3).
Рис. 3. Кривые Каплана – Мейера для рецидивов ФП через 2 года после аблации в разных клинических группах в зависимости от возраста. Пациенты с ИБС старше 65 лет имеют наименьшую эффективность аблации
Факторы риска рецидива ФП у пациентов с ИБС старше 65 лет
Пожилые пациенты с ИБС отличались от более молодой популяции по нескольким значимым параметрам (табл. 4). Но ни один из этих факторов не был независимым предиктором рецидива ФП в регрессионном анализе.
Таблица 4. Подгрупповой анализ факторов риска рецидива ФП в группе ФП + ИБС
Фактор риска | Моложе 65 лет (n = 16) | 65 лет и старше (n = 32) | p-value |
Возраст, лет | 58,7 ± 4,9 | 69,7 ± 4,2 | < 0,001 |
Мужской пол, n (%) | 14 (87,5) | 16 (50) | 0,013 |
Размер ЛП, мм | 45,6 ± 4,7 | 43,7 ± 4,7 | < 0,001 |
CHA2DS2-VASc score | 2,7 ± 1,1 | 4,25 ± 1,1 | 0,01 |
Длительность анамнеза ФП, Ме (25;75) | 59,4 (14,5; 90) | 43,5 (12; 66) | 0,001 |
Примечание. ФП — фибрилляция предсердий, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ЛП — левое предсердие.
ОБСУЖДЕНИЕ
Наши результаты подтверждают мнение о том, что у пациентов с ИБС результаты абляции ФП хуже, чем у пациентов без ИБС. Это может быть объяснено эффектом самой ИБС, а также комплексным действием нескольких факторов риска, которые чаще встречаются в популяции с ИБС. Все эти факторы (возраст, размер ЛА, ИМ в анамнезе, наличие СД и АГ и т. д.) были признаны незначимыми после корректировки на наличие ИБС.
Данные о том, влияет ли ИБС на результаты абляции ФП, противоречивы. Ретроспективный анализ Лейпцигского регистра не выявил разницы между популяциями с ИБС и без ИБС [7]. Аналогичные данные представили L. Liu и соавт. в своем исследовании [9]. В качестве альтернативы в статьях Р. Winkle и др. ИБС была описана как один из факторов риска рецидива ФП и использовалась для оценки CAAP-AF [6, 10]. Эти расхождения между исследованиями могут быть объяснены различными критериями включения и определением рецидива аритмии.
Последующий анализ тех же факторов риска в группе с ФП + ИБС показал резкое снижение выживаемости без ФП у пациентов старше 65 лет, в то время как в группах с идиопатической ФП и ФП + АГ какая-либо связь между возрастом и рецидивом ФП отсутствовала.
Хорошо известно, что старение играет важную роль в патогенезе ФП, поскольку способствует развитию фиброза предсердий, дилатации и предсердной кардиопатии [11, 12]. В большинстве исследований возраст служит основным фактором риска развития ФП [13], а также рецидива ФП после абляции [14]. Но поскольку эти исследования проводились на смешанной популяции, трудно понять, повлиял ли на ухудшение прогноза у пожилых пациентов возраст или более высокий уровень сопутствующей патологии, включая ИБС.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Наше исследование представляет собой ретроспективный одноцентровый анализ без исследования предсердного субстрата или непрерывного мониторинга сердечного ритма для выявления бессимптомных эпизодов ФП после абляции, однако пациенты были разделены на отдельные клинические группы и разница в нескольких демографических и клинических факторах была четко описана и точно проанализирована.
Фактическая частота рецидивов (на основе долговременной ЭКГ или петлевого мониторинга) позволила бы получить более точные результаты, а также оценить ценность традиционной ЭКГ и 24-часового мониторирования ЭКГ в выявлении ФП. Однако телефонные интервью были подробными, и были предприняты все попытки выявить рецидив ФП. В будущих исследованиях мы собираемся использовать подкожные регистраторы ритма для оценки частоты отдаленных рецидивов, а также количества бессимптомных пароксизмов ФП после катетерной абляции в различных клинических группах.
ВЫВОД
Наличие ИБС всегда должно привлекать внимание врача, прежде чем он будет рассматривать абляцию ФП в качестве варианта лечения такого пациента. Пациенты пожилого возраста с ИБС имеют самую низкую эффективность абляции, и необходимо изучить наилучшую стратегию для этой группы (более обширная первичная абляция или переход на постоянную ФП).
Об авторах
Максим Васильевич Горев
Семейный доктор
Автор, ответственный за переписку.
Email: drgorevmv@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1300-4986
SPIN-код: 3572-2389
врач-аритмолог
Россия, МоскваИрина Леонидовна Уразовская
Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова
Email: langelova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4165-4599
SPIN-код: 9263-4316
старший лаборант
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Hindricks G., Potpara T., Dagres N., et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery ( EACTS ) The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the Europe // Eur Heart J. 2021. Vol. 42, No. 5. P. 373–498. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612
- Packer D.L., Mark D.B., Robb R.A., et al. Catheter ablation versus antiarrhythmic drug therapy for atrial fibrillation (CABANA) Trial: study rationale and design // Am Heart J. 2018. Vol. 199. P. 192–199. doi: 10.1016/j.ahj.2018.02.015
- Kirchhof P., Camm A.J., Goette A., et al. Early rhythm-control therapy in patients with atrial fibrillation // N Engl J Med. 2020. Vol. 383, No. 14. P. 1305–1316. doi: 10.1056/NEJMoa2019422
- Connolly S.J., Ezekowitz M.D., Yusuf S., et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation // N Engl J Med. 2009. Vol. 361, No. 12. P. 1139–1151. doi: 10.1056/NEJMoa0905561
- Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J., et al. Rivaroxaban versus Warfarin in nonvalvular atrial fibrillation // N Engl J Med. 2011. Vol. 365, No. 10. P. 599–609. doi: 10.1056/NEJMoa1009638
- Winkle R.A., Jarman J.W.E., Hardwin Mead R., et al. Predicting atrial fibrillation ablation outcome: The CAAP-AF score // Heart Rhythm. 2016. Vol. 13, No. 11. P. 2119–2125. doi: 10.1016/j.hrthm.2016.07.018
- Kornej J., Hindricks G., Arya A., et al. Presence and extent of coronary artery disease as predictor for AF recurrences after catheter ablation: The Leipzig Heart Center AF Ablation Registry // Int J Cardiol. 2015. Vol. 181. P. 188–192. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.12.039
- Mancia G., Fagard R., Narkiewikz K., et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Eur Heart J. 2013. Vol. 34, No. 28. P. 2159–2219. doi: 10.1093/eurheartj/eht151
- Liu L., Zhao D., Zhang J., et al. Impact of stable coronary artery disease on the efficacy of cryoballoon ablation for the atrial fibrillation // Am J Med Sci. 2019. Vol. 358, No. 3. P. 204–211. doi: 10.1016/j.amjms.2019.06.004
- Winkle R.A., Mead R.H., Engel G., Patrawala R.A. Long-term results of atrial fibrillation ablation: The importance of all initial ablation failures undergoing a repeat ablation // Am Heart J. 2011. Vol. 162, No. 1. P. 193–200. doi: 10.1016/j.ahj.2011.04.013
- Jansen H.J., Moghtadaei M., Makasey M., et al. Atrial structure, function and arrhythmogenesis in aged and frail mice // Sci Rep. 2017. Vol. 7. ID 44336. doi: 10.1038/srep44336
- Pandit S.V., Jalife J. Aging and AF research: where we are and where we should go // Heart Rhythm. 2007. Vol. 4, No. 2. P. 186–187. doi: 10.1016/j.hrthm.2006.11.011
- Chugh S.S., Havmoeller R., Narayanan K., et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: A global burden of disease 2010 study // Circulation. 2014. Vol. 129, No. 8. P. 837–847. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119
- Bunch T.J., May H.T., Bair T.L., et al. The impact of age on 5-year outcomes after atrial fibrillation catheter ablation // J Cardiovasc Electrophysiol. 2016. Vol. 27, No. 2. P. 141–146. doi: 10.1111/jce.12849
Дополнительные файлы