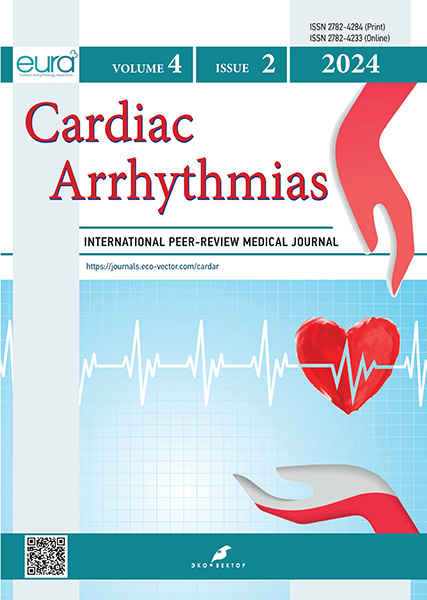An arrhythmic variant of the manifestation of paraneoplastic Loeffler endomyocarditis. Clinical case
- 作者: Grishkin Y.N.1, Zimina V.Y.1, Babayan A.A.2, Karchikian P.O.2, Butayev T.D.1, Grigorieva O.V.2
-
隶属关系:
- North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
- City Pokrovskaya Hospital
- 期: 卷 4, 编号 2 (2024)
- 页面: 29-40
- 栏目: Case reports
- URL: https://journals.eco-vector.com/cardar/article/view/635455
- DOI: https://doi.org/10.17816/cardar635455
- ID: 635455
如何引用文章
详细
A clinical case of chronic undulating course of parneoplastic Loeffler endomyocarditis, the leading manifestations of which were ventricular arrhythmias, is presented. The paper demonstrates the complexity of early diagnosis of a rare pathology in a polymorbid patient and attempts to identify the "keys" to the correct diagnostic and therapeutic tactics for managing such patients.
全文:
INTRODUCTION
Loeffler endomyocarditis (LEM) is a cardiac manifestation of hypereosinophilic syndrome (HES), wherein hypereosinophilia (eosinophil count >1500/μL) [1] and target-organ damage are obligatory components, caused by the degranulation of large numbers of eosinophils with the release of significant amounts of cytokines (i.e., interleukin (IL)-3, IL-5, and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) into organs and tissues [2–5].
The presence of characteristic echocardiographic signs allows the accurate diagnosis of LEM at late stages[6, 7]; however, the course of the disease at these stages is typically irreversible. Early diagnosis is challenging owing to the absence of overt and unambiguous symptoms. Nevertheless, early diagnosis and prompt intervention can prevent irreversible structural changes. We present a case of confirmed LEM wherein the initial clinical manifestation was recurrent ventricular rhythm disturbances.
CLINICAL CASE
A 60-year-old man was first admitted to St. Petersburg City Pokrovskaya Hospital in January 2023 with a ventricular tachycardia (VT) paroxysm. The ambulance team attempted to medically control the VT; however, this was ineffective, as were three subsequent defibrillator discharges, after which the patient was admitted to hospital. In the hospital, VT persisted after intravenous administration of 300 mg of amiodarone and was treated by electrical cardioversion (ECV). The electrocardiography (ECG) record of the first VT was lost; however, its description was preserved in the documents: the frequency of the VT was 176 beats per minute (bpm), QRS complex had the form of complete block of the right bundle branch (RBBB) and left anterior fascicular branch (LAFB) (left VT), and QRS width was 150 ms.
The patient’s medical history showed that the patient had suffered a non-ST elevation myocardial infarction in 2008 and underwent an anterior interventricular artery (AIVA) stenting the same year and a coronary artery bypass graft (CABG) in 2012. No ventricular rhythm disturbances were recorded until January 2023. At the first hospitalization in January 2023, VT occurrence was attributed to coronary heart disease (CHD) and post-infarction cardiosclerosis. The patient refused further evaluation and treatment and was discharged at his own request on hospitalization day 2.
Additionally, the patient had a history of peripheral carcinoma of the right lung, for which a right lung lobectomy was performed in 2014. In 2021, the patient underwent radiation therapy for carcinoma of the left lung. In December 2022, metastases to the pleura, lymph nodes, and mediastinum were detected. Since 2016, the patient has been under observation for chronic lymphocytic leukemia.
At the time of discharge, an echocardiographic study (EchoCG) was conducted, and no peculiarities were identified. The laboratory data available at that time are presented in Tables 1 and 2.
Table 1. Laboratory test results from January to November 2023
Indicators | Data | Reference values | |||
January 10, 2023 | January 11, 2023 | October 17, 2023 | November 05, 2023 | ||
Hemoglobin, g/ L | 91 | 115 | 103 | 95 | 130–160 |
Hematocrit, % | 27 | 33.9 | 38.4 | 29.8 | 40–48 |
Erythrocytes, 1012/L | 3.13 | 4 | 3.56 | 3.32 | 4–5.6 |
Leukocytes,109/L | 65.1 | 84.2 | 71.7 | 173.12 | 4–9 |
Lymphocytes,109/L | 51.7 | 65.1 | 40 | – | 1.2–3 |
Segmented neutrophils, % | 20 | 4 | 29 | 38.3 | 47–72 |
Eosinophils, % | 5 | 3 | 29 | 15 | 0.5–5 |
Platelets, 109/L | 161 | 205 | 160 | 73 | 180–320 |
ESR, mm/h | 16 | 59 | 55 | 40 | 1–10 |
Table 2. Dynamics of high-sensitivity troponin level in blood samples
January 10, 2023 01 hour and 51 minutes | January 10, 2023 11 hours and 13 minutes | October 17, 2023 | October 18, 2023 | October 18, 2023 | October 31, 2023 | November 11, 2023 | |
Troponin (I) (N 0-34 ng/L) | 5.7 | 26.8 | 983.1 | 1259.3 | 1510.3 | 1501.9 | 438.2 |
In April 2023, the patient underwent chemotherapy for carcinoma metastases using vinorelbine at 60 mg/m² on days 1, 8, and 21. Thereafter, the patient had no symptoms until September 2023.
In October 2023, the patient was readmitted to Saint Petersburg City Pokrovskaya Hospital because of an atypical pain in the precordial region and frequent VT paroxysms, occurring 3–4 times per day. On October 17, 2023, ECG exhibited alterations identical to those observed in the January 2023 (Fig. 1).
Fig. 1. ECG on October 17, 2023. Sinus rhythm with a rate of 88 per minute. Cardiac rotation of the right ventricle anteriorly and the apex posteriorly. Left atrium enlargement. Disseminated diffuse myocardial changes
Considering the elevated high-sensitivity troponin levels upon admission and tendency for these levels to remain elevated, a series of diagnostic procedures were conducted on hospitalization day 1, including coronary angiography, coronary shuntography, and ventriculography.
Coronary angiography findings:
- Right type of coronary blood supply.
- Left coronary artery without stenosis.
- AIVA: condition after stenting from the orifice (2012), chronic occlusion in the stent. Periphery: filled from the CABG and right coronary artery (RCA) collaterals.
- Diagonal artery: filled by a functioning CABG and retrogradely by collaterals of the circumflex artery (CA).
- CA: main branch without stenosis.
- Marginal artery: eccentric stenosis in the proximal third not exceeding 60%.
- RCA: moderately changed in proximal and middle third; stenosis not more than 60%.
Coronary shuntography
The CABG to AIVA function was satisfactory, with no anastomosis defects. In the case of chronic occlusion of AIVA immediately after anastomosis, the shunt functions on the septal and diagonal branches that originate from more proximal segments of the artery. Additionally, the apical segment of AIVA is filled retrogradely from the RCA pool.
Ventriculography showed no focal contractility abnormalities in the left ventricle (LV) and ejection fraction > 55%.
Subsequently, high troponin levels persisted throughout the hospitalization (Table 2).
Since hospitalization day 1, recurrent episodes of VT accompanied by a decline in blood pressure were observed. The ventricular nature of the arrhythmia was unquestionable. VT was diagnosed using the criteria by Vereckei A. et al. [8]: a QRS complex type R in the aVR lead and a Vi/Vt ratio ≤1 (Vi, rate of voltage change during the first 40 ms of the QRS complex; Vt, rate of voltage change during the last 40 ms of the QRS complex).
The initial episodes of VT were brief and self-limiting, resolving spontaneously. However, they eventually became longer in duration and necessitated the administration of ECV.
Two distinct types of VT were identified during the course of the patient’s hospital stay. The morphology of the complexes in both cases was practically identical, and the shape of the QRS complexes fully coincided with the description of VT from January 2023. Specifically, the shape was that of a complete RBBB and LAFB with a QRS width of 150 ms. When analyzing the ECG of type 1 VT, with a frequency of 131 bpm (Fig. 2), attention was drawn to the strictly regular alternation of two identical RR intervals (420 and 480 ms) and negative oscillations in the lower leads after the short R-R interval. The first impression of duplicated VT seemed unlikely, as this variant could involve two independent ventricular sources of automaticity operating simultaneously, both at excessively low and similar frequencies (~60 and 75 bpm). The presence of reciprocal LV VT was more probable, with two channels of impulse propagation, similar to the figure of eight configuration, in which the conduction time through one of the channels is longer than that through the other channel, with retrograde conduction of the impulses to the atria in a ratio of 2:1.
Fig. 2. ECG on November 4, 2023. Monomorphic reciprocal left ventricular tachycardia with a rate of 131 per minute. QRS complex is 150 ms and has the shape of a complete RBBB and LAFB, R-shape in aVR lead, and Vi/Vt ratio < 1 in V5 lead. The regular fluctuations of the R-R intervals can be explained by conduction through reentry loops of different sizes
Moreover, type 2 VT recorded on the same day was strictly regular, with a frequency of 157 bpm and similar characteristics of the QRS complexes of type 1 VT, but without regular fluctuations of the R-T intervals (which was considered to be propagation of the impulse along a single reentry loop). Additionally, no P-wave could be detected.
Fig. 3. ECG no. 2, November 4, 2023. Monomorphic reciprocal left ventricular tachycardia with a rate of 157 per minute. QRS complex is 150 ms, in the form of a complete RBBB and LAFB, R-shape in the aVR lead, and r/S ratio in the V6 lead < 1
In the intervals between hemodynamically significant VT paroxysms, frequent ventricular extrasystoles were recorded, the morphology of which was similar to the QRS complexes in the VT circuit (Fig. 4).
Fig 4. Sinus tachycardia ~100 per minute. Left ventricular extrasystole with complete compensatory pause, having the form of a complete RBBB and LAFB, similar to the form of QRS complexes in tachycardia. Overload of the left atrium
EchoCG showed hypercontractility of the basal and mid-LV segments associated with local akinesia of the apex (Merlon’s sign) and significant wall masses, which were initially believed to be extensive thrombotic deposits. These masses were localized in the area of the fixed apex and in the protrusion of myocardium with preserved contractility (Fig. 5). A similar condition was observed in the region of the outflow tract and the apex of the right ventricle (Fig. 6). LV systolic function was preserved. No echocardiographic evidence of severe diastolic dysfunction was noted.
Fig. 5. Echocardiogram of Loeffler endomyocarditis of the LV. Four-chamber view, apical approach. The arrows indicate wall masses in the area of the akinetic apex and in the projection of myocardium with preserved local contractility. The border between the myocardium and myocardial projections is clearly visible. The wall masses and myocardium have different densities, and there is an obvious boundary between them. Vertical arrows indicate extensive wall masses initially believed to be thrombus; horizontal arrow indicates LV myocardium
Based on the echocardiographic data, Loeffler endomyocarditis was diagnosed. In the hospital, the patient received anti-inflammatory therapy with glucocorticosteroids (in doses not exceeding the dose of prednisolone of 1.0 mg/kg intravenously) and antiarrhythmic therapy with amiodarone; however, the disease progressed. On hospitalization day 22, another VT paroxysm developed into ventricular fibrillation and then to asystole. Resuscitation was unsuccessful.
Fig. 6. Echocardiographic changes in the right ventricular outflow tract: a — short-axis view at the level of the aortic valve, subcostal approach, reveals parietal masses located in the outflow tract of the right ventricle, indicated by the lower arrow. The arrows above and to the right delineate the myocardium of the right ventricle and a clear boundary between the myocardium and the parietal deposits. For comparison; panel b — displays the same section from a healthy individual,demonstrating a non-thickened right ventricular myocardium absent of pathological parietal masses
Pathologic examination confirmed the diagnosis of Loeffler endomyocarditis. Macroscopically, large areas of inflammation and marked thickening of the endocardium of the left and right ventricles, with evidence of inflammation extending into the myocardium, were found. Two adjacent foci of muscle necrosis were noted in the apical part of the LV (Fig. 7).
Fig. 7. Macroscopic sections in the LV apex: а — two adjacent foci of necrosis of pale yellow color (black arrows); b — thickened, inflamed endocardium of pale pink color. Intact endocardial areas are marked with black arrows and damaged areas with white arrows
Clinically, no mural thrombus was found on pathologic–anatomic examination. What was believed to be a thrombotic mass in the wall was actually an inflamed, friable, and significantly thickened (edematous) endocardium.
Histological examination revealed eosinophilic infiltration of the endocardium and myocardium (Fig. 8), as well as of the liver, spleen, bone marrow, and lungs.
Fig. 8. Histological section of the endocardium and adjacent myocardium: a — endocardium; b — focus of necrosis; c — myocardium. At the border of the endocardium and myocardium, signs of necrosis of both endocardium and adjacent myocardium are noted. In the zone of endocardial necrosis, the presence of necrotic tissue, fibrin, and hemolyzed blood elements is observed. In the adjacent myocardium, similar changes are found: signs of necrosis, overgrowth of granulation tissue, and massive infiltration of the whole area with lymphocytes, plasmocytes, and eosinophils
DISCUSSION
The course of Loeffler endomyocarditis is characterized by three distinct stages: the acute necrotic stage, stage of wall thrombus formation, and stage of endomyocardial fibrosis. The acute stage persists for approximately 5-6 weeks and lacks distinctive symptoms, although fever, sweating, and arrhythmias may be present. Manifestations of the disease become evident at a later stage, exhibiting as recurrent thromboembolic events in the second stage and progressive heart failure in the third stage.
From a clinical perspective, it is noteworthy that the initial registered manifestation of the disease in the patient was a VT that occurred 10 months prior to the onset of the principal events. Prior to this, the patient with CHD had not experienced any ventricular arrhythmias, including coronary events. VT occurred concurrently with hypereosinophilia, with an estimated eosinophil count of 3255/μL. However, the percentage of eosinophils remained within the normal range, which was probably the reason for the underestimation of hypereosinophilia. The presence of granulation tissue in histologic sections indicated that there may have been earlier foci of necrosis at this site, which were eventually replaced by fibrous tissue. On January 10, 2023, myocardial damage was demonstrated by a marked increase in troponin levels in less than 10 hours. In practice, the increase in troponin level is often associated with myocardial damage owing to electrical discharge during ECV (especially during multiple ECV). Nevertheless, currently available data do not show a definitive correlation between ECV and troponin elevation. This observation reinforces the need to identify other causes of myocardial damage. Furthermore, had troponin levels been monitored in January 2023, a further rise in troponin levels would probably have been detected. However, this remains an assumption.
In the present case, the natural organic substrate of VT was fibrotic and necrotic myocardial changes that created conditions for reentry. The most remarkable indicator of reciprocal tachycardia is the near-complete uniformity of R-R intervals within the tachycardia chain. Both were recorded in our patient and exhibited absolute regularity. Furthermore, in the first type of tachycardia circuit, the R-R intervals exhibit a strict alternation of 420 and 480 ms, which occurs when impulse conduction is carried out by two loops of reentry, rather than a single one. A similar character of reciprocal tachycardia was previously presented by W.G. Stevenson et al. [10].
The presented types of VT represent two hypostases of a single reciprocal tachycardia originating from the high regions of the interventricular septum (IVS), which is clinically referred to as fascicular ventricular tachycardia (FVT) or verapamil-sensitive left VT. The morphology of the complexes was similar to that in FVT. In tachycardia, a complete RBBB is present, accompanied by a leftward deviation of the electrical axis. In contrast, under sinus rhythm, no initial similar changes are evident. This point of view has been explained; however, it ignores clinical and morphological data, particularly the presence of obvious morphological changes in the apex region, which is a suitable substrate for VT, whereas no changes were found in the high IVS region [10].
The presence of two foci of necrosis and two types of tachycardia showed that two different reciprocal tachycardias have developed, despite the similar morphology of the ventricular complexes. The similarity of the QRS complexes can be explained by the fact that, according to the autopsy results, all fibrotic–necrotic changes were compactly localized in the cardiac apex or that the direction of the vectors of electrical excitation propagation should be similar.
Clearly, our reasoning was speculative; however, assuming that it is correct and the first VT paroxysm was indeed the manifestation of LEM, no characteristic signs of LEM were detected by EchoCG at that time. Additionally, there was still no reliable diagnostically significant troponin elevation. Later, progressive hypereosinophilia developed (in the final stage, the number of eosinophils reached 23000/μL).
Remarkably, the relative stabilization of the condition (from January 2023 to September 2023) coincided with the course of chemotherapy. The main treatment method for reactive HES is effective therapy of the underlying disease [11]. Thus, our patient had no hemodynamically significant arrhythmias for 5 months after chemotherapy, and the fact that the leukocyte count at the beginning of the second hospitalization was slightly lower than in January may indicate the efficacy of the chemotherapy performed. Thus, chemotherapy may have slowed down the development of advanced clinical manifestations of LEM.
The abovementioned indicates that, in the present case, the reactive paraneoplastic LEM had a chronic wave-like character, with periods of exacerbation followed by periods of relative stabilization due to adequate therapy.
Treatment of LEM may vary depending on the type of HES. The three variants of HES should be differentiated when choosing a treatment option:
- Primary or clonal: myeloproliferative and myelodysplastic conditions in which eosinophils represent part of a neoplastic clone and/or FIP1L1/PDGFRA mutations are present [12, 13, 14].
- Reactive: hypereosinophilia is formed in response to exogenous stimuli via IL-3, IL-5, etc. (i.e., allergic conditions, parasitic infections, adverse drug reactions, and inflammatory or neoplastic diseases).
- Idiopathic hypereosinophilia: after exclusion of clonal and reactive HES.
In the primary variant, treatment is based on the administration of tyrosine kinase inhibitors (primarily imatinib), whereas the first-line treatment of reactive hypereosinophilia in the absence of FIP1L1/PDGFRA mutation is glucocorticoid steroids (GCS). Evidently, the primary course of action in reactive HES should be etiologic therapy. This may involve antiparasitic treatment for worm infestations, chemotherapy for neoplasms, or drug withdrawal in cases of drug hypersensitivity. The recommended starting dose of prednisolone is 1.0 mg/kg of body weight when administered orally and 5 mg/kg when administered intravenously. In critical cases, the total dose of methylprednisolone administered over a 3-day period may reach 1,000 mg. In cases of reactive HES, it is not recommended to prolong aggressive GCS therapy for more than 3–6 months. Imatinib-sensitive mutations should be excluded, even in cases wherein reactive HES is a potential diagnosis, as clonal HES has been demonstrated to exhibit resistance to steroid therapy [13, 14].
In idiopathic HES, mepolizumab, a humanized monoclonal antibody (IgG1, kappa) directed against IL-5, is the recommended treatment [13, 14].
In the event of resistance to initial pharmacological agents, alternative treatments may be considered, including immunosuppressive drugs (e.g., imatinib, hydroxyurea, vincristine, chlorambucil, etoposide, and cytarabine), immunomodulators (e.g., peginterferon alfa-2a and interferon alfa-2b), and interleukin inhibitors (e.g., mepolizumab and benralizumab) [13, 14].
CONCLUSIONS
The main diagnostic sign of Loeffler endomyocarditis is hypereosinophilia. A high level of physician vigilance is warranted for the recognition and differential diagnosis of hypereosinophilia and hypereosinophilic syndrome.
Ventricular rhythm disturbances with hypereosinophilia may be an early manifestation of Loeffler endomyocarditis and precede diagnostically significant troponin elevations and appearance of typical echocardiographic and electrocardiographic signs.
The use of adequate doses of GCS should be preceded by the exclusion of imatinib-sensitive mutations.
The course of reactive (in the present case, paraneoplastic) Loeffler endomyocarditis may be wavy, with periods of relative stabilization during effective therapy of the underlying disease, provided that such therapy is initiated at the early stage of endomyocarditis.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contribution. Thereby, all authors confirm that their authorship complies with the international ICMJE criteria (all authors have made a significant contribution to the development of the concept, research, and preparation of the article, as well as read and approved the final version before its publication). Personal contribution of the authors: Yu.N. Grishkin, V.Yu. Zimina — concept, design, materials processing, data analysis, writing, literature review; P.O. Karchikian — collection, processing, analysis of echocardiographic data, literature review; A.A. Babayan — collection and analysis of daily monitoring data, literature review; O.V. Grigorieva — collection, processing, analysis of pathological and histological data; T.B. Butaev — materials processing, data analysis.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patient for publication of relevant medical information and all accompanying images within the manuscript.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией. Вклад каждого автора: Ю.Н. Гришкин, В.Ю. Зимина — концепция, дизайн, обработка материалов, анализ данных, написание текста, обзор литературы; П.О. Карчикьян — сбор, обработка, анализ данных ЭхоКГ, обзор литературы; А.А. Бабаян — сбор и анализ данных суточного мониторирования, обзор литературы; О.В. Григорьева — сбор, обработка, анализ патологоанатомических и гистологических данных; Т.Б. Бутаев — обработка материалов, анализ данных.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Информированное согласие на публикацию. Авторы получили прижизненное согласие пациента на публикацию медицинских данных и всех сопутствующих изображений.
作者简介
Yuri Grishkin
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: yurigrishkin@yandex.ru
SPIN 代码: 9997-2073
MD, Dr. Sci. (Med.), professor
俄罗斯联邦, Saint PetersburgVera Zimina
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: Vera.Zimina@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0002-5655-8981
SPIN 代码: 7202-1071
MD, Cand. Sci. (Med.)
俄罗斯联邦, Saint PetersburgAnahit Babayan
City Pokrovskaya Hospital
编辑信件的主要联系方式.
Email: babayan.anahit24@gmail.com
ORCID iD: 0009-0001-0898-2622
cardiologist
俄罗斯联邦, Saint PetersburgPavel Karchikian
City Pokrovskaya Hospital
Email: p1472141@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8288-0352
SPIN 代码: 3138-0839
MD, Cand. Sci. (Med.)
俄罗斯联邦, Saint PetersburgTamerlan Butayev
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: butayevtd@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0005-8314-808X
MD, Cand. Sci. (Med.)
俄罗斯联邦, Saint PetersburgOksana Grigorieva
City Pokrovskaya Hospital
Email: ovg-spb-6868@mail.ru
pathologist
俄罗斯联邦, Saint Petersburg参考
- Hoffman R, Edward J, Benz E, et al. Hematology, basic principles and practice. 8th edition. Elsevier; 2022;1243–1257. doi: 9780323733892
- Loeffler W. Scientific raisins from 125 years SMW (Swiss Medical Weekly). 2nd international medical week dedicated in Switzerland. Luzern, 31 August — 5 September 1936. Fibroplastic parietal endocarditis with eosinophilia. An unusual disease. 1936. Schweizerische Medizinische Wochenschrift. 1995;125:1837–1840. (In German.)
- Chao BH, Cline-Parhamovich K, Grizzard JD. Fatal Loeffler’s endocarditis due to hypereosinophilic syndrome. Am J Hematol. 2007;82(10):920–923. doi: 10.1002/ajh.20933
- Crane MM, Chang CM, Kobayashi MG, Weller PF. Incidence of myeloproliferative hypereosinophilic syndrome in the United States and an estimate of all hypereosinophilic syndrome incidence. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(1):179–181. doi: 10.1016/j.jaci.2010.03.035
- Mubarik A, Iqbal AM. Loeffler Endocarditis. [Updated 2024 Jan 7]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024 Jan. — [cited 2024 Sept 18] Available from: https://www.statpearls.com/point-of-care/21092
- Ogbogu PU, Rosing DR, Horne MK 3rd. Cardiovascular manifestations of hypereosinophilic syndromes. Immunol Allergy Clin North Am. 2007;27(3):457–475. doi: 10.1016/j.iac.2007.07.001
- Otto KM. Clinical echocardiography: a practical guide / transl. from English; ed. by Sandrikov VA; edited by Galagudza MM, Domnitskaya TM, Zelenikin MM, et al. Moscow: Logosphere; 2019. P. 688–690. EDN: BUAHUQ
- Vereckei A, Duray G, Szénási G, et al. New algorithm using only lead AVR for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Heart Rhythm. 2008;5(1):89–98. doi: 10.1016/j.hrthm.2007.09.020
- Lobo R, Jaffe AS, Cahill C, et al. Significance of high-sensitivity troponin t after elective external direct current cardioversion for atrial fibrillation or atrial flutter. Am J Cardiol. 2018;121(2):188–192. doi: 10.1016/j.amjcard.2017.10.009
- Stevenson WG, Friedman PL, Sager PT, et al. Exploring postinfarction reentrant ventricular tachycardia with entrainment mapping. J Am Coll Cardiol. 1997;29(6):1180–1189. doi: 10.1016/s0735-1097(97)00065-x
- Turkina AG, Nemchenko IS, Tsyba NN, et al. Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of myeloproliferative diseases associated with eosinophilia. 2018. 30 р. (In Russ.) EDN RTBSCM
- Butt NM, Lambert J, Ali S, et al. British committee for standards in haematology. Guideline for the investigation and management of eosinophilia. Br J Haematol. 2017;176(4):553–572. doi: 10.1111/bjh.14488
- Groh M, Rohmer J, Etienne N et al. French guidelines for the etiological workup of eosinophilia and the management of hypereosinophilic syndromes. Orphanet J Rare Dis. 2023;18(1):100. doi: 10.1186/s13023-023-02696-4
- Medscape [Internet]. Samavedi VA, Sacher RA, Herrin VE, et al. Hypereosinophilic syndrome clinical presentation. [cited 2024 Sep. 18]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/202030-clinical
补充文件