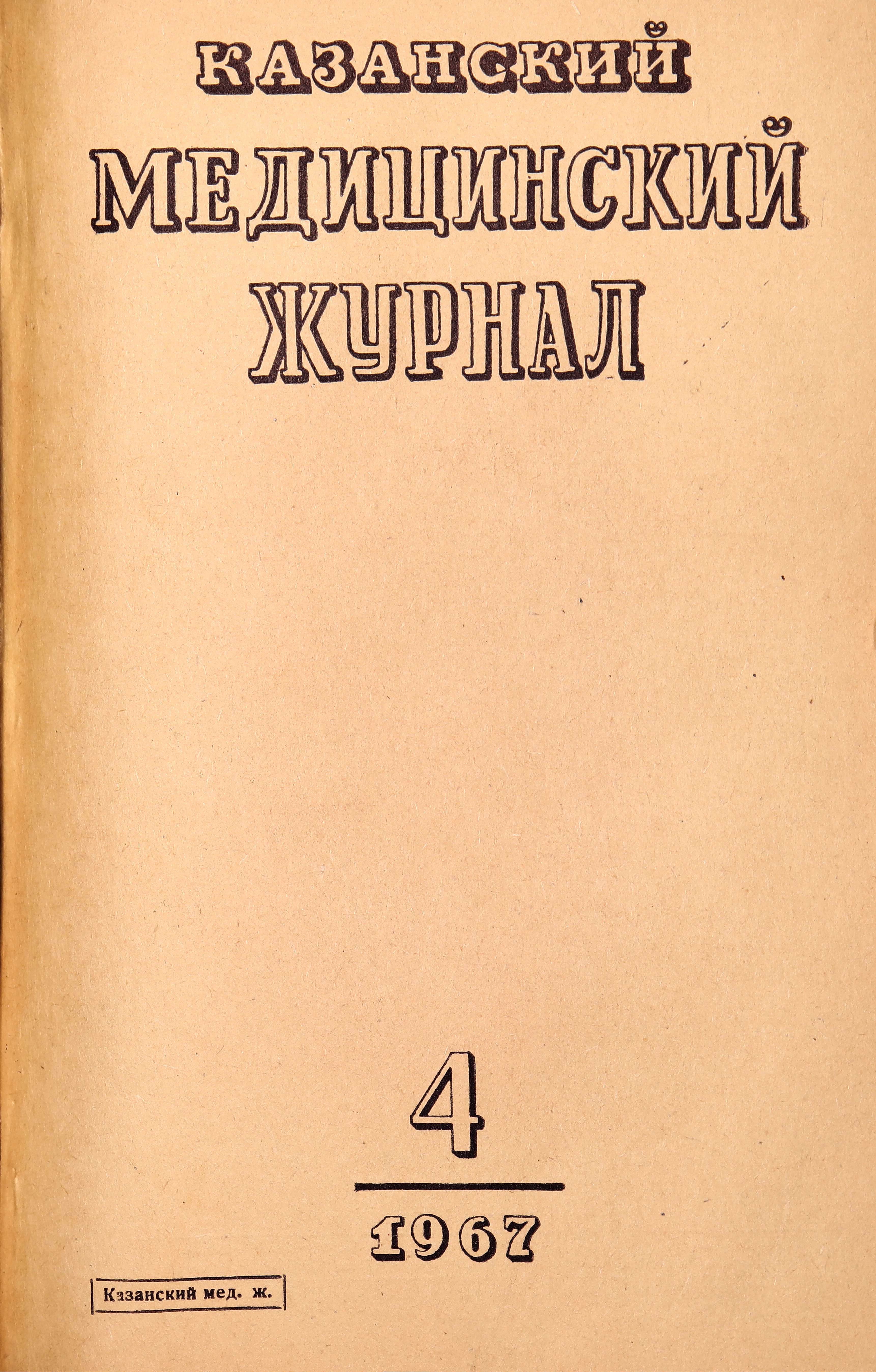Реографии легких и оксигемометрическое определение скорости кровотока у больных с поражениями сердца
- Авторы: Андреев В.М.1
-
Учреждения:
- Казанский ГИДУВ им. В. И. Ленина
- Выпуск: Том 48, № 4 (1967)
- Страницы: 17-20
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 26.01.2021
- Статья одобрена: 26.01.2021
- Статья опубликована: 29.07.1967
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/59304
- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj59304
- ID: 59304
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Замедление скорости кровотока является одним из ранних признаков недостаточности кровообращения (Г. Ф. Ланг, А. Л. Михнев, А. Г. Дембо, А. М. Тюрин, И. Т. Теплов и др.), причем скорость кровотока меняется раньше, чем другие гемодинамические показатели: венозное давление, ударный объем сердца, количество циркулирующей крови и т. д. (А. Л. Михнев, Ц. А. Левина, Б. И. Шполянская).
Ключевые слова
Полный текст
Замедление скорости кровотока является одним из ранних признаков недостаточности кровообращения (Г. Ф. Ланг, А. Л. Михнев, А. Г. Дембо, А. М. Тюрин, И. Т. Теплов и др.), причем скорость кровотока меняется раньше, чем другие гемодинамические показатели: венозное давление, ударный объем сердца, количество циркулирующей крови и т. д. (А. Л. Михнев, Ц. А. Левина, Б. И. Шполянская).
В 1935 г. Маттес предложил оксигемометрический способ определения скорости кровотока на отрезке «легкие — ухо». Положительные стороны этого метода бесспорны: он не нуждается в наблюдательности исследуемого, не связан с пункцией вены, обеспечивает графическую регистрацию и т. д. Хотя таким образом фиксируется кровоток в участках большого и малого круга, но в основном характеризуется движение крови по системе легочных вен (Ю Л. Анин, Е. А. Грузина). Многие исследователи указывают, что этот метод можно использовать для определения скорости тока артериальной крови с целью суждения о недостаточности кровообращения.
В 1961 г. для изучения кровообращения легких Ю. Т. Пушкарь у нас впервые применил метод реографии, разработанный А. А. Кедровым, Гольцером, Польцером и др. и заключающийся в регистрации колебаний сопротивления тела как проводника электрического тока, определяющихся колебаниями в количестве крови, в первую очередь в крупных сосудах исследуемого участка. В настоящее время метод реографии пользуется широкой популярностью при изучении кровообращения в конечностях, черепе, печени, почках, сердце и других органах.
Мы использовали оксигемометрический метод определения кровотока и реографию легких по Ю. Т. Пушкарю для характеристики кровообращения в малом круге у 151 больного приобретенным пороком сердца (у 98 — повторно в ходе лечения, в том числе у 12 до и после митральной и митрально-аортальной комиссуротомии) и у 25 легочных больных. Среди больных пороками сердца с Hi было 58 чел., с Н2 — 73, с Н3 —20; среди исследованных в ходе лечения с H1 было 32 чел., с Н2 — 41, с Н3 —13.
У здоровых (53 чел.) скорость кровотока на отрезке «легкие — ухо» равнялась 6,1 сек. (от 5 до 8 сек.). Только у 2 мужчин старше 45 лет она достигала 8 сек., у 8 лиц старше 30 лет была больше 7 сек.
Многие авторы за период кровотока в малом круге принимают время от высоты вдоха до обратного отклонения стрелки оксигемометра. Но так как темп вдоха у разных людей различный, то более целесообразно начинать отсчет времени с начала вдоха. В этом мы согласны с Ю. Л. Аниным. Наши данные совпадают с приведенными в литературе.
При H1 скорость кровотока в малом круге равна 7,4 сек. (от 5 до 12 сек.), у 32,8% больных — 8 сек. и больше; при Н2—10,4 сек. (от 6 до 18 сек.), у 82,2% — 8 сек. и больше, причем у 39 из 73 больных—10 сек. и больше. Резкое замедление кровотока отмечено у наиболее тяжелых больных. При Н3 скорость кровотока равна 14,9 сек. (от 10 до 21 сек.), то есть имеется резкое замедление. При заболеваниях легких с эмфиземой легких скорость кровотока равна 6,4 сек. (от 5 до 8 сек.), причем с присоединением сердечной недостаточности у этих больных кровоток несколько замедляется.
В результате лечения в стационаре (от 3 до 4 недель) у больных с H1 кровоток ускорился в среднем на 0,4 сек. У 19 из 32 больных найдено ускорение кровотока от 0,5 до 2,5 сек., у 6 — некоторое замедление, у 7 изменений не было.
При Н2 кровоток ускорился в среднем на 1 сек. У 21 из 41 больного отмечено ускорение от 0,5 до 7 сек., у 10 — некоторое замедление. У части исследованных наблюдалось выраженное ускорение кровотока (с 12 до 6,6 сек., с 17 до 10 сек.). При ухудшении состояния больных регистрировалось значительное замедление кровотока (с 11 до 16 сек.).
При Н3 кровоток ускорился в среднем на 1,8 сек. У 9 больных было ускорение от 2 до 9 сек., у 4 — замедление. В этой группе в результате лечения у некоторых больных ускорение кровотока было также существенным (с 16 до 10,5 сек., с 20 до 14 сек.). При ухудшении состояния отмечено замедление кровотока (от 0,5 до 8 сек.). Однако ускорение кровотока во всех группах статистически недостоверно.
Выяснилось, что у больных с преобладанием стеноза левого венозного отверстия кровоток достоверно более замедлен, чем у больных с преобладанием недостаточности митрального клапана.
После операции через 1—2 месяца кровоток ускорился до 2 сек., у остальных — от 4 до 6,5 сек. У 5 больных после операции заметного улучшения состояния не было, у них кровоток не ускорился или ускорение было минимальным (1—2 сек.). Значительное ускорение наступило у тех больных, у которых кровоток был замедлен до операции и результат операции был эффективный.
При исследовании через 6—12 месяцев изменения в скорости кровотока по сравнению с данными через 1—2 месяца после операции были несущественными, всего в пределах 0,5 сек. У больных со стойким улучшением состояния после операции при исследовании через 1—2 месяца обнаружено ускорение кровотока, скорость его стала нормальной. У больных без улучшения состояния в ближайшее время после операции и в дальнейшем было замедление кровотока или он ускорился незначительно и не стал нормальным. Скорость кровотока оказалась наиболее динамичным показателем изменения состояния больных в ходе обычного и оперативного лечения по сравнению с данными исследования внешнего дыхания.
У здоровых реографический индекс составил в среднем 1,3 (от 0,8 до 2), у 52 из 53 исследованных он был не ниже 1. Время от Q ЭКГ до начала подъема основной (систолической) волны легочной реограммы — 0,13 сек. (от 0,08 до 0,16 сек.). У 39,3% здоровых это время было равным 0,14—0,16 сек. Время подъема систолической волны — 0,17 (от 0,1 до 0,26 сек.). Вершина основной волны ни у одного больного не выступала после II тона на ФКГ. Реограммы характеризовались относительно быстрым подъемом с несколько закругленными вершинами и более медленным пологим спуском с наличием одной незначительной волны. Высоких диастолических волн и уплощения кривых с образованием как бы «плато» у здоровых мы не наблюдали.
При H1 индекс—1,2, время Q ЭКГ —начало основной волны реограммы — 0,14 сек., продолжительность систолической волны — 0,21 сек., у 6 больных вершина систолической волны наступала после II тона сердца. У 6 из 50 исследованных отмечена высокая диастолическая волна и уплощение кривой.
При Н2 исследовано 59 больных. Индекс — 1,3, Q ЭКГ — начало основной волны— 0,14 сек., продолжительность основной волны — 0,18 сек., вершина основной волны у 18 больных наступала после II тона. У 32 больных мы наблюдали высокую диастолическую волну и уплощение кривой.
При Н3 исследовано 17 больных. Индекс — 0,8, Q ЭКГ — начало основной волны— 0,13 сек., продолжительность основной волны — 0,16 сек. У 10 больных наблюдалась высокая диастолическая волна и уплощение кривой.
При заболеваниях легких индекс — 1, Q ЭКГ — начало систолической волны — 0,13 сек., время подъема систолической волны — 0,15 сек., вершина ее у всех больных не доходит до II тона сердца. Диастолической волны и уплощения кривой мы также не наблюдали ни у одного больного.
В ходе лечения больных пороками сердца отмечалось укорочение продолжительности основной волны, несколько увеличился индекс, у части больных с Н2 вершина основной волны сместилась влево от II тона.
У 11 больных произведена реография легких до и после операции на сердце. У 6 больных через 6—12 месяцев не стало уплощения кривой и высокой диастолической волны. У 5 больных диастолическая волна и уплощение кривой остались, но изменился характер реограммы: диастолические волны стали меньше, у части больных они снизились до уровня систолической волны, в то время как до операции они были в 2—3 раза выше основной волны. Из 3 больных, у которых не нормализовались реограммы, у 2 улучшения не было, у 1 из них через 9 месяцев при поступлении в клинику с ухудшением состояния (отеки, асцит) изменилась реограмма: до операции диастолическая волна была той же высоты, что и систолическая, отмечалось «плато», после операции диастолическая волна стала выше основной в 1,5 раза, не стало уплощения. У 2 больных диастолические волны уменьшились до размеров систолической. У большинства вершина основной волны сместилась влево от II тона. Таким образом, у всех оперированных через 6—12 месяцев наступили той или иной степени изменения реограмм легких. Наиболее характерными были исчезновение диастолической волны и уплощение кривой.
Скорость кровотока несколько снижается к 50 годам, особенно у мужчин. Кровоток замедляется также с нарастанием недостаточности кровообращения, причем тем сильнее, чем тяжелее состояние больных. Особенно резкое замедление кровотока наблюдается у больных пороками сердца при Н3. Наши данные совпадают с наблюдениями других авторов (Ю. Л. Анин, В. Г. Аматунян, А. М. Тюрин, Д. А. Валимухаметова и др.). Изменение скорости кровотока является хорошим прогностическим показателем у больных после операции. Если состояние больных после операции улучшается значительно, то кровоток в ближайшее время становится нормальным. При неэффективном оперативном вмешательстве скорость кровотока в малом круге изменяется мало и даже через 6—12 месяцев остается такой же, как до операции. Причем скорость кровотока на результат операции реагирует быстрее других показателей функции внешнего дыхания. Кровоток несколько ускоряется и при консервативном лечении.
Пульмональная реография у здоровых имеет характерные черты: реографический индекс, превышающий 1,0, высокую систолическую волну с быстрым подъемом и медленным спуском и невысокую диастолическую волну, определенные временные соотношения между различными точками реограммы. У больных с недостаточностью кровообращения наиболее характерными были высокая диастолическая волна (равная систолической или выше ее в 1—3 раза), уплощение кривой. Эти признаки, по данным Т. Ю. Пушкаря, Р. Ф. Гаваловой, Е. Й. Аникина, Матздорфа и др., свидетельствуют о значительном кровенаполнении легких в диастолическую фазу, о затруднении венозного оттока, о венозном застое — венозной посткапиллярной гипертонии. Мы пришли к таким же выводам. У здоровых и у больных с заболеваниями легких мы не видели этих признаков, хотя у легочных больных наблюдается гипертония малого круга. Но гипертония у них прекапиллярная, без венозного застоя. Только в результате присоединения хронической недостаточности кровообращения III ст. у некоторых больных с заболеваниями легких появляется высокая диастолическая волна.
С нарастанием степени недостаточности сердца среди больных пороками сердца увеличивается число лиц с этими признаками. Так, при H1 положительные симптомы венозного застоя (диастолическая волна и уплощение кривой) констатированы у 12%, при Н2 — у 56%, при Н3 — у 67% исследованных больных. Однако у части больных со стенозом правого венозного отверстия и недостаточностью трехстворчатого клапана при Н3 не было высокой диастолической волны и уплощения кривой.
Л. И. Гофман отмечает, что сглаживание реограммы указывает на невозможность быстрого изменения объема сосудов из-за ухудшения их эластичности вследствие повышения в них давления, а возможно и анатомических изменений в легких.
Изучение влияния характера порока сердца на данные легочной реографии показало, что у больных митральным пороком при Н2 венозный застой встречается чаще, чем у больных аортально-митральным пороком, а при Н3 у больных с митрально-трикуспидальным пороком — реже, чем при митрально-аортальном пороке.
Интересно отметить, что не у всех больных с клиническими и ЭКГ-симптомами высокой гипертонии малого круга выявлены реографические признаки посткапиллярной венозной гипертонии, и наоборот, при наличии реографических признаков венозного застоя не было клинических и ЭКГ-симптомов высокой гипертонии малого круга.
Из 69 больных с высокой гипертонией малого круга только у 40 найдены реографические проявления венозного застоя. В то же время из 52 больных без гипертонии малого круга у 12 отмечены признаки венозного застоя. Это наблюдение подтверждает учение Китаева о рефлекторном характере гипертонии малого круга, которая может наступить при увеличении давления в левом предсердии задолго до застоя в системе легочных вен.
После операции через 2—12 месяцев у части больных исчезли признаки посткапиллярной гипертонии, а у других диастолическая волна намного уменьшилась. Соответственно улучшилось состояние больных, нормализовались показатели функции внешнего дыхания. Но если у больных пороками сердца имелись большие изменения в легких (пневмосклероз и эмфизема легких), показатели функции внешнего дыхания (остаточный объем легких, равномерность альвеолярной вентиляции, ЖЕЛ, ОЕЛ, бронхиальная проходимость) не улучшались и после ликвидации венозного застоя.
Следовательно, при устранении механического фактора затруднения оттока венозной крови уменьшается кровенаполнение в системе легочных вен. Но после операции венозная гипертония проходит не у всех, очевидно потому, что остается недостаточность митрального клапана, слабость миокарда, которые могут поддерживать венозный застой. При уточнении показаний к оперативному лечению больных пороками сердца иногда большую услугу могут оказывать данные легочной реографии. Если у больных (при учете всей клиники) нет признаков венозного застоя, можно, следовательно, думать, что картина болезни в немалой степени обязана изменениям со стороны бронхо-пульмональной системы и что механический фактор с затруднением оттока венозной крови не играет такой большой роли (очень важно при этом учитывать величину остаточного объема и равномерность альвеолярной вентиляции для диагностики пневмосклероза и эмфиземы легких как осложнений порока сердца).
ВЫВОДЫ
1.Реографическое исследование кровообращения малого круга позволяет диагностировать посткапиллярную венозную гипертонию, наиболее важные признаки которой составляют высокая диастолическая волна и уплощение кривой. После комиссуротомии эти проявления исчезают или становятся менее выраженными. Отсутствие реографических признаков венозного застоя при наличии клинических и ЭКГ-симптомов высокой гипертонии малого круга у части больных подтверждает рефлекторный характер прекапиллярной гипертонии малого крута.
2.Скорость кровотока в малом круге при недостаточности сердца замедляется, хорошо коррелируя со степенью недостаточности кровообращения. Поэтому определение скорости кровотока имеет прогностическое значение в оценке состояния больных после операции. При эффективной комиссуротомии кровоток становится нормальным в ближайшее время после операции, замедление кровотока является ранним симптомом недостаточности кровообращения.
3.При изучении кровообращения малого круга оксигемометрия и реография дополняют друг друга и должны найти широкое применение в клинике.
Об авторах
В. М. Андреев
Казанский ГИДУВ им. В. И. Ленина
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
I кафедра терапии
РоссияСписок литературы
- Аматунян В. Г. Клин, мед., 1958, 8
- Анин ІО. Л. Определение скорости тока крови у здоровых лиц и сердечно-сосудистых больных с помощью катодного оксигемометра. Автореф. канд. дисс., Одесса, 1959.
- Валимухаметова Д. А. Тер. арх.э 1961, 9.
- Гавалова Р. Ф. и Аникин Е. И. Врач, дело, 1966, 10.
- Грузина Е. А. Там же, 1963, 12.
- Дембо А. Г. и Тюрин А. М. Кардиология, 1961, 4.
- Ланг Г. Ф. Болезни системы кровообращения. Медгиз, М., 1958.
- Левина Ц. А. и Шполянская Б. И. Врач, дело, 1957, 1.
- Михнев А. Л. Там же, 1965, 4
- Пушкарь Ю. Т. Тер. арх., 1961, 3; В сб.: Мат. II Всеросс. съезда врачей-терапевтов, М., 1964
- Тюрин А. М. Бескровное определение скорости кровотока методом оксигемометрии в норме и патологии. Автореф. канд. дисс., Л., 1961
- Matthes К. Arch. exp. Path., 1935, 179, 698—711.
- Matzdorff F. Z. Kreisl-Forsch., 1953, 42, 25—39
- Polzer K, Holzer N. Schweiz, med. Wschr., 1947, 77, 921—924.
Дополнительные файлы