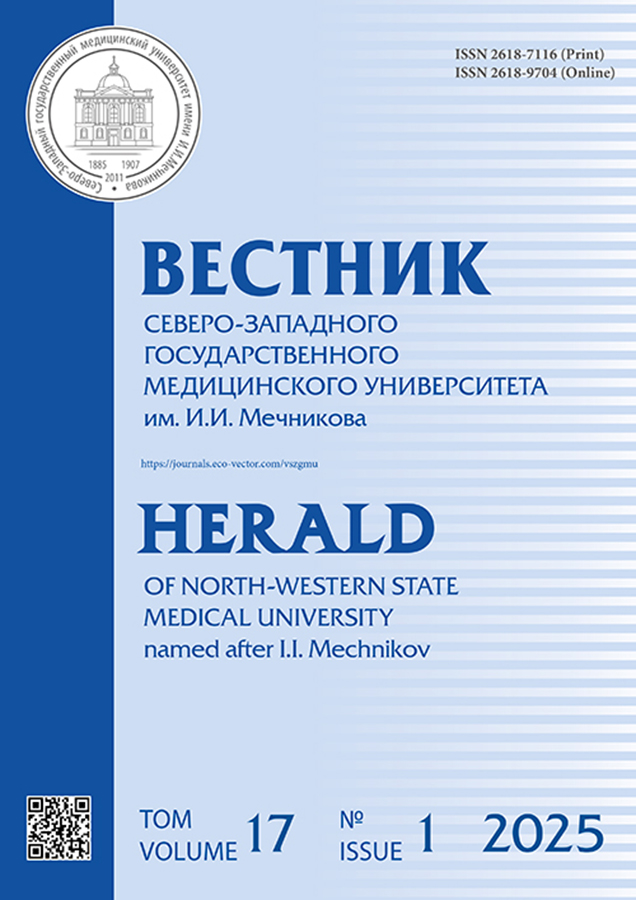Уремические токсины микробного происхождения как фактор сосудистого ремоделирования у больных, получающих лечение гемодиализом
- Авторы: Пятченков М.О.1, Щербаков Е.В.1, Трандина А.Е.1, Леонов К.А.2, Соболев П.Д.2, Никифорова А.Г.2, Рубцов Ю.Е.1, Нагибович О.А.1
-
Учреждения:
- Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
- Экзактэ Лабс
- Выпуск: Том 17, № 1 (2025)
- Страницы: 76-88
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 06.07.2024
- Статья одобрена: 21.10.2024
- Статья опубликована: 13.05.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/vszgmu/article/view/634081
- DOI: https://doi.org/10.17816/mechnikov634081
- EDN: https://elibrary.ru/YEIJPQ
- ID: 634081
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. В популяции лиц с хронической болезнью почек высокие уровни уремических токсинов микробного происхождения независимо от наличия традиционных факторов риска являются предикторами повышенного риска неблагоприятных исходов вследствие различных кардиоваскулярных осложнений. Между тем механизмы этой ассоциации остаются в значительной степени неизученными.
Цель — изучить взаимосвязь содержания уремических токсинов микробного происхождения индоксил сульфата, п-крезил сульфата и триметиламин-N-оксида с показателями сосудистого ремоделирования у пациентов, получающих лечение гемодиализом.
Материалы и методы. В исследование включено 80 гемодиализных больных и 80 лиц без нарушения функции почек, сопоставимых по полу, возрасту, индексу массы тела и статусу курения. Наличие и степень выраженности сосудистого ремоделирования оценивали по показателям индекса сосудистой жесткости, толщины комплекса интима-медиа, кальцификации брюшной аорты, эндотелий-зависимой вазодилатации плечевой артерии. Концентрацию индоксил сульфата и п-крезил сульфата в сыворотке крови оценивали методом иммуноферментного анализа. Уровень триметиламин-N-оксида определяли методом жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии.
Результаты. У пациентов на диализе отмечены значимо более высокие показатели индекса сосудистой жесткости по сравнению с контрольными значениями (9,5±1,5 против 7,8±1,2, p <0,001) и толщины комплекса интима-медиа (1,04±0,2 против 0,95±0,15 мм; p=0,001), а также более низкий уровень эндотелий-зависимой вазодилатации (3,9±1,2 против 7,5±0,8%, p <0,001). Медиана индекса кальцификации брюшной аорты в этой группе составила 4,5 (0,0–9,0). Многофакторный регрессионный анализ показал, что даже с учетом других зависимых факторов сывороточный уровень индоксил сульфата являлся предиктором повышения индекса сосудистой жесткости (β=0,266; p=0,002) и толщины комплекса интима-медиа (β=0,372; p=0,001), концентрация п-крезил сульфата значимо ассоциирована со значениями индекса сосудистой жесткости (β=0,143; p=0,048) и кальцификации брюшной аорты (β=0,21; p=0,032), а содержание триметиламин-N-оксида независимо влияло на индекс сосудистой жесткости (β=0,223; p=0,004), толщину комплекса интима-медиа (β=0,208; p=0,024) и эндотелий-зависимую вазодилатацию (β=−0,262; p=0,004).
Заключение. Обнаруженная в данном исследовании взаимосвязь между повышенным содержанием уремических токсинов микробного происхождения и суррогатными маркерами сердечно-сосудистых заболеваний (показателями индекса сосудистой жесткости, толщины комплекса интима-медиа, кальцификации брюшной аорты и эндотелий-зависимой вазодилатации) может свидетельствовать о значимой роли индоксил сульфата, п-крезил сульфата и триметиламин-N-оксида в сосудистом ремоделировании у лиц, получающих лечение гемодиализом.
Ключевые слова
Полный текст
Обоснование
Хроническая болезнь почек (ХБП) является одним из наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний во всем мире, демонстрирующим на протяжении последних лет один из самых высоких темпов роста [1]. Нарушение функции почек напрямую связано с высокими показателями заболеваемости и смертности в целом и кардиоваскулярными заболеваемостью и смертностью в частности [2]. Важно отметить, что пациенты с ХБП чаще умирают от сердечно-сосудистых осложнений еще до достижения терминальной стадии почечной недостаточности [3], а уровень кардиоваскулярной смертности у лиц, находящихся на диализе, в 10–30 раз выше, чем в общей популяции [4]. Широкая распространенность традиционных факторов риска [пожилой возраст, мужской пол, курение, высокий индекс массы тела (ИМТ), артериальная гипертензия, сахарный диабет и дислипидемия] не может в полной мере объяснить повышенную частоту неблагоприятных клинических исходов, наблюдаемую у этих больных. В то же время по мере прогрессирования почечной недостаточности гораздо большую значимость приобретают нетрадиционные, специфичные для ХБП факторы риска, такие как анемия, белково-энергетическая недостаточность, воспаление, окислительный стресс, нарушения минерально-костного обмена, накопление уремических токсинов и др. [3, 5].
Уремические токсины представляют собой чрезвычайно гетерогенную группу молекул с различными значениями молекулярной массы, физико-химическими свойствами и биологическими функциями. Они образуются в результате экзогенного поступления, эндогенного или микробного метаболизма. К настоящему времени идентифицировано по меньшей мере 150 различных уремических токсинов, включая более 25 соединений диетического и кишечного происхождения [6, 7]. Уремические токсины микробного происхождения индоксил сульфат (ИС), п-крезил сульфат (ПКС) и триметиламин-N-оксид (ТМАО) синтезируются в результате катаболизма кишечными бактериями триптофана, фенилаланина, тирозина и четвертичных аминов, включая бетаин, L-карнитин или фосфатидилхолин, поступающих с пищей. Этому в значительной степени способствует часто наблюдаемый у лиц c ХБП кишечный дисбактериоз [8, 9]. Индуцированные уремией нарушения целостности кишечного барьера облегчают системную транслокацию этих соединений, где они оказывают патогенное воздействие на широкий спектр мишеней, включая сосуды и миокард [10].
В популяции больных ХБП повышенные уровни уремических токсинов микробного происхождения независимо от традиционных факторов риска прогнозируют риск неблагоприятных исходов вследствие различных кардиоваскулярных осложнений, включая коронарные события, аритмии, внезапную сердечную смерть и застойную сердечную недостаточность [11–13]. Одними из наиболее важных модуляторов этой патологической ассоциации являются атеросклероз и сосудистая кальцификация, распространенность которых существенно возрастает по мере снижения функции почек [2]. Многочисленные экспериментальные работы убедительно продемонстрировали ангиотоксичные эффекты уремических токсинов микробного происхождения, включая трансдифференцировку и апоптоз гладкомышечных клеток, дисфункцию эндотелиоцитов, активацию воспаления, окислительного стресса, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и модификацию профиля микроРНК [14]. В то же время обсервационные клинические исследования не предоставили столь однозначных результатов. С одной стороны, более высокие сывороточные концентрации ИС, ПКС и ТМАО были связаны с большим риском фатальных или нефатальных атеросклеротических сердечно-сосудистых событий, а также коррелировали с тяжестью кальцификации сосудов [15–17]. Однако когортное исследование CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort), включавшее 3407 пациентов с ХБП, но без терминальной стадии почечной недостаточности, не подтвердило наличие статистически значимых взаимосвязей между почечным клиренсом ИС и ПКС и развитием сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта после корректировки на скорость клубочковой фильтрации [18]. Аналогичные результаты получены у больных, находящихся на диализе, хотя в одном из них, а именно в исследовании HEMO (Hemodialysis Study), высокие уровни ИС служили предикторами сердечной смерти только в подгруппе пациентов с низким содержанием альбумина [19–21]. С учетом этих противоречивых клинических ассоциаций определение этиологических факторов и молекулярных механизмов, лежащих в основе сосудистой дисфункции, имеет решающее значение для улучшения неблагоприятных исходов в популяции больных ХБП.
Цель — изучить взаимосвязь содержания уремических токсинов микробного происхождения с показателями сосудистого ремоделирования у пациентов, получающих лечение гемодиализом.
Материалы и методы
Настоящее исследование является продолжением предыдущей работы авторов, показавшей у гемодиализных больных выраженные качественные и количественные изменения состава кишечной микробиоты со значительным повышением концентрации в крови ИС, ПКС и ТМАО [22].
Обследовано 80 (40 мужчин и 40 женщин) пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на лечении программным гемодиализом в клинике нефрологии и эфферентной терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В группу сравнения вошли 80 лиц без нарушения функции почек, сопоставимых по полу, возрасту, ИМТ и статусу курения. Критерии исключения: острые воспалительные и некомпенсированные хронические заболевания, стойкие нарушения сердечного ритма, онкологическая патология в стадии прогрессирования, хирургические вмешательства или травма за 3 мес. до исследования.
У всех пациентов определены стандартные клинико-лабораторные показатели. Акцент сделан на учет максимального количества предикторов, влияющих на изучаемые параметры сосудистого ремоделирования, что было доказано в предыдущих исследованиях: уровень артериального давления, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), кальция ионизированного (Са++) и др. Уровень ТМАО в сыворотке крови определяли методом жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии с использованием системы Shimadzu-8060 в сочетании с жидкостным хроматографом Shimadzu LC-30AD (Япония). Сывороточные концентрации ПКС и ИС определяли методом иммуноферментного анализа по инструкции коммерческого набора (Cloud-Clone Corp., США) на планшетном анализаторе Victor X5 (PerkinElmer Inc., США).
Наличие и степень выраженности сосудистого ремоделирования оценивали по следующим показателям: индексу сосудистой жесткости (cardio-ankle vascular index, CAVI), толщине комплекса интима-медиа (ТКИМ), индексу кальцификации брюшной аорты (КБА), эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД).
Сердечно-лодыжечный CAVI измеряли с помощью прибора Vasera-VS 1500 (Fucuda Denshi, Япония). Пациентов просили не курить, не есть и не пить как минимум в течение 4 ч до обследования, принимать лекарственные средства разрешали. Обследуемый находился в положении лежа на спине, электроды электрокардиографа были размещены на обоих предплечьях, микрофон для определения тонов сердца был на грудине, манжеты были обернуты вокруг запястий и лодыжек. Длительность регистрации составила 30–60 мин непосредственно во время процедуры гемодиализа, поскольку значение CAVI у большинства пациентов достаточно стабильно в течение этого периода. Для анализа использовали средние значения CAVI справа и слева. У диализных больных с артерио-венозными фистулами на руках CAVI измеряли на контралатеральной конечности. Стоит отметить, что CAVI, отражающий жесткость аорты, бедренной и большеберцовой артерий, не зависит от уровня артериального давления, связан с ТКИМ и коррелирует со степенью артериального фиброза у больных на диализе [23].
ТКИМ оценивали при дуплексном сканировании сонных артерий в В-режиме с цветовым доплеровским картированием потоков линейным датчиком частотой 7–10 МГц на ультразвуковом аппарате LOGIQ P6 (GE Healthcare, США). Измерения проводили с двух сторон в трех областях (в дистальном отделе общей сонной артерии на расстоянии 1 см проксимальнее луковицы, на уровне бифуркации и в самой проксимальной части внутренней сонной артерии вблизи ее истока), свободных от атеросклеротических бляшек. Среднее из шести полученных таким образом значений использовали для расчета ТКИМ.
Для определения степени кальцификации брюшной аорты применяли полуколичественную бальную систему, предложенную L. Kauppila и соавт. [24]. При латеральной поясничной рентгенографии по шкале от 0 до 3 баллов оценивали тяжесть кальцинированных отложений отдельно на передней и задней стенках аорты в каждом сегменте поясничных позвонков (L1–L4): 0 — кальцинированных отложений нет, 1 — кальцинированные отложения занимают менее 1/3 стенки аорты, 2 — кальцинировано от 1/3 до 2/3 стенки аорты, 3 — кальцинировано более 2/3 стенки аорты. Полученная таким образом сумма баллов варьировала в диапазоне 0–24. Чем выше общий балл, тем более выражена кальцификация: 0 — норма, 1–6 — умеренная кальцификация, 7 и выше — тяжелая кальцификация.
ЭЗВД оценивали с помощью ультразвуковой системы LOGIQ P6 (GE Healthcare, США), оснащенной линейным датчиком частотой 7–10 МГц, по рекомендованной методике [25]. Испытуемых информировали о необходимости избегать физических нагрузок, не курить, а также не употреблять продукты с высоким содержанием жира, витамин С и кофеин по крайней мере в течение 8 ч перед исследованием. После 20 мин отдыха в положении лежа в помещении с регулируемой температурой (22–24°C) исследуемую руку каждого пациента удобно фиксировали в вытянутом положении и измеряли артериальное давление. Определяли исходный конечный диастолический диаметр плечевой артерии (среднее значение в трех измерениях) на 2–4 см выше локтевой ямки. После этого накачивали манжету на 50 мм рт. ст. выше исходного систолического артериального давления (САД) до исчезновения пульса. Через 5 мин в манжете быстро спускали воздух для индукции реактивной гиперемии и измеряли диаметр плечевой артерии в период от 45-й до 60-й секунды после декомпрессии. У диализных больных исследование проводили на «нефистульной» руке. Эндотелий-независимая вазодилатация не оценена ввиду плохой переносимости или отказа большинства пациентов от приема нитроглицерина.
Статистическая обработка данных проведена с помощью программы SPSS Statistics 26. Нормальность распределения проверена с применением теста Колмогорова–Смирнова.
Для сравнения исходных характеристик использованы t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна–Уитни и χ2 Пирсона для непрерывных и категориальных переменных соответственно. Для выявления предикторов сосудистого ремоделирования у больных на диализе применен множественный линейный регрессионный анализ. В качестве зависимых переменных выступали CAVI, ТКИМ, КБА и ЭЗВД. Независимые переменные включали:
- традиционные факторы кардиоваскулярного риска (пол, возраст, ИМТ, курение, уровни артериального давления и ЛПНП, наличие сахарного диабета);
- факторы, связанные с терминальной стадией почечной недостаточности [длительность заместительной почечной терапии, Kt/V[1], уровни гемоглобина, альбумина, С-реактивного белка (СРБ), концентрация бикарбоната в плазме крови (cHCO3), Са++, фосфора, паратгормона (ПТГ)];
- терапию статинами и препаратами, нормализующими фосфорно-кальциевый обмен;
- уровни ТМАО, ИС и ПКС.
В регрессионную модель включали только ковариаты, показавшие значимую линейную зависимость с переменной отклика (оценено с помощью коэффициента корреляции Пирсона). Показатели с распределением, отличным от нормального, перед анализом логарифмически преобразованы. Значение p <0,05 считали признаком статистической значимости результатов всех тестов.
Результаты
Основные характеристики пациентов приведены в табл. 1. Пациентов на диализе характеризовали более высокие показатели САД, мочевой кислоты, С-реактивного белка, ионизированного кальция, неорганического фосфора, ТМАО, ИС, ПКС, частоты приема блокаторов ренин-ангиотензин альдостероновой системы (ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или сартанов), блокаторов кальциевых каналов и антиагрегантов. Уровень гемоглобина, сывороточного альбумина и липопротеидов низкой плотности в этой группе, напротив, был значительно ниже, чем у лиц без нарушения функции почек. Существенных различий по уровню диастолического артериального давления (ДАД), встречаемости сахарного диабета, частоте использования статинов и бета-блокаторов между группами не установлено. Содержание паратгормона и бикарбоната исследовано только в группе больных почечной недостаточностью в терминальной стадии и соответственно составило 303 (162,2–492,8) пг/мл и 23,6±3,1 ммоль/л. Об эффективности гемодиализа у этих больных свидетельствовало оптимальное значение коэффициента очищения Kt/V по мочевине 1,46 (1,39–1,57). С целью профилактики и лечения минерально-костных нарушений 43,8% лиц с терминальной стадией почечной недостаточности принимали препараты витамина D3, 90% — фосфатбиндеры, 15% — кальцимиметики.
Таблица 1. Основные клинико-лабораторные характеристики пациентов
Table 1. The main clinical and laboratory characteristics of the patients
Показатель | Терминальная почечная недостаточность (гемодиализ; n=80) | Контроль (n=80) | Уровень p |
Возраст, Me (Q1–Q3), лет | 62,5 (51,3–69,8) | 62(57–65) | p=0,828 |
Пол мужской, n (%) | 40 (50) | 40 (50) | p=1,0 |
Курение, n (%) | 13 (16,3) | 23 (28,7) | p=0,058 |
Индекс массы тела, M±SD, кг/м2 | 27,5±5,7 | 28,4±5,1 | p=0,294 |
Систолическое артериальное давление, Me (Q1–Q3), мм рт. ст. | 145 (135–150) | 130 (125–140) | p <0,001 |
Диастолическое артериальное давление, Me (Q1–Q3), мм рт. ст. | 80 (75–90) | 80 (75–85) | p=0,883 |
Сахарный диабет, n (%) | 30 (37,5) | 24 (30) | p=0,316 |
Креатинин, Me (Q1–Q3), мкмоль/л | 644,8 (506,3–820,9) | 78 (72–88,8) | p <0,001 |
Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73 м2 | – | 86,5 (73,3–103) | – |
Гемоглобин, M±SD, г/л | 113,4±15,6 | 138,8±10,5 | p <0,001 |
Альбумин, M±SD, г/л | 37,1±3,9 | 39,7±3,9 | p <0,001 |
Мочевая кислота, M±SD, мкмоль/л | 414,2±94,4 | 297,5±67,5 | p <0,001 |
С-реактивный белок, Me (Q1–Q3), мг/л | 6,9 (2,7–13,8) | 2,4 (0,9–5,4) | p <0,001 |
Липопротеины низкой плотности, M±SD, ммоль/л | 2,8±1,0 | 3,2±1,1 | p=0,01 |
Кальций ионизированный, Me (Q1–Q3), ммоль/л | 1,15 (1,1–1,3) | 1,1 (1,0–1,2) | p=0,005 |
Фосфор, M±SD, ммоль/л | 1,7±0,6 | 1,1±0,2 | p <0,001 |
Паратгормон, Me (Q1–Q3), пг/мл | 303 (162,2–492,8) | – | – |
Бикарбонат в плазме крови, M±SD, ммоль/л | 23,6±3,1 | – | – |
Длительность заместительной почечной терапии, Me (Q1–Q3), мес. | 52 (21,5–120) | – | – |
Медикаментозная терапия, n (%) | |||
| 60 (75) | 39 (48,8) | p <0,001 |
| 37 (46,3) | 23 (28,7) | р=0,022 |
| 33 (41,3) | 32 (40) | р=0,872 |
| 27 (33,8) | 37 (46,3) | р=0,107 |
| 61 (76,3) | 42 (52,5) | р=0,002 |
| 72 (90) | – | – |
| 35 (43,8) | – | – |
| 12 (15) | – | – |
Триметиламин-N-оксид, Me (Q1–Q3), нг/мл | 5223,3 (3389,3–9445,7) | 227,1 (140,4–434,0)* | p <0,001 |
Индоксил сульфат, Me (Q1–Q3), мкмоль/л | 2,1 (1,4–3,0) | 0,1 (0–0,3)* | p <0,001 |
п-Крезил сульфат, Me (Q1–Q3), нг/мл | 33,6 (19,1–50,6) | 6,4 (4,0–9,2)* | p <0,001 |
Примечание. M±SD — среднее значение и среднеквадратическое отклонение; Me (Q1–Q3) — медиана и межквартильный размах. * показатель рассчитан для 20 представителей группы контроля.
Note. M±SD, mean and standard deviation; Me (Q1–Q3), median and interquartile range. * parameter value is calculated for 20 participants of the control group.
Результаты инструментальных исследований приведены в табл. 2. Как видно из представленных данных, CAVI в группе терминальной стадии почечной недостаточности был значительно выше контрольного значения (9,5±1,5 против 7,8±1,2; p <0,001). У больных на диализе CAVI не зависел от пола (p=0,261), log-ИМТ (r=−0,026; p=0,820), log-ДАД (r=0,124; p=0,274), статуса курения (p=0,651), наличия сахарного диабета (p=0,806), Kt/V (r=0,02; p=0,858), уровней гемоглобина (r=0,099; p=0,384) и альбумина (r=0,067; p=0,557). На CAVI также не влияла терапия статинами (р=0,995), препаратами витамина D3 (p=0,308), фосфатбиндерами (p=0,131) и кальцимиметиками (p=0,098). В то же время CAVI в этой группе значимо коррелировал с показателями log-возраст, log-длительность заместительной почечной терапии, log-САД, мочевая кислота, log-СРБ, ЛПНП, log-Са++, фосфор, log-ПТГ, cHCO3, log-ТМАО, log-ИС и log-ПКС. Между тем многофакторный регрессионный анализ показал, что только log-ПТГ, log-ТМАО, log-ИС и log-ПКС были независимыми предикторами CAVI у больных, получающих лечение гемодиализом (табл. 3).
Таблица 2. Показатели сосудистого ремоделирования в исследуемых группах
Table 2. Parameters of vascular remodeling in the study groups
Показатель | Терминальная стадия почечной недостаточности (гемодиализ; n=80) | Контроль (n=80) | Уровень р |
Индекс сосудистой жесткости, M±SD | 9,5±1,5 | 7,8±1,2 | p <0,001 |
Толщина комплекса интима-медиа, M±SD, мм | 1,04±0,2 | 0,95±0,15 | р=0,001 |
Кальцификация брюшной аорты, Me (Q1–Q3) | 4,5 (0–9,0) | – | – |
Эндотелий-зависимая вазадилатация, M±SD, % | 3,9±1,2 | 7,5±0,8 | p <0,001 |
Примечание. M±SD — среднее значение и среднеквадратическое отклонение; Me (Q1–Q3) — медиана и межквартильный размах.
Note. M±SD, mean and standard deviation; Me (Q1–Q3), median and interquartile range.
Таблица 3. Факторы, ассоциированные с индексом сосудистой жесткости у больных, получающих лечение гемодиализом
Table 3. Factors associated with cardio-ankle vascular index in patients receiving hemodialysis treatment
Предикторы | Корреляция Пирсона | Множественная линейная регрессия | ||
r | p | β | p | |
log-ПТГ | 0,696 | <0,001 | 0,436 | <0,001 |
log-ТМАО | 0,44 | <0,001 | 0,223 | 0,004 |
log-ИС | 0,604 | <0,001 | 0,266 | 0,002 |
log-ПКС | 0,411 | <0,001 | 0,143 | 0,048 |
Примечание. ПТГ — паратгормон; ИС — индоксил сульфат; ПКС — п-крезил сульфат; ТМАО — триметиламин-N-оксид.
Note. ПТГ, parathyroid hormone; ИС, indoxyl sulfate; ПКС, p-cresyl sulfate; TMAO, trimethylamine-N-oxide.
Сравниваемые группы значимо различались по ТКИМ в сторону увеличения данного показателя у больных на диализе (1,04±0,2 против 0,95±0,15 мм; p=0,001). ТКИМ в группе терминальной стадии почечной недостаточности значимо коррелировала с показателями log-возраст, log-длительность заместительной почечной терапии, мочевая кислота, log-СРБ, ЛПНП, log-Са++, фосфор, log-ПТГ, log-ТМАО, log-ИС, log-ПКС. log-САД также был прямо ассоциирован с ТКИМ, однако эта связь не достигала статистической значимости (r=0,214; p=0,057). Напротив, не выявлена значимая корреляция ТКИМ с log-ИМТ (r=0,097; p=0,39), log-ДАД (r=0,056; p=0,622), Kt/V (r=−0,089; p=0,434), уровнями гемоглобина (r=0,036; p=0,751), альбумина (r=0,023; p=0,839), cHCO3 (r=−0,182; p=0,106). Пол (p=0,051), курение (p=0,201), сопутствующий диабет (p=0,988), терапия статинами (p=0,166), препаратами витамина D3 (p=0,834), кальцимиметиками (p=0,889) и фосфатбиндерами (p=0,785) тоже значимо не влияли на ТКИМ. При многофакторном линейном регрессионном анализе с учетом зависимых факторов обнаружено, что log-длительность заместительной почечной терапии, log-ТМАО и log-ИС были независимыми предикторами, определяющими ТКИМ у больных на диализе (табл. 4).
Таблица 4. Факторы, ассоциированные с каротидной толщиной комплекса интима-медия у больных, получающих лечение гемодиализом
Table 4. Factors associated with сarotid intima-media thickness in patients receiving hemodialysis treatment
Предикторы | Корреляция Пирсона | Множественная линейная регрессия | ||
r | p | β | p | |
log-длительность ЗПТ | 0,549 | <0,001 | 0,269 | 0,036 |
log-ТМАО | 0,305 | 0,006 | 0,208 | 0,024 |
log-ИС | 0,574 | <0,001 | 0,372 | 0,001 |
log-ПКС | 0,324 | <0,001 | 0,078 | 0,4 |
Примечание. ЗПТ — заместительная почечная терапия; ИС — индоксил сульфат; ПКС — п-крезил сульфат; ТМАО — триметиламин-N-оксид.
Note. ЗПТ, renal replacement therapy; ИС, indoxyl sulfate; ПКС, p-cresyl sulfate; TMAO, trimethylamine-N-oxide.
Медиана индекса КБА у больных на диализе составила 4,5 (0,0–9,0), причем у половины представителей этой группы показатели превышали пороговое значение 4,5, что, по данным литературы, повышает риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний [26]. КБА значимо коррелировала с показателями log-возраст, log-длительность заместительной почечной терапии, log-САД, мочевая кислота, log-СРБ, ЛПНП, log-Са++, фосфор, log-ПТГ, log-ИС, log-ПКС. В то же время не выявлена значимая ассоциация КБА с полом (p=0,053), log-ИМТ (r=0,148; p=0,191), наличием сахарного диабета (p=0,98), курением (p=0,05), log-ДАД (r=0,118; p=0,296), Kt/V (r=0,045; p=0,691), уровнями гемоглобина (r=−0,155; p=0,169), альбумина (r=−0,131; p=0,247), cHCO3 (r=−0,188; p=0,096), терапией статинами (p=0,081), препаратами витамина D3 (p=0,953), кальцимиметиками (p=0,113), фосфатбиндерами (p=0,061) и, что интересно, с log-ТМАО (r=0,196; p=0,081). Из всех изученных уремических токсинов микробного происхождения только log-ПКС, наряду с показателем log-длительность заместительной почечной терапии, по данным многофакторного линейного регрессионного анализа, независимо влияли на выраженность КБА у больных на диализе (табл. 5).
Таблица 5. Факторы, ассоциированные с кальцификацией брюшной аорты у больных, получающих лечение гемодиализом
Table 5. Factors associated with abdominal aortic calcification in patients receiving hemodialysis treatment
Предикторы | Корреляция Пирсона | Множественная линейная регрессия | ||
r | p | β | p | |
log-длительность ЗПТ | 0,585 | <0,001 | 0,400 | 0,003 |
log-ИС | 0,346 | 0,001 | –0,015 | 0,890 |
log-ПКС | 0,351 | 0,001 | 0,210 | 0,032 |
Примечание. ЗПТ — заместительная почечная терапия; ИС — индоксил сульфат; ПКС — п-крезил сульфат.
Note. ЗПТ, renal replacement therapy; ИС, indoxyl sulfate; ПКС, p-cresyl sulfate.
По сравнению с контрольными показателями у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности наблюдали значительно более низкий уровень ЭЗВД (3,9±1,2 против 7,5±0,8%; p <0,001). Значимых взаимосвязей ЭЗВД с полом (r=0,297; p=0,068), log-ИМТ (r=−0,008; p=0,941), log-ДАД (r=−0,199; p=0,077), курением (r=0,145; p=0,186), наличием сахарного диабета (r=−0,164; p=0,146), Kt/V (r=0,061; p=0,59), уровнями гемоглобина (r=0,069; p=0,545), альбумина (r=0,2; p=0,075), терапией статинами (r=−0,213; p=0,058), препаратами витамина D3 (r=0,1; p=0,376), кальцимиметиками (r=−0,033; p=0,771), фосфатбиндерами (r=0,1; p=0,379) у больных на диализе не установлено. Переменные, показавшие значимую ассоциацию с ЭЗВД при корреляционном анализе, включены в многофакторный регрессионный анализ. К ним относились log-возраст, log-длительность заместительной почечной терапии, log-САД, мочевая кислота, log-СРБ, ЛПНП, log-Са++, фосфор, log-ПТГ, cHCO3, log-ТМАО, log-ИС и log-ПКС. Обнаружено, что log-длительность заместительной почечной терапии, log-Са++ и log-ТМАО были независимыми предикторами сниженной ЭЗВД у больных на диализе (табл. 6).
Таблица 6. Факторы, ассоциированные с эндотелий-зависимой вазодилатацией плечевой артерии у больных, получающих лечение гемодиализом
Table 6. Factors associated with brachial artery endothelium-dependent vasodilation (flow-mediated dilation) in patients receiving hemodialysis treatment
Предикторы | Корреляция Пирсона | Множественная линейная регрессия | ||
r | p | β | p | |
log-длительность ЗПТ | −0,64 | <0,001 | −0,269 | 0,019 |
log-Са++ | −0,598 | <0,001 | −0,220 | 0,043 |
log-ТМАО | −0,393 | <0,001 | −0,262 | 0,004 |
log-ИС | −0,458 | <0,001 | −0,128 | 0,178 |
log-ПКС | −0,255 | 0,022 | −0,001 | 0,987 |
Примечание. ЗПТ — заместительная почечная терапия; Са++ — кальций ионизированный; ИС — индоксил сульфат; ПКС — п-крезил сульфат; ТМАО — триметиламин-N-оксид.
Note. ЗПТ, renal replacement therapy; Са++, ionized calcium; ИС, indoxyl sulfate; ПКС, p-cresyl sulfate; TMAO, trimethylamine-N-oxide.
Обсуждение
Повышенные сердечно-сосудистые заболеваемость и смертность у больных ХБП в значительной степени обусловлены патологией сосудистой системы. Один из первых отчетов, опубликованный еще 50 лет назад, показал, что атеросклеротические осложнения, такие как инфаркт миокарда, инсульт и рефрактерная застойная сердечная недостаточность, являются наиболее частыми причинами смерти пациентов на поддерживающем диализе [27]. Последующие исследования показали, что снижение скорости клубочковой фильтрации тесно связано с прогрессированием атеросклероза, более высоким риском инсульта, поражения периферических артерий, а частота смертельных случаев от инфаркта миокарда значительно выше у пациентов, находящихся на диализе, чем в общей популяции [2, 5, 28, 29]. T. Ohtake и соавт. на момент начала диализной терапии примерно у половины пациентов с ХБП наблюдали значительный стеноз коронарных артерий независимо от симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, а при наличии сопутствующего сахарного диабета доля таких больных увеличивалась до 90% [30]. Кроме того, по мере прогрессирования ХБП существенно возрастает распространенность сосудистой кальцификации — до 65% в когорте больных ХБП стадий 2–4 [31] и 74% среди пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности [32]. Сосудистая кальцификация преимущественно поражает медиальный сосудистый слой и проявляется артериальной ригидность, то есть снижением эластичности артерий, что приводит к повышению артериального давления, увеличению постнагрузки на левый желудочек и, как следствие, к гипертрофии его миокарда [33].
Полученные в настоящем исследовании данные также свидетельствовали о наличии выраженной ангиопатии в группе пациентов с почечной недостаточностью терминальной стадии. Средние значения CAVI, ТКИМ и ЭЗВД значительно отличались в худшую сторону у больных на диализе по сравнению с контрольными показателями. В то же время данные рентгенографии свидетельствовали о высокой распространенности выраженной кальцификации брюшной аорты у этих больных. Необходимо отметить, что использованные методы оценки сосудистого ремоделирования в настоящее время широко применяют в клинической практике в качестве суррогатных маркеров субклинического атеросклероза и артериосклероза независимо от стадии и причины ХБП, а полученные в ходе исследования показатели являются независимыми предикторами кардиоваскулярной смертности [34].
Вторая часть работы посвящена выявлению факторов риска сосудистого ремоделирования у больных, получающих лечение гемодиализом. Внимание было сосредоточено на уремических токсинах микробного происхождения, поскольку результаты исследований последних лет показали, что эти соединения могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ХБП посредством различных механизмов, особенно эндотелиальной дисфункции и кальцификации сосудов [2, 14]. Важным выводом этого исследования было то, что повышенное содержание ИС, ПКС и ТМАО продемонстрировало независимую связь с CAVI, ТКИМ, КБА и ЭЗВД в группе пациентов с почечной недостаточностью терминальной стадии. Полученные данные в целом согласуются с результатами других аналогичных исследований. Так, B.G. Hsu и соавт. выявили положительную корреляцию между сывороточным ТМАО и жесткостью периферических артерий, измеренной по скорости плече-лодыжечной пульсовой волны, у пациентов с ХБП стадий 3–5 [35]. В работе P.Y. Huang и соавт. ТМАО в сыворотке крови значимо коррелировал со скоростью распространения каротидно-бедренной пульсовой волны у 115 диализных больных [36]. Небольшое кросс-секционное исследование L. He и соавт. показало, что пожилой возраст более высокие уровни ТМАО, продолжительность гемодиализной терапии, ПТГ в плазме крови и наличие сахарного диабета были независимыми факторами риска развития КБА у пациентов, находящихся на гемодиализе [37]. В исследовании 2019 г., проведенном C.H. Wang и соавт., у 110 больных ХБП стадий 3–5 повышенные сывороточные уровни ИС отрицательно коррелировали со значениями индекса сосудистой реактивности, измеренными с помощью метода цифрового термомониторинга [38]. По данным M. Rossi и соавт., общие и свободные концентрации ИС и ПКС значимо коррелировали с ТКИМ и ЭЗВД. Эта связь сохранялась даже после поправки на такие хорошо известные факторы риска, как возраст, пол, наличие сахарного диабета, терапия статинами, ИМТ, курение в анамнезе, уровень сывороточного альбумина и САД. В обследованной когорте пациентов с умеренной и тяжелой ХБП повышение содержания каждого из уремических токсинов микробного происхождения на 10 мкмоль/л увеличивало вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 47 и 34% соответственно [39]. В 2021 г. G. Glorieux и соавт. продемонстрировали, что более высокие уровни ПКС в сыворотке крови коррелируют с маркерами повреждения эндотелия, главным образом ангиопоэтином-2 — белком, играющим важную роль в ангиогенезе и участвующим в утолщении интимы сонной артерии, артериальной жесткости и гипертрофии миокарда левого желудочка [40]. Результаты отечественных работ также позволяют рассматривать повышение уровня уремических токсинов микробного происхождения, в частности ИС, в качестве значимой детерминанты сосудистого ремоделирования у больных с ХБП стадий 3–5д [41, 42].
К преимуществам настоящего исследования можно отнести одновременное использование нескольких методик, позволяющих изучить различные параметры сосудистого ремоделирования (жесткость сосудов, степень их кальцификации, эндотелиальную дисфункцию). Кроме того, авторы постарались учесть максимально возможное количество сопутствующих факторов, способных повлиять на результаты исследований. Наиболее значимые из них включены в качестве ковариат многомерного регрессионного анализа при оценке влияния уремических токсинов микробного происхождения на CAVI, ТКИМ, КБА и ЭЗВД. Между тем дизайн поперечного исследования ограничивает возможность сделать вывод о прямых ангиотоксичных эффектах ИС, ПКС и ТМАО.
Заключение
Выявленные в исследовании связи между повышенным содержанием уремических токсинов микробного происхождения и суррогатными маркерами сердечно-сосудистых заболеваний (CAVI, ТКИМ, КБА и ЭЗВД) могут свидетельствовать о значимой роли ИС, ПКС и ТМАО в сосудистом ремоделировании у лиц, получающих лечение гемодиализом. Последующие работы в данном направлении должны помочь определить точные механизмы, лежащие в основе уремической ангиотоксичности, а также изучить потенциал направленных на эти механизмы различных терапевтических стратегий, что может стать решающим шагом в улучшении неблагоприятных исходов в популяции больных ХБП.
Дополнительная информация
Вклад авторов. М.О. Пятченков — разработка концепции, проведение исследования, написание черновика рукописи; Е.В. Щербаков, Ю.Е. Рубцов — проведение исследования; А.Е. Трандина, К.А. Леонов, П.Д. Соболев, А.Г. Никифорова — формальный анализ; О.А. Нагибович — пересмотр и редактирование рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Этический комитет. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (№ 262 от 26.04.2022). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Все данные, полученные в настоящем исследовании, доступны в статье.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали внутренний рецензент, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Additional information
Author contributions: M.O. Pyatchenkov: conceptualization, investigation, original draft preparation; E.V. Shсherbakov, Yu.E. Rubtsov: investigation; A.E. Trandina, K.A. Leonov, P.D. Sobolev, and A.G. Nikiforova: formal analysis; O.A. Nagibovich: review and editing. All authors approved the version of the manuscript to be published, and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of it are appropriately reviewed and resolved.
Ethics approval: The study was approved by the local ethics committee at Kirov Military Medical Academy (Protocol No. 262 dated April 26, 2022). All study participants voluntarily signed an informed consent form prior to being included in the study.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors declare that they have had no relationships, activities, or interests over the past three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: The authors did not use any previously published information (text, illustrations, or data) in this work.
Data availability statement: All the data obtained in this study is available in the article.
Generative AI: No generative AI was used in preparing this article.
Provenance and peer-review: This work was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved an in-house reviewer, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 Формула для определения адекватности гемодиализа, где K — степень очистки — способность диализатора к очистке крови от мочевины; t — продолжительность терапии; V — объем жидкости в пациенте.
Об авторах
Михаил Олегович Пятченков
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Автор, ответственный за переписку.
Email: pyatchenkovMD@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-5893-3191
SPIN-код: 5572-8891
канд. мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургЕвгений Вячеславович Щербаков
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: evgenvmeda@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3045-1721
SPIN-код: 6337-6039
MD
Россия, Санкт-ПетербургАлександра Евгеньевна Трандина
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: sasha-trandina@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-1875-1059
SPIN-код: 6089-3495
Россия, Санкт-Петербург
Клим Андреевич Леонов
Экзактэ Лабс
Email: leonov_k90@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4268-1724
канд. хим. наук
Россия, МоскваПавел Дмитриевич Соболев
Экзактэ Лабс
Email: aiyyna.nikiforova@exactelabs.com
ORCID iD: 0000-0003-3634-596X
MD
Россия, МоскваАйыына Григорьевна Никифорова
Экзактэ Лабс
Email: aiyyna.nikiforova@exactelabs.com
ORCID iD: 0000-0002-5719-0787
MD
Россия, МоскваЮрий Евгеньевич Рубцов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: rubtsovyuri@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1865-4251
SPIN-код: 1096-5120
канд. мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургОлег Александрович Нагибович
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Email: olegnagibovich@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1520-0860
SPIN-код: 8694-2012
д-р мед наук, доцент
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Hill N.R., Fatoba S.T., Oke J.L., et al. Global prevalence of chronic kidney disease – a systematic review and meta-analysis // PLoS One. 2016. Vol. 11, N 7. P. e0158765. doi: 10.1371/journal.pone.0158765
- El Chamieh C., Liabeuf S., Massy Z. Uremic toxins and cardiovascular risk in chronic kidney disease: what have we learned recently beyond the past findings? // Toxins (Basel). 2022. Vol. 14, N 4. P. 280. doi: 10.3390/toxins14040280
- Vlagopoulos P.T., Sarnak M.J. Traditional and nontraditional cardiovascular risk factors in chronic kidney disease // Med Clin North Am. 2005. Vol. 89, N 3. P. 587–611. doi: 10.1016/j.mcna.2004.11.003
- Virani S.S., Alonso A., Benjamin E.J., et al. Heart disease and stroke statistics-2020 update: a report from the American Heart Association // Circulation. 2020. Vol. 141, N 9. P. e139–e596. doi: 10.1161/CIR.0000000000000757
- Sarnak M.J., Levey A.S., Schoolwerth A.C., et al. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease: a statement from the American Heart Association Councils on Kidney in Cardiovascular Disease, High Blood Pressure Research, Clinical Cardiology, and Epidemiology and Prevention // Hypertension. 2003. Vol. 42, N 5. P. 1050–1065. doi: 10.1161/01.HYP.0000102971.85504.7c
- Duranton F., Cohen G., De Smet R., et al. European Uremic Toxin Work Group. Normal and pathologic concentrations of uremic toxins // J Am Soc Nephrol. 2012. Vol. 23, N 7. P. 1258–1270. doi: 10.1681/ASN.2011121175
- Rapp N., Evenepoel P., Stenvinkel P., Schurgers L. Uremic toxins and vascular calcification-missing the forest for all the trees // Toxins (Basel). 2020. Vol. 12, N 10. P. 624. doi: 10.3390/toxins12100624
- Лукичев Б.Г., Румянцев А.Ш., Акименко В. Микробиота кишечника и хроническая болезнь почек. Сообщение первое // Нефрология. 2018. Т. 22, № 4. С. 57–73. EDN: XWBYWL doi: 10.24884/1561-6274-2018-22-4-57-73
- Лукичёв Б.Г., Подгаецкая О.Ю., Карунная А.В., Румянцев А.Ш. Индоксил сульфат при хронической болезни почек // Нефрология. 2014. Т. 18, № 1. С. 25–32. EDN: RXQXLT doi: 10.24884/1561-6274-2014-18-1-20-24
- Пятченков М.О., Власов А.А., Щербаков Е.В., Саликова С.П. Уремические токсины микробного происхождения: роль в патогенезе коморбидной патологии у пациентов с хронической болезнью почек // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2023. Т. 33, № 3. С. 7–15. EDN: DZGPXN doi: 10.22416/1382-4376-2023-33-3-7-15
- Fan P.C., Chang J.C., Lin C.N., et al. Serum indoxyl sulfate predicts adverse cardiovascular events in patients with chronic kidney disease // J Formos Med Assoc. 2019. Vol. 118, N 7. P. 1099–1106. doi: 10.1016/j.jfma.2019.03.005
- Wu I.W., Hsu K.H., Hsu H.J., et al. Serum free p-cresyl sulfate levels predict cardiovascular and all-cause mortality in elderly hemodialysis patients – a prospective cohort study // Nephrol Dial Transplant. Vol. 27, N 3. P. 1169–1175. doi: 10.1093/ndt/gfr453
- Shafi T., Powe N.R., Meyer T.W., et al. Trimethylamine N-Oxide and Cardiovascular Events in Hemodialysis Patients // J Am Soc Nephrol. 2017. Vol. 28, N 1. P. 321–331. doi: 10.1681/ASN.2016030374
- Guo J., Lu L., Hua Y., et al. Vasculopathy in the setting of cardiorenal syndrome: roles of protein-bound uremic toxins // Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2017. Vol. 313, N 1. P. H1–H13. doi: 10.1152/ajpheart.00787.2016
- Shafi T., Meyer T.W., Hostetter T.H. Free levels of selected organic solutes and cardiovascular morbidity and mortality in hemodialysis patients: results from the Retained Organic Solutes and Clinical Outcomes (ROSCO) investigators // PLoS One. 2015. Vol. 10, N 5. P. e0126048. doi: 10.1371/journal.pone.0126048
- Liabeuf S., Barreto D.V., Barreto F.C., et al. European Uraemic Toxin Work Group (EUTox). Free p-cresylsulphate is a predictor of mortality in patients at different stages of chronic kidney disease // Nephrol Dial Transplant. 2010. Vol. 25, N 4. P. 1183–1191. doi: 10.1093/ndt/gfp592
- Kim R.B., Morse B.L., Djurdjev O., et al. Advanced chronic kidney disease populations have elevated trimethylamine N-oxide levels associated with increased cardiovascular events // Kidney Int. 2016. Vol. 89, N 5. P. 1144–1152. doi: 10.1016/j.kint.2016.01.014
- Chen Y., Zelnick L.R., Huber M.P., et al. CRIC Study Investigators. Association between kidney clearance of secretory solutes and cardiovascular events: The Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study // Am J Kidney Dis. 2021. Vol. 78, N 2. P. 226–235. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.12.005
- Kaysen G.A., Johansen K.L., Chertow G.M., et al. Associations of trimethylamine n-oxide with nutritional and inflammatory biomarkers and cardiovascular outcomes in patients new to dialysis // J Ren Nutr. 2015. Vol. 25, N 4. P. 351–356. doi: 10.1053/j.jrn.2015.02.006
- Stubbs J.R., Stedman M.R., Liu S., et al. Trimethylamine N-Oxide and cardiovascular outcomes in patients with ESKD receiving maintenance hemodialysis // Clin J Am Soc Nephrol. 2019. Vol. 14, N 2. P. 261–267. doi: 10.2215/CJN.06190518
- Shafi T., Sirich T.L., Meyer T.W., et al. Results of the HEMO Study suggest that p-cresol sulfate and indoxyl sulfate are not associated with cardiovascular outcomes // Kidney Int. 2017 Vol. 92, N 6. P. 1484–1492. doi: 10.1016/j.kint.2017.05.012
- Пятченков М.О., Щербаков Е.В., Трандина А.Е., и др. Изменения состава кишечной микробиоты и содержания уремических токсинов микробного происхождения у больных, находящихся на программном гемодиализе // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2024. Т. 26, № 1. C. 51–60. EDN: HYDCYI doi: 10.17816/brmma624008
- Ichihara A., Yamashita N., Takemitsu T., et al. Cardio-ankle vascular index and ankle pulse wave velocity as a marker of arterial fibrosis in kidney failure treated by hemodialysis // Am J Kidney Dis. 2008. Vol. 52, N 5. P. 947–955. doi: 10.1053/j.ajkd.2008.06.007
- Kauppila L.I., Polak J.F., Cupples L.A., et al. New indices to classify location, severity and progression of calcific lesions in the abdominal aorta: a 25-year follow-up study // Atherosclerosis. 1997. Vol. 132, N 2. P. 245–250. doi: 10.1016/s0021-9150(97)00106-8
- Corretti M.C., Anderson T.J., Benjamin E.J., et al. Guidelines for the ultrasound assessment of endothelial-dependent flow-mediated vasodilation of the brachial artery: a report of the International Brachial Artery Reactivity Task Force // J Am Coll Cardiol. 2002. Vol. 39, N 2. P. 257–265. doi: 10.1016/s0735-1097(01)01746-6 Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2002. Vol. 39, N 6. P. 1082
- Bai J., Zhang A., Zhang Y., et al. Abdominal aortic calcification score can predict all-cause and cardiovascular mortality in maintenance hemodialysis patients // Ren Fail. 2023. Vol. 45, N 1. P. 2158869. doi: 10.1080/0886022X.2022.2158869
- Lindner A., Charra B., Sherrard D.J., Scribner B.H. Accelerated atherosclerosis in prolonged maintenance hemodialysis // N Engl J Med. 1974. Vol. 290, N 13. P. 697–701. doi: 10.1056/NEJM197403282901301
- Valdivielso J.M., Rodríguez-Puyol D., Pascual J., et al. Atherosclerosis in chronic kidney disease: more, less, or just different? // Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2019. Vol. 39, N 10. P. 1938–1966. doi: 10.1161/ATVBAHA.119.312705
- Скородумова Е.А., Александров М.В., Обрезан А.Г., и др. Клинико-электрокардиографическая характеристика инфаркта миокарда, протекающего на фоне хронической болезни почек // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2016. Т. 8, № 1. С. 61–66. EDN: WCIDXB
- Ohtake T., Kobayashi S., Moriya H., et al. High prevalence of occult coronary artery stenosis in patients with chronic kidney disease at the initiation of renal replacement therapy: an angiographic examination // J Am Soc Nephrol. 2005. Vol. 16, N 4. P. 1141–1148. doi: 10.1681/ASN.2004090765
- Bundy J.D., Cai X., Scialla J.J., et al. CRIC study investigators. serum calcification propensity and coronary artery calcification among patients with CKD: The CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort) Study // Am J Kidney Dis. 2019. Vol. 73, N 6. P. 806–814. doi: 10.1053/j.ajkd.2019.01.024
- Yao Z., Wang C., Zhang Q., et al. Prevalence of abdominal artery calcification in dialysis patients with end-stage renal disease: a systematic review and meta-analysis // Int Urol Nephrol. 2017. Vol. 49, N 11. P. 2061–2069. doi: 10.1007/s11255-017-1685-9
- Lee S.J., Lee I.K., Jeon J.H. Vascular calcification – new insights into its mechanism // Int J Mol Sci. 2020. Vol. 21, N 8. P. 2685. doi: 10.3390/ijms21082685
- Kousios A., Kouis P., Hadjivasilis A., Panayiotou A. Cardiovascular risk assessment using ultrasonographic surrogate markers of atherosclerosis and arterial stiffness in patients with chronic renal impairment: a narrative review of the evidence and a critical view of their utility in clinical practice // Can J Kidney Health Dis. 2020. Vol. 7. P. 2054358120954939. doi: 10.1177/2054358120954939
- Hsu B.G., Wang C.H., Lin Y.L., et al. Serum Trimethylamine n-oxide level is associated with peripheral arterial stiffness in advanced non-dialysis chronic kidney disease patients // Toxins (Basel). 2022. Vol. 14, N 8. P. 526. doi: 10.3390/toxins14080526
- Huang P.Y., Hsu B.G., Lai Y.H., et al. Serum trimethylamine n-oxide level is positively associated with aortic stiffness measured by carotid-femoral pulse wave velocity in patients undergoing maintenance hemodialysis // Toxins (Basel). 2023. Vol. 15, N 9. P. 572. doi: 10.3390/toxins15090572
- He L., Yang W., Yang P., et al. Higher serum trimethylamine-N-oxide levels are associated with increased abdominal aortic calcification in hemodialysis patients // Ren Fail. 2022. Vol. 44, N 1. P. 2019–2027. doi: 10.1080/0886022X.2022.2145971
- Wang C.H., Lai Y.H., Kuo C.H., et al. Association between serum indoxyl sulfate levels and endothelial function in non-dialysis chronic kidney disease // Toxins (Basel). 2019. Vol. 11, N 10. P. 589. doi: 10.3390/toxins11100589
- Rossi M., Campbell K., Johnson D., et al. Uraemic toxins and cardiovascular disease across the chronic kidney disease spectrum: an observational study // Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014. Vol. 24, N 9. P. 1035–1042. doi: 10.1016/j.numecd.2014.04.006
- Glorieux G., Vanholder R., Van Biesen W., et al. Free p-cresyl sulfate shows the highest association with cardiovascular outcome in chronic kidney disease // Nephrol Dial Transplant. 2021. Vol. 36, N 6. P. 998–1005. doi: 10.1093/ndt/gfab004
- Гасанов М.З., Коломыйцева М.Н., Батюшин М.М. Роль уремической интоксикации в развитии сердечно-сосудистого ремоделирования у пациентов с хронической болезнью почек 3А-5Д стадий / // Архивъ внутренней медицины. 2021. Т. 11, № 5(61). С. 370–379. EDN: HXPOYN doi: 10.20514/2226-6704-2021-11-5-370-379
- Дзгоева Ф.У., Ремизов О.В., Голоева В.Г., Икоева З.Р. Клиническое значение уремического токсина индоксил сульфата и воспаления в развитии сосудистой кальцификации и кардиоваскулярных осложнений при хронической болезни почек С3–С5Д стадии // Терапевтический архив. 2023. Т. 95, № 6. C. 468–474. EDN: SJZZPD doi: 10.26442/00403660.2023.06.202267
Дополнительные файлы