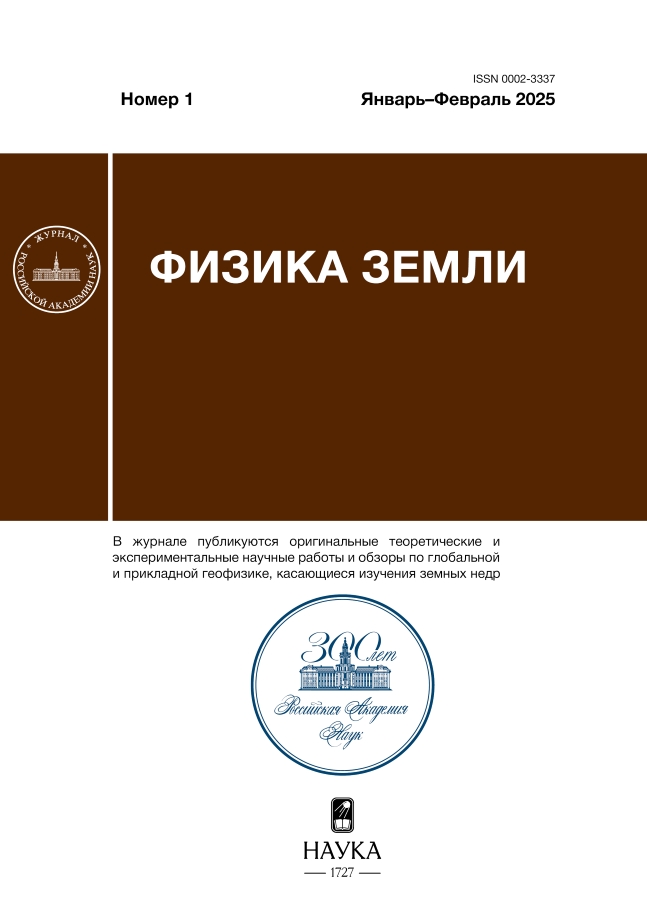Пространственно-временные последовательности эпицентров землетрясений как подвид группируемых сейсмических событий
- Авторы: Дещеревский А.В.1, Лукк А.А.1
-
Учреждения:
- Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
- Выпуск: № 1 (2025)
- Страницы: 39-70
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/0002-3337/article/view/686116
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0002333725010048
- EDN: https://elibrary.ru/ACQBNZ
- ID: 686116
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изучаются связанные в пространстве и времени линейные последовательности эпицентров землетрясений (“цепочки”). Предложен новый подход к понимаю цепочек землетрясений как особой разновидности групповых (кластеризованных) событий. Считается, что кластеры групповых землетрясений с высокой явно выраженной пространственной анизотропией потенциально представляют собой искомые цепочки. Таким цепочкам придается физический смысл маркеров активизируемых тектонических нарушений.
Разработан формализованный алгоритм выделения линейных последовательностей эпицентров землетрясений на основе предложенного подхода. Поиск цепочек ведется в каталоге групповых землетрясений. Предварительно из сейсмичности удаляются одиночные события (т.е. не входящие в кластеры). Для этого использован ранее разработанный алгоритм, ориентированный на выделение любых взаимосвязанных событий, а не только (преимущественно) афтершоковых и/или форшоковых серий [Дещеревский и др., 2016а].
Предложенный метод выделения цепочек землетрясений успешно апробирован на каталогах землетрясений Гарма, Ирана и центральной Турции. Приведены карты цепочек, обсуждаются сводные статистики поля цепочек. Как правило, эти цепочки можно сопоставить с различными тектоническими нарушениями, однако значительная их часть не привязана к известным структурам. Для Гармского района показана преемственность полученных результатов с ранее выполненными исследованиями.
Как и почти любой метод анализа сейсмических данных, алгоритм построения цепочек землетрясений имеет значительное число настраиваемых параметров. В определенных пределах можно варьировать критерии выделения групповых событий, минимальное количество событий в цепочке и ее минимальную длину, а также требуемый уровень прямолинейности цепочки. Однако все эти настройки влияют прежде всего на общее количество обнаруженных в каталоге цепочек, а их расположение на местности и ориентация (азимуты) от настроек алгоритма почти не зависят. Это позволяет рассматривать предложенный метод анализа как принципиально новый способ извлечения и визуализации информации о пространственно-временной организации сейсмичности.
Более подробное изучение как самой структуры цепочек землетрясений, так и ее изменений во времени в различных сейсмоактивных регионах мира может способствовать лучшему пониманию динамики сейсмотектонического процесса.
Полный текст
Об авторах
А. В. Дещеревский
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: allukk@yandex.ru
Россия, г. Москва
А. А. Лукк
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Email: lukk@ifz.ru
Россия, г. Москва
Список литературы
- Автоматизированная обработка данных на Гармском полигоне / Сидорин А.Я. (ред.). М.-Гарм: ИФЗ АН СССР. 1991. 215 с.
- Альшанский М.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие. Мин. науки и высшего образования РФ. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та. 2021. 224 с.
- Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Т. 1 М.: Наука. 1984. 596 с.
- Введенская А. В. Особенности процесса разрушения и энергетический баланс в очагах землетрясении. Земная кора сейсмоопасных зон. М.: Наука. 1973. С. 25–37.
- Вессон Р.Л., Леонова В.Г., Максимов А.Б. и др. Результаты совместных полевых сейсмологических исследований 1975 г. в районе хр. Петра Первого. Сб. советско-американских работ по прогнозу землетрясений. Душанбе-М.: Дониш. 1976. Т. 1. Кн. 1. С. 43–69.
- Выбросы многомерных и регрессионных наборов данных. “ГОСТ Р ИСО 16269-4-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Статистические методы. Статистическое представление данных. Часть 4. Выявление и обработка выбросов” (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.08.2017 N 865-ст).
- Гамкрелидзе И. П. Планетарная трещиноватость дислоцированных толщ и связанные с нею явления // Геотектоника. 1972. № 6.
- Гусев А.А., Палуева А.А. Первые результаты исследования статистики направлений для пар эпицентров землетрясений‐соседей на Камчатке // Геодинамика и тектонофизика. 2016. Т. 7. № 4. С. 529–543. doi: 10.5800/GT‐2016‐7‐4‐0221
- Гутенберг Б., Рихтер К. Сейсмичность Земли. Пер. с англ. М.: ИЛ. 1948 118 с.
- Делемень И.Ф. Критический обзор алгоритмов, методов и способов выявления пространственно-временной упорядоченности трехмерных точечных множеств локальной и региональной сейсмичности. Проблемы комплексного геофизического мониторинга сейсмоактивных регионов: Тр. Восьмой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, 26.09–2.10.2021 г. Петропавловск-Камчатский. 2021. С. 382–386.
- Дещеревская Е.В., Сидорин А.Я. Пространственные распределения погрешностей определения координат землетрясений на гармском полигоне // Сейсмические приборы. 2010. Т. 46. № 2. С. 69–77.
- Дещеревский А.В. Программа ABD. [Электронный ресурс]. https://disk.yandex.ru/d/YMDrgsLkuoV5P (дата доступа: 05.11.2021).
- Дещеревский А.В. Корреляция между временными рядами: что может быть проще? [Электронный ресурс]. https://habr.com/ru/post/542638/ (дата доступа: 05.11.2022).
- Дещеревский А.В., Мирзоев К.М., Лукк А.А. Критерии группирования землетрясений с учетом пространственной неоднородности сейсмичности // Физика Земли. 2016а. № 1. С. 79–97. doi: 10.7868/S0002333715060022
- Дещеревский А.В., Журавлев В.И., Никольский А.Н., Сидорин А.Я. Технологии анализа геофизических временных рядов. Часть 2. WinABD — пакет программ для сопровождения и анализа данных геофизического мониторинга // Сейсмические приборы. М.: ОИФЗ РАН. 2016б. Т. 52. № 3. С. 50–80.
- Дещеревский А.В., Журавлев В.И., Никольский А.Н., Сидорин А.Я. Программный пакет ABD — универсальный инструмент для анализа данных долговременных наблюдений // НТР. 2016в. Т. 95. № 4. С. 35–48. doi: 10.21455/std2016.4-6
- Дещеревский А.В., Сидорин А.Я. Исследование значимости корреляции электрической активности рыб и электротеллурического поля // Биофизика. 2004. Т. 49. Вып. 4. С. 715–722.
- Дещеревский А.В., Сидорин А.Я. Поиск влияния гравитационных приливов на региональную сейсмичность Греции разными методами: 2. Корреляционный анализ // Сейсмические приборы. 2013. Т. 49. № 1. С. 35–39.
- Дещеревский А.В., Сидорин А.Я. Итеративный алгоритм декомпозиции временных рядов на тренд и сезонные колебания и его тестирование на примере вариаций концентрации СО2 в атмосфере // Геофизические процессы и биосфера. 2021а. Т. 20. № 1. С. 128–151. doi: 10.21455/GPB2021.1-11
- Дещеревский А.В., Сидорин А.Я. Алгоритм адаптивной оценки сезонных колебаний временных рядов и его тестирование на примере вариаций концентрации СО2 в атмосфере // Геофизические процессы и биосфера. 2021б. Т. 20. № 4. С. 147–174. DOI: https://doi.org/10.21455/GPB2021.4-10
- Журавлев В.И., Лукк А.А. Особенности суточной периодичности слабых землетрясений Ирана // Физика Земли. 2012. № 1. С. 63–81.
- Каттерфельд Г.Н., Чарушин Г.В. Глобальная трещиноватость Земли и других планет // Геотектоника. 1960. № 6.
- Каттерфельд Г.Н., Чарушин Г.В. Региональный критерий выявления систем планетарных трещин. Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. Л.: Недра. 1969.
- Каттерфельд Г.Н., Чарушин В.Г. Региональных критерий выявления систем планетарных трещин. Геодинамика, магматизм и минерагения континентальных окраин Севера Пацифики. Материалы Всерос. совещ. Магадан. 2003. Т. I. С. 55–57.
- Кейлис-Борок В.И., Кособоков В.Г. Периоды повышенной вероятности возникновения для возникновения сильнейших землетрясений мира. Математические методы в сейсмологии и геодинамике // Вычислительная сейсмология. Вып. 19. М.: Наука. 1986. С. 48–58.
- Костров Б. В. Механика очага тектонического землетрясения. М.: Наука. 1975.
- Костров Б. В., Никитин Л. В. Применение методов теории разрушения к изучению очагов землетрясения. Физические основания поисков методов прогноза землетрясений. М.: Наука. 1970.
- Кролевец А.Н., Макеев А.М. Компьютерная программа поиска плоскостей пространственного группирования гипоцентров камчатских землетрясений // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2011. № 2 (3). С.69–79.
- Кузьмин Ю.О. Современная геодинамика системы разломов // Физика Земли. 2015. № 4. С. 25–30. doi: 10.7868/80002333715040055
- Кузьмин Ю.О. Индуцированные деформации разломных зон // Физика Земли. 2019. № 5. С. 61–75. doi: 10.31857/S0002-33372019561-75
- Кузьмин Ю.О. Современные объемные деформации разломных зон // Физика Земли. 2022. №4. С.3-18. doi: 10.31857/S0002333722040068
- Лукк А.А., Сейсмическая трещиноватость, эрозионная сеть и напряженно-деформированное состояние Гармского района // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1980. № 3. С. 18–29.
- Лукк А.А. Выделение линейных образований в структуре сейсмичности путем вычисления скалярных произведений ближайших во времени пар сейсмических событий // Сейсмические приборы. 2022. Т. 58. № 3. C. 61–77. https://doi.org/10.21455/si2022.3-4
- Лукк А.А. Пространственно-временные последовательности слабых землетрясений Гармского района // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1978. № 2. С. 25–37.
- Лукк А.А., Леонова В.Г. Трещиноватость земной коры Гармского района по статистике механизмов очагов слабых землетрясений // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1978. № 8. С. 33–45.
- Лукк А.А., Мирзоев К.М. Некоторые оценки напряженно-деформированного состояния земной коры Русской платформы // Вопросы инженерной сейсмологии. 2020. Т. 47. № 1. С. 70–90. https://doi.org/10.21455/VIS2020.1-4
- Лукк А.А., Пивоварова Н.Б., Пухначева Т.П. О точности определения координат очагов местных землетрясений. Математические проблемы геофизики. Новосибирск: Наука. 1973. С. 159–167.
- Лукк А.А., Турчанинов И.В. Выявление линейных последовательностей эпицентров землетрясений в сейсмическом поле Гармского района // Физика Земли. 1998. № 10. С. 3–21.
- Макаров В. И. Новейшая тектоническая структура Центрального Тянь-Шаня. М.: Наука. 1977.
- Макеев А.М., Кролевец А.Н. Применение кластерной технологии к задаче поиска плоскостей группирования гипоцентров землетрясений // Научно-технический вестник Поволжья. 2012. № 4. С. 131–135.
- Мартынова Г. И. О некоторых особенностях структуры сети планетарных трещин. Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. Л.: Недра. 1969.
- Михайлов А. И. Полевые методы изучения трещин в горных породах. М.: Госгеолтехиздат. 1956.
- Молчан Г.М., Дмитриева О.Е. Идентификация афтершоков: обзор и новые методы. Современные методы интерпретации сейсмологических данных // Вычислительная сейсмология. Вып. 24. М.: Наука. 1991. С. 19–50.
- Мирзоев К.М. Группирование землетрясений Таджикистана // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. физ.-мат. и геол.-хим. наук. 1980. № 1(75). Душанбе: Дониш. С. 62–70.
- Мирзоев К.М., Азизова А.А. Статистические закономерности группирования коровых землетрясений Таджикистана и прилегающих территорий. Землетрясения Средней Азии и Казахстана в 1981. Душанбе: Дониш. 1983. С. 48–68.
- Мирзоев К.М. Методика выделения связанных землетрясений // Докл. АН Тадж. ССР. 1988. Т. XXXI. № 3. С. 182–186.
- Переобучение. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5. Дата обращения 13.08.2023.
- Писаренко В.Ф., Родкин М.В. Декластеризация потока сейсмических событий, статистический анализ // Физика Земли. 2019. № 5. С. 38–52. https://doi.org/10.31857/S0002-33372019538-52
- Писаренко В. Ф., Скоркина А. А., Рукавишникова Т. А. Как выбирать интервал магнитуд для оценки наклона графика повторяемости // Вулканология и сейсмология. 2023. № 2. С. 1–9. doi: 10.31857/S0203030623700128
- Попандопуло Г.А. Метод одновременного определения координат гипоцентров землетрясений и скоростей сейсмических волн // Экспериментальная сейсмология. М.: Наука. 1983. С. 109–118.
- Попандопуло Г.А. Определение координат гипоцентров землетрясений на Гармском геофизическом полигоне. Землетрясения и процессы их подготовки. М.: Наука. 1991. С. 1–23.
- Прозоров А.Г. Динамический алгоритм выделения афтершоков для мирового каталога землетрясений. Математические методы в сейсмологии и геодинамике // Вычислительная сейсмология. М.: Наука. 1986. Вып. 19. С. 58–62.
- Раутиан Т.Г. Затухание сейсмических волн и энергия землетрясений // Тр. Ин-та сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН Тадж. ССР. 1960. Т. 7. С. 41–86.
- Рулев Б.Г. Локализация очага землетрясения в условиях изменения свойств среды во времени. Землетрясения и процессы их подготовки.1991. М.: Наука. С. 24–35.
- Сидорин А.Я. (ред.). Гармский геофизический полигон. М.: Наука. 1990. 240 с.
- Смирнов В.Б. Прогностические аномалии сейсмического режима. I. Методические основы подготовки исходных данных // Геофизические исследования. 2009. Т. 10. № 2. С. 7–22.
- Студопедия, эллипс погрешностей. https://studopedia.su/12_18038_ellips-pogreshnostey.html. Дата доступа 01.12.2023.
- Шебалин П.Н. Цепочки эпицентров как индикатор возрастания радиуса корреляции сейсмичности перед сильными землетрясениями // Вулканология и сейсмология. 2005. № 1. С. 3–15.
- Шебалин П.Н. Широкомасштабная краткосрочная активизация сейсмичности перед сильнейшими землетрясениями Японии и Курил // Геофизические процессы и биосфера. 2011. Т. 10. № 1. С. 36–46.
- Шебалин П.Н. Увеличение радиуса корреляции и цепочки землетрясений перед сильнейшими сейсмическими событиями // Физика Земли. 2020. № 1. С. 30–42. doi: 10.31857/S0002333720010135
- Шевченко В.И., Лукк А.А., Гусева Т.В. Автономная и плейттектоническая геодинамики некоторых подвижных поясов и сооружений. М.: ГЕОС. 2017. 612 с.
- Шульц С. С. Планетарная трещиноватость п ориентировка некоторых линейных форм рельефа. Л.: Наука. 1965.
- Шульц С. С. О разных масштабах планетарной трещиноватости // Геотектоника. 1966. № 2.
- Шульц С. С. Некоторые вопросы планетарной трещиноватости и связанных с нею явлений // Вестн. ЛГУ. 1969. № 6.
- Шульц С. С. Планетарные трещины и тектонические дислокации // Геотектоника. 1971. № 4.
- Allen C.R. Active faulting in northern Turkey // Calif. Inst. Tech., Div. Geol. Sci. Contrib. 1969. № 1577.
- Ambraseys N.N. Some characteristic features of the Anatolian fault zone // Tectonophysics. 1970. V. 9. P. 143–165.
- Bakun W.N., McEvilly T.V. Recurrence model and Parkfield, California, earthquakes // Journ. Geophys. Res. 1984. V. 89. № 5. P. 3051–3058.
- Cambaz M.D., Turhan E., Yilmazer M., Kekovali K., Necmioglu O. and Kalafat D. A Review on Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) Seismic Network and Earthquake Catalog: 2008–2018. ADGEO. 2019. V. 51. P. 15–23. doi: 10.5194/adgeo-51-15-2019
- Console R., Jackson D.D., Kagan Y.Y. Using the ETAS Model for Catalog Declustering and Seismic Background Assessment // Pure and Applied Geophys. 2010. V. 167. № 6. P. 819–830. doi: 10.1007/s00024-010-0065-5
- Elie de Boumont L. Recherches sur quelquesunes de revolutions de la surface du globe // Amer. Sci. Nature. 1929. V. 18.
- Frohlich C., Davis S.D. Single link cluster analysis as a method to evaluate spatial and temporal properties of earth quake catalogs // Geophys. J. Int. 1990. V. 100. P. 19–32.
- Gardner J., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in south ern California, with aftershock removed, Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. V. 64. P. 1363–1367.
- Hobbs W. Н. Repeatring patterns in the relief and the structure of the land // Bull. Geol. Soc. Amer. 1911. V. 22. № 2.
- Knopoff L. The Statistics of Earthquakes in Southern California // Bull. Seism. Soc. Am. 1964. V. 54. № 6. P. 1871–1873.
- Mogi К. Migration of seismic activity // Bull. Earthq. Res. Inst. Univ. Tokyo. 1968. V. 46. P. 53–74.
- Ogata Y., Zhuang J. Space–time ETAS models and an improved extension // Tectonophysics. 2006. V. 413. P. 13–23.
- Prozorov A.G., Dziewonski A.M. A method of studying variations in the clustering property of earthquakes: Application to the analysis of global seismicity // J. Geoph. Res.: Solid Earth. 1982. V. 87. № B4. P. 2829–2839.
- Reasenberg P. Second-order moment of central California seismicity, 1969–82 // J. Geophys. Res. 1985. V. 90. P. 5479–5495.
- Savage W.U. Microearthquake clustering near Fairview Peak, Nevada, and in the Nevada seismic zone // Journal of Geophysical Research. 1972. V. 77. № 35. P. 7049–7056.
- Scholz C.H. The Mechanics of Earthquakes and Faulting. Second edition. Cambridge University Press, Cambridge. 2002. 471 p.
- Segall P., Du Y., Thatcher W. Were the 1934 and 1966 Park field earthquakes similar? // Seismol. Res. Lett. 1990. V. 61. P. 22.
- Sonder R. A. Mechanik der Erde. Schweizbart. Stuttgart. 1956.
- Stille H. Uralte Anlage in der Tektonik Europas // Ztschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1947. V. 99.
- Vecchio A., Carbone V., SorrisoValvo L. et al. Statistical properties of earthquakes clustering // Nonlin. Process. Geophys. 2008. V. 15. P. 333–338. www.nonlin-processes- geophys.net/15/333/2008/
- Vening-Meinesz F. A. Shear patterns of the earth’s crust // Trans. Amer. Geophys. Union. 1947. V. 28.
- Wyss М., Slater L., Burford R.O. Decrease in deformation rate as a possible precursor to the next Parkfield earthquake // Nature. 1990. V. 345. № 6274. P. 428–431.
- Utsu T. Aftershock and earthquake statistics (I): Some parameters which characterize an aftershock sequence and their interrelations // J. Fac. Sci. Hokkaido Univ. 1969. Ser. VII. № 3. P. 129–195.
- Zaliapin I., Gabrielov A., Keilis-Borok V., Wong H. Clustering Analysis of Seismicity and Aftershock Identifcation // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101 (1). P. 1–4.
- Zhuang J., Werner M.J., Hainzl S., Harte D., Zhou S. Basic models of seismicity: spatiotemporal models. Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis. 2011. doi: 10.5078/corssa-07487583. Available at http: // www. corssa.org
Дополнительные файлы