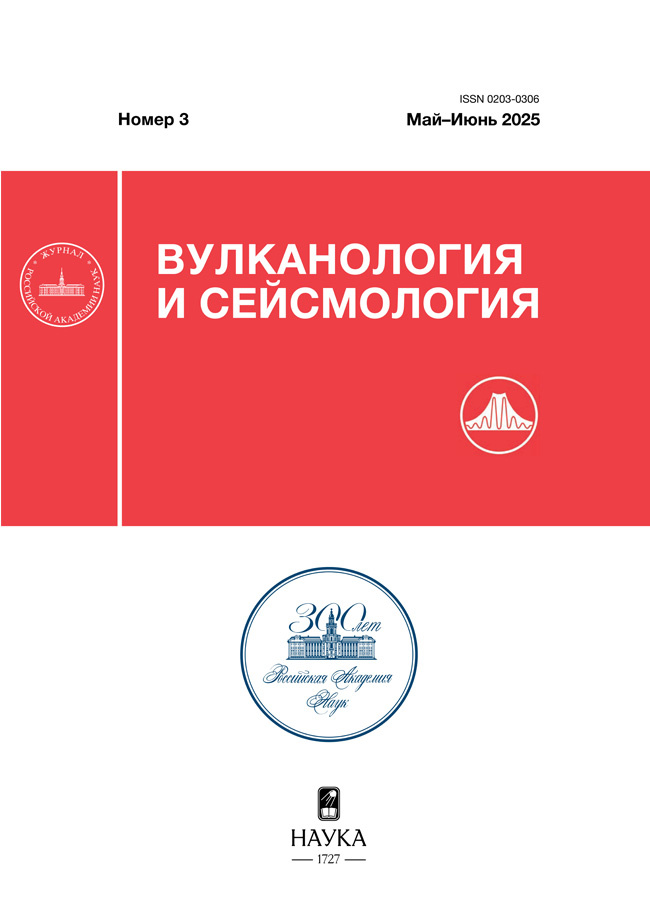Новые данные о возрасте молодых вулканических образований бассейна р. Чегем (Северный Кавказ, Россия)
- Авторы: Лебедев В.А.1, Кайгородова Е.Н.1
-
Учреждения:
- Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
- Выпуск: № 3 (2025)
- Страницы: 28-61
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/0203-0306/article/view/689692
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0203030625030034
- EDN: https://elibrary.ru/PZDWQQ
- ID: 689692
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В результате проведенных изотопно-геохронологических исследований ряда проявлений молодой вулканической активности на северном склоне Большого Кавказа в бассейне верховий р. Чегем (Кабардино-Балкария, Россия), которые разными исследователями относились как к юрскому периоду, так и позднему кайнозою, определены их возраст и место в региональной геохронологической шкале неоген-четвертичного магматизма Эльбрусской неовулканической области. Обоснованы стратиграфические взаимоотношения изученных геологических объектов с продуктами катастрофического эксплозивного вулканизма, в результате которого в конце неогена на территории рассматриваемого региона сформировалась крупная Чегемская кальдера. Уточнено отнесение вулканических аппаратов, активных в позднем плиоцене, к докальдерной, синкальдерной и посткальдерным стадиям магматизма.
Полученные результаты K–Ar датирования показывают, что на докальдерной стадии (около 3.1 млн лет назад) эндогенная активность на территории изученного района носила ареальный характер. В этот период происходили извержения большого количества малых вулканических аппаратов, к настоящему времени полностью разрушенных и маркируемых дайками и штоками риолитов, реже трахиандезитов. В конце плиоцена, в период 2.9–2.8 млн лет назад в результате катастрофических эксплозивных извержений возникла Чегемская кальдера, заполненная мощной толщей игнимбритов риолит-дацитового состава. Согласно полученным данным, синхронно с образованием кальдеры, по ее западной, южной и восточной периферии внедрилась серия кислых экструзий и даек, сложенных витрофирами. На посткальдерной стадии развития (около 2.8 млн лет назад) в западной части кальдеры проявляли активность стратовулканы Кум-Тюбе и Кюйген-Кая, извергавшие лавы дацитового и впоследствии андезитового состава.
Установлено, что в четвертичное время практически на всей территории бассейна верховий р. Чегем вулканическая активность отсутствовала. Исключением являются окрестности перевала Актопрак в крайней северо-западной части района, где в раннем плейстоцене (около 1 млн лет назад) зафиксированы локальные проявления магматизма повышенной щелочности. Ряд геологических объектов (Башильский вал и другие), образование которых некоторыми исследователями ранее было отнесено к концу плейстоцена–голоцену, по факту являются или плиоценовыми синкальдерными экструзиями или образовались в результате развития экзогенных процессов, не связанных с вулканической деятельностью.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
В неоген-четвертичное время в центральном секторе горной системы Большого Кавказа (от истоков р. Кубань на западе до верховьев рек Терек и Арагви на востоке) интенсивно проявился континентальный вулканизм, инициированный коллизией Евразийской и Аравийской литосферной плит. В условиях геотектонической обстановки общего регионального сжатия произошла реактивизация возникших здесь ранее, в позднем палеозое – мезозое, крупнейших тектонических разломов СЗ–ЮВ простирания (Главный Кавказский разлом, Пшекиш-Тырныаузская шовная зона и ряд других), к которым оказались приурочены как долгоживущие магматические очаги, так и локальные моногенные центры молодой эндогенной активности.
Наиболее масштабные проявления молодого магматизма на Большом Кавказе приходятся на конец плиоцена (3–2 млн лет назад). К этому времени относится внедрение серии интрузий гранитоидов на северном склоне Главного Кавказского хребта (Эльджуртинский, Сонгутидонский, Теплинский и Джимарский массивы), а также интенсивная эксплозивная активность. Особое место здесь занимает образование Чегемской кальдеры в верховьях одноименной реки, ставшей, наряду с такими вулканами как Арагац и Немрут, одним из крупнейших центров развития кислого игнимбритового вулканизма в пределах всей Аравийско-Евразийской коллизионной зоны. Огромная депрессия диаметром более 10 км, заполненная километровой толщей игнимбритов, прорывающие эту толщу кислые интрузии, посткальдерные стратовулканы и покровы их лав, многочисленные дайки, внекальдерная толща игнимбритов и туфов Нижнечегемского нагорья, образовавшаяся в результате аэрального переноса и изначально перекрывавшая сплошным покровом территорию площадью более 1000 км2 – в таком виде в настоящее время в бассейне р. Чегем предстают перед нами свидетельства катастрофической вулканической активности, протекавшей здесь около 3 млн лет назад.
Молодой вулканизм в бассейне р. Чегем изучался на протяжении всего XX столетия, и к настоящему времени опубликовано достаточно большое количество научных работ, посвященных различным аспектам протекавшей здесь магматической активности, в том числе, монографии и статьи таких известных исследователей Большого Кавказа, как Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Ю.П. Масуренков, Е.Е. Милановский, В.П. Ренгартен, С.П. Соловьев и другие. Детальное описание геологического строения непосредственно Чегемской кальдеры приведено в статьях [Богатиков и др., 1992; Lipman et al., 1993]. При этом исследования в области изотопной геохронологии распространенных в регионе молодых пород немногочисленны: первые K–Ar данные о возрасте вулканитов были получены еще в 1960-х гг. в ИГЕМ РАН [Аракелянц, 1968; Борсук, 1979], а впоследствии новые датировки присутствуют только в двух статьях зарубежных авторов (40Ar/39Ar [Gazis et al., 1995]; U–Pb, SHRIMP [Bindeman et al., 2021]).
Опубликованные 40Ar/39Ar изотопные данные [Gazis et al., 1995] позволили надежно установить время формирования Чегемской кальдеры (2.82±0.04 млн лет), подтвердили синхронность образования внутрикальдерных игнимбритов и внекальдерных игнимбритов и туфов Нижнечегемского нагорья, а также внедрения интрузивного массива гранодиоритов Джунгусу, прорывающего пирокластическую толщу. Тем не менее многие принципиальные вопросы, связанные с определением возраста и происхождения целого ряда молодых вулканических образований, известных в бассейне р. Чегем, остались нерешенными и на протяжении последних десятилетий являлись предметом дискуссии. В некоторых случаях это создавало основу для попыток ревизии ранее сложившихся взглядов и концепций относительно генезиса и хронологии развития магматической активности на территории данного региона (например, [Короновский, Мышенкова, 2020]). Одним из таких вопросов, во многом являющимся ключевым для понимания пространственно-временных закономерностей развития вулканизма в бассейне р. Чегем, является подтверждение наличия или отсутствия здесь проявлений позднечетвертичной эндогенной активности. В научной литературе встречаются противоположные точки зрения на этот счет, что нашло отражение, в том числе, и на государственных геологических картах России (например, [Государственная …, 2002]). Проведенное авторами геологическое, петрологическое и изотопно-геохронологическое изучение ряда ключевых молодых вулканических образований рассматриваемой части Большого Кавказа позволило получить ответ на этот, а также ряд других вопросов, связанных с закономерностями эволюции развивавшегося здесь магматизма. На основе полученных результатов были уточнены имеющиеся представления об истории геологического развития района верховий бассейна р. Чегем в плиоцен-четвертичное время.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ БАССЕЙНА ВЕРХОВИЙ Р. ЧЕГЕМ
Территория бассейна верховий р. Чегем (правый приток р. Баксан) расположена в центральной части горной системы Большого Кавказа, на ее северном склоне. Это средне- и высокогорная (до 4600 м над уровнем моря) область с сильно расчлененным рельефом и перепадами высот более 2 км. С юга ее ограничивает цепь Главного Кавказского хребта с вершинами Башильтау (4148 м) и Тихтенген (4618 м), к северу параллельно ей с простиранием СЗ‒ЮВ протянулись Боковой и Скалистый хребты, разделенные тектоническими депрессиями. В административном отношении – это территория Чегемского района Кабардино-Балкарской республики. В пределах его части, где проводились наши исследования, непосредственно в долинах р. Чегем и ее притоков, расположено только два населенных пункта – села Эльтюбю и Булунгу, а также несколько турбаз.
В тектоническом отношении район верховий р. Чегем характеризуется сложным строением с тремя структурными этажами: палеозойский (кристаллический фундамент Скифской плиты), киммерийский (тектонические депрессии с отложениями нижней‒средней юры) и альпийский (осадочный чехол, верхняя юра – миоцен). Согласно современной геотектонической схеме Большого Кавказа [Леонов и др., 2007], для палеозойского фундамента выделено три различающиеся по составу, возрасту и происхождению пород тектонические зоны, с севера на юг – Бечасынская, Передового хребта и Главного хребта. Последние две отделены друг от друга Тырныауз-Пшекишской шовной зоной [Милановский и др., 1962], которая является одним из крупнейших региональных линейных тектонических элементов на северном склоне Большого Кавказа. В пределах Бечасынской зоны на дневной поверхности наблюдаются палеозойские кварциты и сланцы кестантинского, шаукольского, тубаллыкулакского и таллыкольского метаморфических комплексов, а также прорывающие их интрузии позднекарбоновых гранитоидов кубанского комплекса [Государственная …, 2002] (рис. 1). Выходы пород зоны Передового хребта распространены локально в северной части рассматриваемого региона в междуречье рек Чегем и Кестанты. Они включены в состав раннепермской гимылдыкской свиты, сложенной терригенно-молассовыми образованиями (песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, линзы известняков) с горизонтами туфов. К тектонической зоне Главного хребта относится вся южная часть бассейна верховий р. Чегем (см. рис. 1). Здесь распространены породы палеозойских метаморфических комплексов ктитебердинского сланцевого, верхнебалкарского мигматитового и дуппухского амфиболито-гнейсового, прорванные среднепалеозойскими габброидами туялинского комплекса (в долине р. Кестанты), а также карбоновыми гранитоидами белореченского и уллукамского комплексов.
Рис. 1. Геологическая карта проявлений молодого магматизма в бассейне р. Чегем. Составлена В.А. Лебедевым с использованием данных из работ [Государственная …, 1959, 2001; Милановский, 1962; Lipman et al., 1993] и (Гриднев, Горохов, 19672; Греков и др., 19745).
1 – четвертичные осадочные отложения; 2 – четвертичные трахиандезиты останца Актопрак; 3 – вулканиты Чегемской кальдеры (а – плиоценовые игнимбриты риолитового и дацитового состава, б – андезит-дацитовые лавы вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая); 4 – субвулканические тела плиоценовых витрофиров (а – дайки, б – экструзивные купола); 5 – плиоценовые гранодиорит-порфиры массива Джунгусу, 6 – средне-позднеюрские осадочные образования; 7 – ранне-среднеюрские осадочные образования; 8 – габброиды среднеюрского хуламского комплекса; 9 – пермские осадочные образования; 10 – палеозойские магматические и метаморфические образования Бечасынской тектонической зоны; 11 – палеозойские метаморфические образования тектонической зоны Главного Кавказского хребта; 12 – палеозойские гранитоиды тектонической зоны Главного Кавказского хребта; 13 – палеозойские габброиды туялинского комплекса; 14 – тектонические нарушения; 15 – изученные объекты (1 – вулкан Кюйген-Кая, 2 – дайка плиоценовых витрофиров в долине р. Сарынсу, 3 – Башильский вал, 4 – предполагавшийся Е.Е. Милановским четвертичный эксплозивный центр в долине р. Гара-Аузусу, 5 – район распространения молодых пирокластических отложений в долине р. Гара-Аузусу [по Милановский и др., 1962], 6 – молодые субвулканические образования в долине р. Кекташ, 7 – останец четвертичных трахиандезитовых лав в районе пер. Актопрак); 16 – места отбора образцов (номера соответствуют порядковым номерам в табл. 1).
Киммерийский структурный этаж на территории рассматриваемого региона представлен сложно построенным грабеном Северной Юрской депрессии, который разбит продольными тектоническими нарушениями на Тюбенельский и Карданский блоки. Депрессия выполнена терригенными осадочными отложениями исчезнувшего океана Неотетис (свиты безенгийская, джигиатская, джорская и быкмылгинская), залегающими трансгрессивно с угловым несогласием на породах палеозойского фундамента. На востоке в пределах Карданского грабена наблюдаются выходы интрузий умеренно-щелочного хуламского вулкано-плутонического комплекса, сложенных габброидами и базальтоидами, а также трахитами и риолитами [Кайгородова, Лебедев, 2022].
На киммерийских образованиях, которые в бассейне р. Чегем в значительной степени денудированы, с угловым несогласием залегают морские отложения альпийского структурного этажа (осадочного чехла), слагающие в крайней северной части района эскарп Скалистого хребта, а южнее – крупные останцы в районе села Эльтюбю и в долине р. Джунгусу (см. рис. 1). Их разрез начинается с терригенных отложений армхинской свиты (келловейский ярус), выше которых здесь (см. рис. 1) залегают терригенно-карбонатные образования (преимущественно известняки и доломиты) иронской свиты (келловей–киммеридж), гандалбосской и матламской свит (верхняя юра). Более молодые образования осадочного чехла на территории рассматриваемого района отсутствуют.
В конце миоцена начинается рост горного сооружения Большого Кавказа, связанный с началом “жесткой” стадии коллизии Евразийской и Аравийской литосферных плит. Он сопровождался масштабной тектонической активизацией региона и развитием на его территории в течение последних 8.5 млн лет позднеколлизионного магматизма, которой широко проявился, в том числе, и на территории Чегемского ущелья.
Неоген-четвертичные магматические образования бассейна верховий р. Чегем обычно рассматривают в составе крупного Верхнечегемского неовулканического центра [Масуренков, 1957], который в своей южной части включает крупную плиоценовую Чегемскую кальдеру [Lipman et al., 1993], а также ряд более мелких проявлений магматической активности по ее периферии (см. рис. 1). Как отмечено выше, начало изучению проявлений молодого вулканизма в этом регионе положил Ф.Ю. Левинсон-Лессинг [Левинсон-Лессинг, 1913], а впоследствии здесь работали такие известные отечественные ученые, как С.П. Соловьев, Ю.П. Масуренков, Е.Е. Милановский и многие другие.
К наиболее ранним среди молодых вулканических образований (около 3.7 млн лет назад) в бассейне р. Чегем относятся вулканы Сурх и Крандух на севере района, извергавшие лавы андезибазальтового состава [Лебедев и др., 2006]. Масштабная эксплозивная деятельность в истоках р. Чегем около 2.8 млн лет назад [Gazis et al., 1995] привела к формированию Чегемской кальдеры, диаметр которой на сегодняшний день составляет от 13 до 19 км. При этом мощность заполняющей кальдеру толщи риолит-дацитовых игнимбритов достигает 2 км; вулканиты залегают как непосредственно на палеозойском фундаменте, так и на известняках средней‒верхней юры. В результате аэрального переноса пирокластического материала при эксплозивных извержениях на северных склонах Скалистого хребта сформировалась мощная игнимбрит-туфовая толща Нижнечегемского нагорья, сохранившаяся к настоящему времени фрагментарно на водоразделах между долинами рек Баксан, Чегем, Нальчик, Шалушка. В северной части Чегемской кальдеры в результате эрозии на дневной поверхности вскрыт массив гранодиорит-порфиров Джунгусу, представляющий собой резургентный блок, возраст которого также составляет около 2.8 млн лет назад [Gazis et al., 1995]. К северу от кальдеры, преимущественно в долинах рек Кестанты и Кекташ, наблюдаются довольно многочисленные дайки различного состава, относимые различными авторами или к неогену [Милановский и др., 1962 и др.] или к юрскому периоду [Государственная ..., 1975], а по ее западной периферии – серия кислых экструзий [Масуренков, 1957 и др.].
Посткальдерные вулканические образования Верхнечегемского центра представлены андезит-дацитовыми лавами вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая, локализованными в западной части кальдеры и перекрывающими там плиоценовые игнимбриты, а также небольшим лавовым останцом андезитов в 10 км к северу от нее в районе перевала Актопрак [Милановский и др., 1962]. Несмотря на имеющуюся единичную 40Ar/39Ar датировку [Gazis et al., 1995] для лав вулкана Кюйген-Кая, указывающую на их плиоценовый возраст (2.8–2.7 млн лет), время образования посткальдерных лав, залегающих на игнимбритах кальдеры, оставалось предметом дискуссии – часть исследователей по-прежнему рассматривала их как позднечетвертичные образования [Государственная ..., 2002]. В целом, вопрос наличия на территории Чегемского ущелья четвертичных, в том числе, позднеплейстоценовых магматических образований до настоящего времени не был до конца решен, т.к. в недавних работах некоторых исследователей (например, [Мышенкова, Короновский, 2015]) по-прежнему содержались указания на возможное наличие здесь проявлений новейшего и даже современного вулканизма.
В настоящей статье рассмотрены новые, полученные авторами прецизионные изотопно-геохронологические данные, которые позволили решить ряд важных вопросов, касающихся хронологии и пространственно-временных закономерностей развития молодого магматизма в пределах Верхнечегемского неовулканического центра.
МЕТОДЫ
Основой настоящей работы стала коллекция геологических образцов молодых вулканических пород, отобранных авторами статьи в 2021 г. во время полевых работ в бассейне р. Чегем (Кабардино-Балкарская Республика). Для изотопного датирования лав вулкана Кюйген-Кая был использован образец 101/08 из коллекции В.М. Газеева (ИГЕМ РАН). Координаты мест отбора проб, названия и основные петрографические характеристики пород приведены в табл. 1.
Таблица 1. Места отбора образцов и петрографические характеристики молодых магматических пород бассейна верховий р. Чегем
№ п.п. | Образец | Объект | Порода | Координаты, WGS84 N/E |
1 | ЧГ-1/21 | Башильский вал, глыбы на правом берегу р. Башиль-Аузусу | (Bt)-Pl-Sa-Qz риолитовый игнимбрит | 43 12′28.0′′/43 01′37.3′′ 1950 м |
2 | ЧГ-2/21 | Башильский вал, западная часть | (Bt)-(Pl)-Qz-Sa риолитовый игнимбрит с плитчатой отдельностью | 43°12′39.8′′43°01′49.1′′ 1985 м |
3 | ЧГ-3/21 | Башильский вал, восточная часть, экструзия витрофиров | (Bt)-(Pl)-Qz-Sa гиалориолит (витрофир) | 43°12′36.3′′/43°01′51.2′′ 2015 м |
4 | ЧГ-4/21 | Вулканиты Чегемской кальдеры над Башильским валом, нижний горизонт игнимбритов | (Bt)-(Pl)-(Qz)-Sa риолитовый игнимбрит с плитчатой отдельностью | 43°12′48.1′′/43°01′44.0′′ 2065 м |
5 | ЧГ-5/21 | Долина р. Сарынсу, дайка витрофиров под перевалом Турист | (Bt)-(Qz)-Pl-Sa гиалориолит (витрофир) | 43°13′28.9′′/42°59′44.0′′ 2715 м |
6 | ЧГ-6/21 | Долина р. Гара-Аузусу, “эксплозивный центр” согласно Е.Е. Милановскому [1962] | (Bt)-Pl-Sa риолитовый игнимбрит с плитчатой отдельностью | 43°10′56.5′′/43°02′37.1′′ 2051 м |
7 | ЧГ-7/21 | Правый приток р. Гара-Аузусу, район выходов пирокластической толщи по Е.Е. Милановскому [1962] – глыбы из ледниковых отложений | а – (Pl)-(Bt)-(Qz)-Sa темный риолитовый игнимбрит б – (Bt)-Pl-Qz-Sa светлый риолитовый игнимбрит | 43°11′18.6′′/43°03′12.0′′ 2140 м |
8 | ЧГ-8а/21 | Район перевала Актопрак, лавовый останец трахиандезитов | (Opx)-(Pl) трахиандезит пористый | 43°24′04.4′′/43°03′46.3′′ 1920 м |
ЧГ-8б/21 | То же | (Opx)-(Pl) трахиандезит пористый | 43°24′04.2′′/43°03′42.4′′ 1900 м | |
ЧГ-8в/21 | >> | (Opx)-(Pl) трахиандезит плотный | 43°24′01.9′′/43°03′35.3′′ 1880 м | |
ЧГ-8г/21 | >> | (Pl)-(Opx) трахиандезит пористый плитчатый | 43°23′58.1′′/43°03′32.4′′ 1865 м | |
ЧГ-8д/21 | >> | (Opx)-(Pl) гиалодацит | 43°23′55.0′′/43°03′23.9′′ 1800 м | |
9 | ЧГ-9/21 | Долина р. Кекташ, правый борт, дайка риолитов 1 | (Pl)-(Bt)-Sa-Qz риолит | 43°22′08.9′′/43°07′00.7′′ 1578 м |
ЧГ-9а/21 | Долина р. Кекташ, левый борт, дайка риолитов 2 | (Pl)-Bt-Sa-Qz риолит | 43°22′21.5′′/43°07′08.3′′ 1526 м | |
10 | ЧГ-10/21 | Долина р. Кекташ, левый борт, ферма, зональная дайка риолитов 3 | а – (Opx)-Bt-Pl гиалориолит (витрофир) б – (Bt)-Pl риолит | 43°22′28.4′′/43°07′11.5′′ 1530 м |
11 | ЧГ-11/21 | Нижнее течение р. Кекташ, правый борт, шток трахиандезитов | Opx-Pl трахиандезит стекловатый | 43°22′23.0′′/43°08′07.4′′ 1445 м |
12 | 101/08* | Вулкан Кюйген-Кая, нижний горизонт лав | Cpx-Opx-Pl дацит | 43°17′34.5′′/43°03′19.9′′ 3550 м |
13 | КБ-1 | Дайка риолитов Кель-Баш (Безенгийское ущелье) | (Kfs)-(Pl)-Qz риолит | 43°04′33.8′′/43°04′40.2′′ 2930 м |
Примечание. * ‒ Образец из коллекции В.М. Газеева (ИГЕМ РАН).
Петролого-минералогическое изучение прозрачных шлифов пород выполнено на оптическом микроскопе OLYMPUS BX51. Микрофотографии шлифов основных разностей магматических образований представлены на рис. 2. Химический состав некоторых минералов из вулканитов был определен с использованием сканирующего электронного микроскопа “JSM-IT500” (Япония) с применением детектора (BED-C) EDS-JED-2300 при ускоряющем напряжении в 20 кВ, при рабочем расстоянии до образца 10 мм. Результат съемки обработан при помощи программы Smile View Lab версии V1.4.9 японской фирмы JEOL Ltd (оператор Л.А. Иванова).
Рис. 2. Микрофотографии прозрачных шлифов изученных молодых магматических образований бассейна р. Чегем.
а–в, д–к – николи скрещены, г – николи параллельны. а – образец ЧГ-2/21, б – образец ЧГ-3/21, в, г – образец ЧГ-5/21, д – образец ЧГ-6/21, е – образец ЧГ-8б/21, ж – образец ЧГ-8г/21, з – образец ЧГ-9а/21, и – образец ЧГ-10а/21, к – образец ЧГ-11/21.
Химический состав пород (породообразующие оксиды и некоторые микроэлементы) определен в ИГЕМ РАН (аналитик А.И. Якушев) с помощью рентгено-флуоресцентного метода на вакуумном спектрометре последовательного действия (с дисперсией по длине волны) модели Axios mAX (PANalytical). Результаты представлены в табл. 2 и на рис. 3. Сводная база данных опубликованных химических анализов для молодых магматических образований бассейна р. Чегем размещена в дополнительных материалах в электронном виде по DOI статьи (Suppl.data_1.xls).
Таблица 2. Химический состав молодых магматических образований бассейна верховий р. Чегем по данным рентгено-флюоресцентного анализа
Образец | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | ППП | Cr | V | Co | Ni | Cu | Zn | Rb | Sr | Zr | Ba | U | Th | Y | Nb | Pb |
мас. % | г/т | |||||||||||||||||||||||||
ЧГ-1/21 | 74.22 | 0.11 | 12.84 | 1.94 | 0.02 | 0.25 | 0.79 | 3.62 | 4.94 | 0.01 | 1.14 | 16 | 12 | <10 | <10 | 41 | 35 | 179 | 40 | 114 | 121 | 13 | 36 | 14 | 11 | 33 |
ЧГ-2/21 | 70.00 | 0.13 | 12.29 | 2.01 | 0.10 | 0.67 | 1.97 | 2.90 | 4.09 | 0.02 | 5.65 | 33 | 27 | <10 | 23 | 298 | 57 | 261 | 46 | 105 | 105 | 13 | 24 | 24 | 21 | 47 |
ЧГ-3/21 | 70.75 | 0.09 | 12.69 | 1.91 | 0.06 | 0.46 | 1.87 | 3.91 | 4.39 | 0.01 | 3.65 | 19 | <10 | <10 | 10 | 390 | 42 | 218 | 32 | 101 | 62 | 14 | 35 | 19 | 15 | 41 |
ЧГ-4/21 | 74.48 | 0.09 | 12.81 | 1.87 | 0.05 | 0.26 | 0.85 | 3.59 | 4.80 | 0.02 | 1.07 | 14 | 12 | <10 | 11 | 34 | 39 | 185 | 39 | 110 | 144 | 11 | 34 | 11 | 11 | 33 |
ЧГ-5/21 | 71.11 | 0.20 | 13.12 | 3.01 | 0.06 | 0.34 | 1.13 | 4.00 | 3.97 | 0.05 | 2.72 | 22 | 28 | <10 | 13 | 460 | 55 | 284 | 115 | 147 | 401 | 10 | 22 | 29 | 24 | 40 |
ЧГ-6/21 | 73.50 | 0.12 | 13.17 | 1.88 | 0.02 | 0.23 | 0.81 | 3.92 | 5.04 | 0.02 | 1.18 | 17 | <10 | <10 | <10 | 42 | 36 | 186 | 41 | 113 | 131 | 12 | 34 | 12 | 12 | 40 |
ЧГ-7а/21 | 71.71 | 0.26 | 13.80 | 2.25 | 0.03 | 0.48 | 1.44 | 3.64 | 4.41 | 0.06 | 1.63 | 21 | 33 | <10 | 11 | 417 | 40 | 141 | 143 | 188 | 572 | <5 | 23 | 11 | <10 | 30 |
ЧГ-7б/21 | 71.91 | 0.28 | 14.25 | 2.13 | 0.02 | 0.45 | 1.46 | 3.83 | 4.50 | 0.01 | 0.93 | 13 | 35 | <10 | 11 | 29 | 38 | 142 | 159 | 194 | 609 | 8 | 21 | 12 | 10 | 29 |
ЧГ-8а/21 | 60.42 | 1.28 | 16.01 | 6.16 | 0.08 | 2.45 | 4.22 | 4.06 | 3.52 | 0.59 | 0.86 | 83 | 120 | 19 | 32 | 56 | 98 | 119 | 589 | 353 | 683 | <5 | 19 | 25 | 23 | 30 |
ЧГ-8б/21 | 60.37 | 1.29 | 15.87 | 6.25 | 0.08 | 2.71 | 4.31 | 4.22 | 3.60 | 0.57 | 0.37 | 75 | 118 | 11 | 35 | 47 | 97 | 122 | 587 | 339 | 649 | 6 | 17 | 25 | 21 | 26 |
ЧГ-8в/21 | 60.38 | 1.23 | 15.77 | 6.41 | 0.08 | 2.65 | 4.25 | 3.96 | 3.49 | 0.56 | 0.88 | 95 | 115 | 14 | 37 | 60 | 95 | 121 | 570 | 335 | 647 | 6 | 15 | 22 | 21 | 25 |
ЧГ-8г/21 | 60.13 | 1.23 | 15.58 | 6.51 | 0.08 | 2.74 | 4.31 | 4.07 | 3.49 | 0.56 | 0.94 | 91 | 106 | 17 | 41 | 123 | 100 | 119 | 571 | 339 | 639 | <5 | 20 | 25 | 22 | 25 |
ЧГ-8д/21 | 65.83 | 0.76 | 15.81 | 4.56 | 0.06 | 1.54 | 3.56 | 3.98 | 2.98 | 0.27 | 0.40 | 53 | 82 | <10 | 13 | 47 | 85 | 113 | 311 | 303 | 524 | <5 | 16 | 15 | 12 | 21 |
ЧГ-9/21 | 73.14 | 0.26 | 12.87 | 2.64 | 0.03 | 0.46 | 1.38 | 3.60 | 4.35 | 0.06 | 0.98 | 18 | 35 | <10 | 13 | 68 | 38 | 133 | 142 | 167 | 583 | 5 | 24 | 8 | 10 | 27 |
ЧГ-9а/21 | 72.27 | 0.26 | 13.11 | 2.95 | 0.02 | 0.68 | 1.51 | 3.59 | 4.17 | 0.07 | 1.13 | 30 | 41 | <10 | 15 | 41 | 44 | 125 | 158 | 185 | 628 | 8 | 21 | 12 | 9 | 24 |
ЧГ-10а/21 | 65.32 | 0.44 | 14.13 | 3.50 | 0.06 | 0.71 | 2.01 | 4.45 | 3.01 | 0.13 | 5.92 | 15 | 45 | <10 | 10 | 96 | 59 | 189 | 201 | 296 | 725 | <5 | 21 | 24 | 16 | 33 |
ЧГ-10б/21 | 68.98 | 0.47 | 14.71 | 3.77 | 0.07 | 0.54 | 1.14 | 2.51 | 3.95 | 0.14 | 3.50 | 16 | 53 | <10 | 10 | 38 | 57 | 148 | 116 | 311 | 528 | 6 | 18 | 24 | 16 | 25 |
ЧГ-11/21 | 61.39 | 0.80 | 15.26 | 6.07 | 0.09 | 2.91 | 4.29 | 4.29 | 2.68 | 0.23 | 1.71 | 108 | 93 | 15 | 38 | 50 | 74 | 99 | 328 | 261 | 474 | <5 | 14 | 23 | 14 | 26 |
101/08 | 63.25 | 0.78 | 16.04 | 4.67 | 0.08 | 1.94 | 4.28 | 4.17 | 2.54 | 0.22 | 83 | 74 | 15 | 16 | 13 | 62 | 103 | 325 | 237 | 449 | 25 | 17 | 21 | |||
КБ-1 | 75.61 | 0.06 | 13.02 | 1.56 | 0.09 | 0.05 | 0.37 | 4.91 | 3.55 | 0.01 | 0.61 | 184 | <10 | <10 | 10 | <10 | 41 | 316 | 26 | 116 | 152 | 18 | 30 | 33 | 42 | 84 |
Рис. 3. Петрологические диаграммы для молодых магматических образований бассейна верховий р. Чегем: а – TAS [Le Bas et al., 1986]; б – SiO2–K2O [Peccerillo, Taylor, 1976]; в – A/CNK–A/NK [Shand, 1943], г – AFM [Irvine, Baragar, 1971].
1 – поле пород чегемского комплекса по литературным данным; 2 – поле вулканитов Эльбрусской области с возрастом ~1 млн лет (вулканы Тызыл, Сылтран, Ташлысырт) по данным [Лебедев и др., 2006]; 3 – чегемский комплекс, докальдерные образования – дайки и штоки (3.2–3.1 млн лет); 4 – чегемский комплекс, синкальдерные и посткальдерные образования (~2.8 млн лет); 5 – трахиандезиты останца Актопрак (~1 млн лет).
K–Ar датирование пород проводилось с помощью высокочувствительной низкофоновой методики, разработанной в ИГЕМ РАН для определения возраста молодых магматических образований. Ее подробное описание, включающее геохимическое обоснование, характеристики применяемой аппаратуры, алгоритм проведения анализа и оценки точности результатов, изложено в статье [Чернышев и др., 2006]. При датировании лав в качестве K–Ar геохронометра использована основная масса лав, а игнимбритов и пород из субвулканических тел – мономинеральные фракции биотита и санидина (табл. 3). Для определения концентрации радиогенного 40Ar применена методика изотопного разбавления (трасер – моноизотоп 38Ar). Содержание калия определено методом пламенной спектрофотометрии на приборе ФПА-01 с точностью ±1% отн. (1σ). При расчетах возраста использованы рекомендованные международные значения констант распада [Steiger, Jager, 1977].
Таблица 3. Результаты K–Ar датирования образцов молодых магматических образований из бассейна р. Чегем
Образец | Материал | Калий, % ± σ | 40Arрад (нг/г) ± σ | 40Arатм, % | Возраст, млн лет ± 2s |
101/08 | Основная масса | 2.33±0.03 | 0.457±0.004 | 75.5 | 2.82±0.09 |
ЧГ-1/21 | Основная масса | 4.10±0.05 | 0.751±0.011 | 85.9 | 2.66±0.11 |
Полевой шпат | 2.09±0.03 | 0.426±0.005 | 41.3 | 2.94±0.11 | |
ЧГ-2/21 | Санидин | 6.89±0.07 | 1.442±0.006 | 14.0 | 3.01±0.07 |
ЧГ-3/21 | Санидин | 5.38±0.06 | 1.136±0.004 | 12.4 | 3.04±0.07 |
ЧГ-5/21 | Санидин | 7.40±0.09 | 1.486±0.007 | 33.3 | 2.89±0.08 |
ЧГ-6/21 | Основная масса | 4.16±0.05 | 0.800±0.004 | 60.5 | 2.77±0.07 |
Санидин | 6.88±0.07 | 1.326±0.008 | 26.7 | 2.78±0.07 | |
ЧГ-7а/21 | Биотит | 6.54±0.07 | 1.208±0.009 | 57.1 | 2.66±0.07 |
ЧГ-7б/21 | Биотит | 6.84±0.07 | 1.328±0.011 | 74.5 | 2.80±0.07 |
ЧГ-8в//21 | Основная масса | 3.04±0.04 | 0.2098±0.0014 | 66.3 | 0.99±0.03 |
ЧГ-8г/21 | Основная масса | 3.03±0.04 | 0.2193±0.0013 | 53.2 | 1.04±0.03 |
ЧГ-9/21 | Биотит | 7.27±0.08 | 1.587±0.008 | 56.0 | 3.14±0.08 |
ЧГ-10а/21 | Биотит | 6.93±0.07 | 1.512±0.007 | 54.5 | 3.14±0.07 |
ЧГ-11/21 | Основная масса | 2.30±0.03 | 0.498±0.002 | 45.1 | 3.12±0.08 |
КБ-1 | Основная масса | 3.21±0.04 | 0.704±0.004 | 36.0 | 3.16±0.10 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках настоящей работы было изучено 7 геологических объектов, связанных с проявлениями молодого магматизма в бассейне верховий р. Чегем на Северном Кавказе, данные о возрасте которых могут оказать важную помощь в понимании основных пространственно-временных закономерностей развития эндогенной активности на территории этого региона в неоген-четвертичное время. Среди них (см. рис. 1): 1) вулкан Кюйген-Кая в центральной части Чегемской кальдеры, 2) экструзия витрофиров под перевалом Турист в долине р. Сарынсу, 3) Башильский вал в долине р. Башиль-Аузусу, 4) предполагаемый четвертичный эксплозивный центр в долине р. Гара-Аузусу, описанный ранее в статьях Е.Е. Милановского, 5) предполагаемый район распространения четвертичных пирокластических отложений в долине р. Гара-Аузусу, согласно данным [Милановский и др., 1962], 6) молодые субвулканические образования (дайки и штоки) в долине р. Кекташ, 7) останец трахиандезитовых лав в районе перевала Актопрак. Ниже для каждого из перечисленных объектов вкратце рассмотрена история его геологического изучения, приведены взгляды разных исследователей на возраст и происхождение пород. На основе наших новых изотопно-геохронологических и петрологических данных сделаны выводы о времени образования и стратиграфическом положении перечисленных выше вулканических образований в региональной шкале позднекайнозойского магматизма Эльбрусской неовулканической области Большого Кавказа.
Вулканы Кум-Тюбе и Кюйген-Кая
В центральной части Чегемской кальдеры на высоте 3500–3700 м возвышаются два крупных сильно разрушенных андезит-дацитовых стратовулкана – Кюйген-Кая (3743 м, рис. 4) и Кум-Тюбе (3776 м), а также изолированные друг от друга останцы их эродированных лавовых потоков – Серны, Тура и Зубы (Малая Кум-Тюбе) (см. рис. 1). Первое упоминание этих вулканов в научной литературе встречается в работе [Ammon, 1897]. В начале ХХ века краткое геологическое описание верховий Чегемского ущелья было сделано В.Г. Орловским [1913], который предположил, что “горы Кумъ и Кюген-Кая (“обожженная скала”), вероятно, были центрами извержений” широко распространенных здесь эффузивных пород. Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом в его известной монографии [1914] приведено петрографическое описание нескольких образцов вулканитов Чегемской кальдеры из коллекции В.Г. Орловского.
Рис. 4. Вид на вулкан Кюйген-Кая из района перевала Актопрак.
Впервые детальное описание геологического строения и петрографии пород Верхнечегемского вулканического центра было сделано С.П. Соловьевым [1938]. “Сложенные целиком андезитами” вершины Кум-Тюбе и Кюйген-Кая однозначно отнесены им к самостоятельным центрам извержений, а в пределах последней даже отмечено наличие “полуразрушенного кратера”. С тех пор вулканическая природа этих вершин как центров лавовых извержений никем, кроме К.Н. Паффенгольца [1956], не оспаривалась, однако вопрос об их возрасте вплоть до последнего времени оставался дискуссионным.
С.П. Соловьев [1938] указывает, что андезитовые лавы вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая являются наиболее поздними магматическими образованиями Верхнечегемского вулканического центра. При этом, согласно его наблюдениям, эффузивы Кюйген-Кая залегают на дацитах и риолитах игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры, а Кум-Тюбе – также на игнимбритах или непосредственно на гранитоидах палеозойского кристаллического фундамента. На основании изучения геоморфологии региона и ледниковых отложений на его территории С.П. Соловьев отнес образование кислых эффузивов кальдеры к четвертичному периоду, а “излияние андезитов – к концу вюрмской ледниковой эпохи (II фаза) или началу современной эпохи”, то есть, по его мнению, их возраст составляет менее 100 тыс. лет.
Ю.П. Масуренков в своих работах [Масуренков, 1957, 1961] отрицает залегание лав обоих вулканов на выходах кристаллического фундамента, а предполагает, что при извержении они в ряде мест помимо игнимбритов перекрыли морену миндельского оледенения (480–420 тыс. лет назад), содержащую обильные обломки гранитоидов палеозоя, и впоследствии, в свою очередь, были частично покрыты мореной рисского оледенения (350–180 тыс. лет назад). Возраст морен при этом был определен им, исходя из общих соображений. Таким образом, по мнению Ю.П. Масуренкова, вулканы Кюйген-Кая и Кум-Тюбе проявляли активность в миндель-рисское межледниковье. Для игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры этот исследователь на основе геоморфологических данных предполагал возраст от позднего апшерона до миндельской эпохи (1.8–0.5 млн лет).
Г.М. Заридзе и Е.Е. Милановский [Заридзе, Милановский 1957; Милановский и др., 1962] придерживались близкой точки зрения и по результатам проведенных ими полевых работ обосновывали отсутствие выходов кристаллического фундамента в районе вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая, а также залегание их андезит-дацитовых лав на древней морене мощностью около 50 м (указана как “морена древнейшего из известных на Кавказе оледенений”, предположительный возраст – апшеронский) или непосредственно на подстилающих их риолитовых игнимбритах. Возраст последних авторы относили к позднему плиоцену, а извержения андезитов в работе [Заридзе, Милановский, 1957] – к концу нижнего или началу среднего плейстоцена, а в статье [Милановский и др., 1962] – к верхнему плиоцену – нижнему плейстоцену.
В конце 1960 – начале 1970 гг. в ИГЕМ РАН были получены первые K–Ar данные [Аракелянц и др., 1968; Борсук, 1979], позволившие подтвердить позднеплиоценовый возраст игнимбритовой толщи Верхнечегемского центра (датировки в диапазоне 2.5–3.1 млн лет) и прорывающего ее массива гранодиорит-порфиров Джунгусу (2.6 млн лет). В соответствии с этими результатами на Государственной геологической карте первого поколения масштаба 1:200 000 [Государственная …, 1975] возраст игнимбритов Чегемской кальдеры был указан, как позднеплиоценовый, а лав вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая, на основе представлений Ю.П. Масуренкова [1961], как среднечетвертичный.
Е.К. Станкевич [1976] в своей монографии опровергает данные Ю.П. Масуренкова и Е.Е. Милановского и указывает, что “древняя морена” на самом деле представляет собой “типичные делювиальные образования на коренных выходах палеозойских гранитов Главного Кавказского хребта”. Он обращает внимание на “чистоту и однообразие состава делювия”, в котором полностью отсутствуют обломки игнимбритов, а крупные (до 2–3 м) глыбы гранитов имеют неокатанную угловатую форму. Автор отрицает наличие моренных отложений между игнимбритами и перекрывающими их андезитовыми лавами и считает, что все они образовались в рамках одного вулканического цикла.
Н.В. Короновским с соавторами в период с 1975 по 1988 гг. была опубликована серия статей [Короновский 1975, 1976; Короновский и др., 1988 и др.], в которых был высказан ряд гипотез о механизмах формирования риолит-дацитовой эффузивной толщи Верхнечегемского вулканического центра. Авторы считали вулканиты данной толщи не игнимбритами, а особыми подвижными лавами (“флюидолипариты”), изверженными целой серией небольших аппаратов. Вопросы, связанные со стратиграфическим положением и возрастом лав вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая, в трудах Н.В. Короновского с соавторами напрямую затронуты не были.
В 1992–1993 гг. международной группой исследователей была опубликована серия работ [Богатиков и др., 1992; Bogatikov et al., 1992; Лятифова, 1993; Lipman et al., 1993], в которых впервые были приведены данные о существовании в пределах Верхнечегемского вулканического центра крупной (11×15 км) кальдеры (Чегемская кальдера), возникшей в результате катастрофического эксплозивного извержения в конце плиоцена. В рамках своей концепции эти авторы рассматривают вулканы Кум-Тюбе и Кюйген-Кая, как посткальдерные образования. В связи с присутствием в составе этой группы Н.В. Короновского, материалы которого были отчасти использованы в работах [Богатиков и др., 1992; Lipman et al., 1993] при описании геологического строения Чегемской кальдеры, в соответствии со взглядами этого исследователя, также утверждалось, что посткальдерные андезитовые лавы в ряде мест перекрывают плейстоценовые осадки и моренные отложения. При этом одновременно отмечено, что в большинстве мест андезиты практически согласно залегают на игнимбритах кальдеры. В данной связи в статье [Lipman et al., 1993] было высказано предположение о том, что извержения вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая имели место “вскоре после образования кальдеры”.
В 1995 г. в работе [Gazis et al., 1995] была опубликована серия 40Ar/39Ar датировок (общее плавление) для семи мономинеральных фракций биотита и санидина из ингнимбритов Чегемской кальдеры и туфов Нижнечегемского нагорья, которые лежат в узком временном интервале 2.77–2.92 млн лет при средневзвешенном значении 2.82±0.04 млн лет (±2σ). По образцу санидина из гранодиоритов массива Джунгусу, расположенного в пределах кальдеры (резургентный блок), получено совпадающее значение возраста 2.84±0.06 млн лет (±2σ). Одновременно, с использованием методики ступенчатого отжига, была датировано два образца посткальдерных андезитовых лав с вулканов Кюйген-Кая и Кум-Тюбе. Для первого из них был получен линейный спектр с выраженным сегментом плато, возраст которого составил 2.84±0.04 млн лет (±2σ). Для стекловатой лавы вулкана Кум-Тюбе аргоновый спектр имел сложную форму без сегмента плато, что, по мнению авторов, объясняется феноменом отскока 39Ar при нейтронном облучении из вулканического стекла. Тем не менее, интегральный 40Ar/39Ar возраст датированного образца составил 3.1±0.4 млн лет (±2σ), что однозначно указывает на его образование в позднем плиоцене. Полученные изотопные данные позволили авторам цитируемой работы сделать вывод о том, что извержения вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая имели место в течение последующих 50 тыс. лет после образования кальдеры.
Казалось бы, плиоценовый возраст посткальдерных андезитовых лав был доказан, дискуссия об их стратиграфических взаимоотношениях с игнимбритами Чегемской кальдеры исчерпана. Однако на геологической карте второго поколения масштаба 1:200 000 [Государственная ..., 2002] вулканы Кум-Тюбе и Кюйген-Кая по-прежнему показаны как среднеплейстоценовые образования без каких-либо обоснований возраста в объяснительной записке к этой карте.
В 2016–2022 гг. Н.В. Короновским была опубликована серия статей [Короновский, 2016; Короновский, Мышенкова, 2020 и др.], в которых он повторно излагает свою концепцию, ранее уже изложенную им в работах конца ХХ столетия – о лавовой, а не игнимбритовой природе вулканической толщи Верхнечегемского центра, отсутствии Чегемской кальдеры как таковой (согласно мнению Н.В. Короновского, это не кальдера, а вулкано-тектоническая депрессия), которые не разделяются большинством исследователей молодого магматизма Кавказа [Bogatikov et al., 1992; Lipman et al., 1993; Popov et al., 2000; Цветков и др., 1991 и др.]. Касательно стратиграфического положения андезитовых лав вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая авторы отмечают, что в ряде мест они перекрывают моренные отложения мощностью до 80(!) м, образовавшиеся или во время миндельского оледенения (согласно [Масуренков, 1961]), т.е. 470–330 тыс. лет назад, или во время эпохи альпийского оледенения Бибер (согласно [Milanovsky, 2008]), т.е. 2.8–2.5 млн лет назад. Непосредственно возраст андезитов при этом в цитируемых работах не обсуждался.
В свете полученных ранее и опубликованных в работе [Gazis et al., 1995] 40Ar/39Ar данных, единственным аргументом, который с натяжкой позволяет поставить под сомнение плиоценовый возраст посткальдерных андезитов вулканов Кюйген-Кая и Кум-Тюбе, является предполагаемое перекрывание лавами последнего моренных отложений, возраст которых разными исследователями принимался как миндельский [Масуренков, 1961], апшеронский [Милановский и др., 1962] или соответствующий эпохе альпийского оледенения Бибер [Milanovsky, 2008]. Однако, с одной стороны, имеющийся разброс в оценках времени формирования морены, перекрывающей игнимбриты Чегемской кальдеры, говорит о весьма высокой степени неопределенности этих возрастных оценок, базирующихся исключительно на геоморфологических данных. С другой стороны, многие исследователи [Соловьев, 1938; Станкевич, 1976] отрицают залегание андезитов вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая на моренных отложениях, а указывают, что они перекрывают непосредственно образования кристаллического фундамента.
Нами проведено K–Ar датирование образца андезит-дацитовых лав из нижней части разреза эффузивной толщи вулкана Кюйген-Кая (обр. 101/08), который был любезно предоставлен В.М. Газеевым (ИГЕМ РАН). Полученная датировка (2.82±0.09 млн лет, см. табл. 3) полностью совпадает с опубликованными ранее данными 40Ar/39Ar метода для этого вулкана [Gazis et al., 1995] и является новым доказательством позднеплиоценового возраста посткальдерных вулканитов Чегемской кальдеры. Близость времени формирования кальдеры и перекрывающих игнимбриты андезитовых лав позволяет поставить под сомнение наличие мощных ледниковых отложений (до 80 м, [Короновский, Мышенкова, 2020]), залегающих между ними. По нашему мнению, возможно три варианта: 1) моренные отложения под андезитами присутствуют, но их мощность очень невелика, и они сформировались в конце плиоцена, ~2.8 млн лет назад; 2) моренные отложения в районе вулкана Кум-Тюбе присутствуют, но они не подстилают, а прилегают к покровам андезитовых лав и образовались уже в четвертичное время; 3) перекрывающие игнимбриты моренные отложения, как утверждали С.П. Соловьев [1938] и Е.К. Станкевич [1976], отсутствуют, а андезиты залегают непосредственно или на игнимбритах или на палеозойских гранитоидах; за морену были ошибочно приняты элювиальные отложения. Для того чтобы отдать предпочтение одному из этих вариантов необходимо проведение детальных полевых исследований в вершинной части Чегемской кальдеры.
Детальное петрографическое описание разностей ортопироксен-плагиоклазовых плиоценовых лав вулканов Кум-Тюбе и Кюйген-Кая ранее было приведено во многих работах [Соловьев, 1938; Масуренков, 1961; Милановский и др., 1962; Лятифова, 1993 и др.], поэтому мы не будем заново останавливаться на нем в этой статье. Состав данных пород отвечает высококалиевым известково-щелочным андезитам-дацитам (см. рис. 2); опубликованные результаты химических анализов приведены в дополнительных материалах к статье (см. электронное приложение Suppl.data_1.xls).
Экструзивное дайкообразное тело в долине р. Сарынсу (район пер. Турист)
На водораздельном хребте между реками Сарынсу и Джайлыксу (левые притоки р. Башиль-Аузусу) в 230 м к ССЗ от перевала Турист на высоте 2700 м наблюдаются выходы экструзивного дайкообразного тела гиалориолитов (витрофиров), прорывающего палеозойские гранитоиды (рис. 5). Размеры экструзии на поверхности – 45×15 м при высоте до 10 м. Впервые этот объект, как “дайка из черных смоляновидных лав” был описан в трудах С.П. Соловьева (Соловьев, 19331), [Соловьев, 1938]. К.Н. Паффенгольц [1956] принял данное субвулканическое тело за останец лавового покрова, что впоследствии было дезавуировано Е.Е. Милановским [1962] на основе детального геологического изучения его строения. Немного позднее, экструзия была упомянута как “дайка брекчированных липаритов” в отчете (Гриднев, Горохов, 19672), или как “дайка флюидальных липаритов” в статье [Короновский, Лебедев-Зиновьев, 1973] и монографии [Станкевич, 1976]. В дальнейшем в опубликованных научных работах каких-либо результатов изучения обсуждаемой экструзии не приведено, на геологических картах она не отмечена [Государственная ..., 1975, 2001]. Изотопного датирования витрофиров не проводилось и его геологический возраст в научной литературе обсуждался лишь в нескольких научных работах. С.П. Соловьев [1938] относил все “черные смоляновидные липариты” Верхнечегемского центра к его наиболее ранним магматическим образованиям, в то время как Ю.П. Масуренков [1961] предполагал поствюрмский возраст “некка на водоразделе рек Сарынсу – Джайлуксу” (менее 10 тыс. лет).
Рис. 5. Экструзивное дайкообразное тело витрофиров на правом борту долины р. Сарынсу.
По нашему мнению, экструзивная природа дайкообразного тела витрофиров в районе перевала Турист не подлежит сомнению и доказывается наличием у него интрузивных контактов с вмещающими палеозойскими образованиями, наблюдаемой субвертикальной флюидальностью лав, а также обилием в них ксенолитов древних гранитов на протяжении всего вертикального разреза этой экструзии.
Породы, слагающие дайкообразное тело, представлены черными смолянокаменными гиалориолитами (витрофирами) с многочисленными ксенолитами вмещающих палеозойских гранитоидов, размер которых составляет от 1 мм до нескольких сантиметров (обр. ЧГ-5). Витрофиры имеют массивную текстуру и порфировидную структуру (см. рис. 2в, 2г). Фенокристы (20% от объема породы): санидин (катаклазированные зерна размером до 0.9 мм, 8% от объема породы), плагиоклаз (призматические зерна и остроугольные обломки размером до 1.1 мм, 5%), кварц (изометричные зерна, до 0.9 мм, 4%) и в небольших количествах биотит (до 1.0 мм, 3%). Лито- и кристаллокласты слагают до 10% от объема витрофиров. Последние представлены чешуйками ксеногенного мусковита, обломками кристаллов серицитизированного плагиоклаза и калишпата, а также оплавленными ксеноморфными зернами кварца из вмещающих гранитоидов. Структура основной массы – игнимбритовая; она сложена вулканическим стеклом, имеющим выраженную флюидальность, с редкой рассеянной вкрапленностью рудного минерала.
Результаты изучения химического состава пород (см. табл. 2) показывают, что они представлены известково-щелочными высококалиевыми, высокоглиноземистыми риолитами. На классификационных диаграммах (см. рис. 3) видно, что их точки попадают в поле эффузивных пород Верхнечегемского вулканического центра и имеют близкие геохимические характеристики, в первую очередь, с игнимбритами Чегемской кальдеры.
Результаты K–Ar изотопного датирования вкрапленников санидина из образца витрофира ЧГ-5/21 позволяют утверждать, что возраст дайкообразного тела составляет 2.89±0.08 млн лет и совпадает в пределах аналитической погрешности с определенным ранее 40Ar/39Ar методом временем образования Чегемской кальдеры – 2.82±0.04 млн лет [Gazis et al., 1995]. Указанное обстоятельство может свидетельствовать о синхронности внедрения рассматриваемой экструзии с катастрофическим эксплозивным извержением, в результате которого сформировалась кальдера. Таким образом, данный геологический объект может рассматриваться как синкальдерное субвулканическое образование.
Башильский вал
В нижнем течении р. Башиль-Аузусу в 2 км от ее устья (район водопада Абай-Су) непосредственно в русловой части долины на ее левом борту расположена небольшая гряда (длина – 1 км, максимальная ширина – до 200 м, высота – от 30 до 70 м), сложенная различным по составу вулканическим материалом (рис. 6). В научной литературе она обычно упоминается под названием “Башильский вал” (балкарское – “Тюбеле”). Представления разных исследователей о происхождении и возрасте этой гряды существенно отличались и являлись предметом дискуссии на протяжении практически всего ХХ столетия.
Рис. 6. Панорамные фотографии Башильского вала в низовьях р. Башиль-Аузусу. а – вид с юга, б – вид с запада, в – вид с востока.
Н.А. Буш [1914] и ряд других исследователей-географов, впервые описавших этот объект, рассматривали его в качестве вюрмской конечной морены ледника Башиль. С.П. Соловьев [1938] опроверг это предположение и при описании Башильского вала высказал две точки зрения на его происхождение, не отдавая явного предпочтения какой-либо из них: 1) гряда представляет собой часть вулканической толщи Чегемской кальдеры, о чем может свидетельствовать “совершенное тождество эффузивных пород вала и склона”, к которому он непосредственно примыкает, 2) гряда представляет собой самостоятельный вулканический аппарат. Время образования Башильского вала автор относит к четвертичному периоду, к одной из последних межледниковых эпох.
К.Н. Паффенгольц [1956] рассматривал Башильский вал как “древний обвал”, сложенный пирокластическими образованиями Чегемской кальдеры. Ю.П. Масуренков [1957, 1961], напротив, поддерживал предположение о наличии здесь самостоятельного вулканического центра. П.В. Ковалев [1958] считал вал “мощным ледниковым ригелем, сложенным более древними, чем последнее оледенение липаритами”.
Е.Е. Милановский с соавторами в своей статье [1962] детально изложили описание своего видения геологической структуры и состава пород, слагающих Башильский вал. Они склоняются к точке зрения о “древнем возрасте липаритов” вала, аналогичному времени формирования игнимбритов Чегемской кальдеры. Однако, вопрос – является ли Башильский вал “основанием липаритового покрова” или представляет собой “один из корней верхнеплиоценовых извержений” (т.е. самостоятельный аппарат) – эти исследователи оставили открытым. На схематической карте в статье [Милановский и др., 1962] эта гряда показана, как фрагмент игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры. Примерно в тот же период Г.Л. Гриднев и В.А. Горохов (19672) упоминают Башильский вал как некк, трубообразное тело, почти изометричное в плане формы.
В статье [Lipman et al., 1993] Башильский вал описан как постледниковая гряда в русловой части реки, сложенная интенсивно брекчированными и раздробленными вулканическими образованиями. Авторы цитируемой работы сделали вывод о том, что этот объект представляет собой относительно молодой обвал с расположенного в непосредственной близости скального уступа игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры.
Отметим, что на геологических картах масштаба 1:200 000 первого и второго поколения [Государственная ..., 1975, 2002] Башильский вал особым образом обозначен не был; описание этого объекта в объяснительных записках к обеим картам отсутствует.
К проблеме происхождения и возраста пород, слагающих Башильский вал, недавно вернулись исследователи научной группы Н.В. Короновского [Мышенкова, Короновский, 2015; Myshenkova, Koronovsky, 2021]. В своих работах авторы повторно попытались обосновать, что данная гряда является отдельным вулканом – “сложным самостоятельным экструзивным массивом, возникшим между двумя оледенениями позднеплейстоценового возраста”. Согласно описанию в цитируемых статьях, вал разделен руслом р. Башиль-Аузусу на две части – левобережную и правобережную. В левобережной (“большей, с хорошими обнажениями”) части низы разреза слагают рыхлые светло-серые туфы, над которыми наблюдаются развалы “черных смоляновидных флюидолитов”. Однако какие-либо убедительные доказательства существования в этом месте самостоятельного вулканического аппарата, по нашему мнению, авторы в итоге привести не смогли. Время эксплозивной активности, приведшей к образованию Башильского вала, в работе [Myshenkova, Koronovsky, 2021] оценивается как поздний неоплейстоцен, а именно период между двумя фазами Безенгийского оледенения (71–57 и 29–12 тыс. лет назад).
Результаты наших полевых исследований, полученные новые изотопно-геохронологические и петрологические данные позволяют поставить точку в этой затянувшейся почти на целое столетие дискуссии. Изложенные нами выше наблюдения и заключения исследователей вулканизма Чегемского ущелья, сделанные ими в прошедшие годы, в совокупности свидетельствуют о том, что Башильский вал имеет сложное, неоднородное строение и в образовании этой гряды могли принимать участие абсолютно разные, как эндогенные, так и экзогенные процессы. На панорамной фотографии вала (рис. 6в) хорошо видно, что он состоит из двух отдельных холмов, разделенных неглубокой седловиной. Восточный холм, обильно поросший сосновым лесом, имеет высоту около 70 м над руслом реки и сложен черными смолянокаменными витрофирами (обр. ЧГ-3/21), имеющими близкий петрографический облик с описанными нами выше лавами из экструзивного тела в районе перевала Турист. В скальных обнажениях в этой части Башильского вала хорошо заметно, что витрофиры имеют субвертикальную флюидальность и буквально “напичканы” ксенолитами пород, слагающих палеозойский фундамент. Это массивные лавы с порфировидной структурой (вкрапленники – до 27% объема породы, см. рис. 2б), в которых фенокристы представлены гипидиоморфными зернами санидина (до 1.5 мм, 15% от объема породы), кварца (до 1.3 мм, 7%), плагиоклаза (до 1.0 мм, 4%), и биотита (единичные сильно удлиненные чешуйки размером до 0.8 мм, до 1%). Ксеногенные литокласты (обломки гранитоидов, метаморфических пород, редко карбонатов и аргиллитов) и кристаллокласты (мусковит) размером 0.05–2.70 мм слагают до 5% объема породы. Основная масса витрофиров имеет стекловатую структуру и сложена вулканическим стеклом с выделениями рудного минерала.
На рис. 6в заметно, что холм в восточной части Башильского вала, в отличие от его западной части, достаточно далеко отстоит от уступа игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры. Его изолированное положение, отсутствие структурных трансформаций витрофиров, таких как брекчирование и дробление, четко выраженная вертикальная флюидальность лав – все эти признаки указывают на то, что эта возвышенность, скорее всего, представляет собой небольшой экструзивный купол, аналогичный описанному нами выше в районе перевала Турист. Осмотр нижней части уступа игнимбритовой толщи над Башильским валом в районе водопада Абай-Су показал, что здесь в ее разрезе полностью отсутствует горизонт, сложенный смолянокаменными витрофирами. Это наблюдение, в совокупности с отсутствием признаков деформаций данного геологического тела, подтверждает, что восточная часть Башильского вала не может являться продуктом обвала со скалистого уступа игнимбритовой толщи.
Согласно [Соловьев, 1938; Милановский и др., 1962; Государственная ..., 2002; и др.] в этом районе под плиоценовыми эффузивами непосредственно залегают палеозойские гранитоиды и метаморфические сланцы ктитебердинского комплекса, обломки которых в обилии присутствуют в витрофирах. Однако, как отмечено выше в работе [Мышенкова, Короновский, 2016], витрофиры также содержат большое количество обломков ксеногенных карбонатов и аргиллитов, при том, что выходы подобных пород на поверхности в долине р. Башиль-Аузусу отсутствуют. Данный факт представляется весьма важным при обсуждении генезиса восточной части Башильского вала.
По нашему мнению, появление ксенолитов осадочных пород в витрофирах может быть объяснено двумя способами. В отчете (Калганов, Паращенко, 19363) отмечено, что под гнейсами и сланцами ктитебердинского комплекса, ниже в разрезе залегает мигматитовая толща с многочисленными мощными пачками мраморов, выходы на поверхность которой наблюдаются в соседнем ущелье р. Гара-Аузусу. Соответственно, карбонатный материал мог быть ассимилирован поднимающимся с глубины риолитовым расплавом из этой толщи. В качестве альтернативы может быть рассмотрено предположение о том, что магма ассимилировала обломки осадочных пород из аллювиально-деллювиальных отложений, т.к. экструзия располагается непосредственно в придонной части ущелья р. Башиль-Аузусу, а, согласно геоморфологическим данным [Короновский, Мышенкова, 2020 и др.], долины основных рек на территории региона уже существовали в позднем плиоцене, до момента образования Чегемской кальдеры. В пользу данной версии, в частности, свидетельствует наличие в витрофирах небольшого количества ксенолитов юрских аргиллитов.
Результаты K–Ar датирования калишпата из витрофиров (обр. ЧГ-3/21, 3.04±0.07 млн лет, см. табл. 3) показывают, что внедрение экструзии в восточной части Башильского вала, аналогично экструзии у перевала Турист, скорее всего, произошло синхронно с формированием Чегемской кальдеры. Таким образом, эти два субвулканических тела могут рассматриваться как синкальдерные магматические образования, внедрившиеся по периферии кольцевой структуры кальдеры.
На рис. 6 хорошо заметно, что в современном эрозионном врезе долины р. Башиль-Аузусу экструзия витрофиров (достаточно плотных пород, устойчивых к разрушению) формирует своеобразную плотину, появление которой сыграло основную роль в формировании второго холма уже в западной части Башильского вала.
На западе Башильского вала расположена вытянутая в субширотном направлении невысокая (до 30 м над уровнем русла реки) гряда со сглаженной безлесной вершинной частью (см. рис. 6а, 6б), непосредственно примыкающая к скалистому уступу игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры. Она сложена брекчированными, раздробленными, заметно выветрелыми игнимбритами, массивными или с плитчатой отдельностью (обр. ЧГ-2/21). Наши полевые наблюдения показывают, что аналогичные плитчатые игнимбриты слагают нижний горизонт эффузивной толщи Чегемской кальдеры над Башильским валом (обр. ЧГ-4/21). Вулканиты обоих образцов – это массивные, иногда пятнистые породы с порфировидной структурой (вкрапленники 18–22% от объема породы, см. рис. 2а), в которых фенокристы представлены санидином (гипидиоморфные зерна размером до 2.5 мм, 9–13% от объема породы), кварцем (ксеноморфные и гипидиоморфные зерна, до 2.0 мм, 4–6%), плагиоклазом (размер до 1.0 мм, 3–4%) и биотитом (до 0.9 мм, 1%). В больших количествах присутствуют ксеногенные лито- и кристаллокласты (до 10% объема породы; гнейсы, сланцы, мусковит) размером до 0.8 мм. Структура основной массы – стекловатая, игнимбритовая, участками микрофельзитовая. Она сложена в различной степени раскристаллизованным вулканическим стеклом с ксеноморфными выделениями кварца и микрокристаллами рудного минерала. Химический состав образцов ЧГ-2/21 и ЧГ-4/21 (см. табл. 2, рис. 3) близок между собой (высококалиевые известково-щелочные риолиты) и в целом соответствует средним характеристикам игнимбритов Чегемской кальдеры.
Результаты K–Ar датирования санидина из образца игнимбрита западной части Башильского вала (обр. ЧГ-2/21, 3.01±0.07 млн лет, см. табл. 3) показывают, что эти вулканиты также имеют возраст, совпадающий в пределах аналитической погрешности со временем формирования Чегемской кальдеры. Однако в данном случае речь о самостоятельном вулканическом аппарате не идет. Близкие петрографический облик, химический состав и возраст игнимбритов Чегемской кальдеры и западной части Башильского вала, брекчированность, раздробленность вулканитов в пределах этой гряды (см. рис. 6а), ее непосредственное смыкание со скалистым уступом эффузивной толщи кальдеры (см. рис. 6б) позволяют утверждать, что здесь располагаются остатки крупного обвала, произошедшего в позднеплейстоценовое время. В пользу молодого возраста обвала, как отмечали предыдущие исследователи [Соловьев, 1938; Lipman et al., 1993 и др.], свидетельствуют его относительно хорошая сохранность при невысокой степени речной эрозии. С другой стороны, обвал в западной части Башильского вала от размыва во многом спасает экструзия витрофиров в его восточной части, которая служит своеобразным упором и смещает долину реки Башиль-Аузусу к юго-востоку.
Обобщая вышесказанное, отметим, что полученные нами данные показывают, что восточная и западная части Башильского вала имеют абсолютно разное происхождение, при том, что слагающие их породы являются одновозрастными между собой и образовались в позднем плиоцене, синхронно с формированием Чегемской кальдеры. Восточная часть представляет собой самостоятельный вулканический аппарат, экструзивный купол витрофиров, внедрившийся на синкальдерной стадии развития Верхнечегемского вулканического центра. В генезисе западной части Башильского вала участвовали исключительно экзогенные процессы, и она сложена остатками молодого обвала с уступа игнимбритовой толщи кальдеры.
Согласно данным [Мышенкова, Короновский, 2016], напротив Башильского вала на правом борту р. Башиль-Аузусу наблюдается небольшое по протяженности продолжение этой гряды. Наши полевые наблюдения показали, что в указанном районе на берегу реки встречаются крупные (до 5 м) глыбы игнимбритов, залегающие непосредственно на аллювиальных отложениях (рис. 7). Состав пород в разных глыбах в целом близок между собой – это флюидальные риолитовые игнимбриты (см. табл. 2, обр. ЧГ-1/21) с порфировидной структурой, в которых вкрапленники слагают до 20% объема. Последние представлены кварцем (изометричные зерна размером до 2.0 мм, 8% от объема породы), санидином (гипидиоморфные зерна, до 1.8 мм, 7%), плагиоклазом (до 0.8 мм, 3%), опацитизированным биотитом (до 0.7 мм, 2%). Присутствуют лито- и кристаллокласты метаморфических пород и мусковита (размер до 1 мм, до 1% объема породы). Основная масса – стекловатая, состоит из вулканического стекла, раскристаллизованного в разной степени, и рудных минералов. Результаты датирования матрицы и калишпата из образца ЧГ-1/21 (из глыбы игнимбритов, см. рис. 7) показали, что возраст этих пород составляет 2.7–2.9 млн лет (см. табл. 3), и, следовательно, он идентичен времени формирования Чегемской кальдеры. Отметим, что в этом районе на правобережье р. Башиль-Аузусу на лесистых склонах горы Гехи на разных высотах нами в обилии были встречены крупные глыбы игнимбритов аналогичного петрографического облика и состава. В связи с тем, что на вершине данной горы находится крупный мощный останец игнимбритов Чегемской кальдеры, происхождение всех этих глыб, залегающих на аллювиальных или склоновых отложениях, вполне очевидно – это продукты обвалов и осыпей указанного останца, интенсивно разрушающегося вследствие эрозии. К Башильскому валу они, очевидно, не имеют какого-либо отношения.
Рис. 7. Глыбы игнимбритов на правом берегу р. Башиль-Аузусу напротив Башильского вала.
О происхождении витрофиров Чегемской кальдеры
Впервые о наличии в ряде мест в нижней части разреза игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры базального горизонта витрофиров (“черные, смоляновидные липаритовые лавы”) впервые упомянул в своей работе С.П. Соловьев [1938], приведший также петрографическое описание этих вулканитов. С тех пор в течение длительного времени в научной литературе продолжалась дискуссия о происхождении и масштабах присутствия здесь этих пород [Масуренков, 1957; Милановский и др., 1962; Короновский, 1976; Борсук, 1979; Lipman et al., 1993 и др.]; последние статьи по этой проблеме были опубликованы совсем недавно [Короновский, 2019].
Необходимо отметить, что по нашим наблюдениям в пределах Верхнечегемского вулканического центра витрофиры встречаются в двух абсолютно различных ситуациях. Во-первых, они полностью или частично слагают несколько экструзивных тел по периферии кальдеры (рис. 8). Во-вторых, в ряде мест (но не повсеместно) они формируют базальный горизонт игнимбритовой толщи, мощность которого варьирует от нескольких до 30 метров. Ошибкой некоторых исследователей (например, [Милановский и др., 1962; Lipman et al., 1993]) стало рассмотрение ряда описанных ими экструзий витрофиров в качестве отдельных блоков базального горизонта, смещенных в результате тектонических или оползневых процессов, при игнорировании ими наблюдаемых резких интрузивных контактов этих геологических образований как с породами рамы, так и в ряде случаев – со спекшимися игнимбритами кальдеры. Интрузивные взаимоотношения субвулканических тел витрофиров (“микролакколиты и штоки”) с вмещающими их образованиями были подробно описаны в работах Н.В. Короновского [1976, 2019].
Рис. 8. Схема размещения докальдерных и синкальдерных субвулканических тел и интрузий на территории Верхнечегемского вулканического центра.
1 – синкальдерные экструзии витрофиров; 2 – докальдерные интрузии (дайки, штоки) риолитов и трахиандезитов по данным [Греков и др., 1974]; 3 – плиоценовая пирокластическая толща Чегемской кальдеры; 4 – юрские вулканогенно-осадочные образования; 5 – палеозойский кристаллический фундамент.
Рассмотренные выше новые изотопно-геохронологические данные показали, что субвулканические тела витрофиров на водораздельном хребте между реками Сарынсу и Джайлыксу и в пределах Башильского вала образовались на синкальдерной стадии развития Верхнечегемского вулканического центра. Согласно нашим полевым наблюдениям, аналогичное экструзивное тело наблюдается в районе с. Эльтюбю, на левом борту долины р. Джылгысу, где оно внедрилось на контакте игнимбритовой толщи и юрских известняков (рис. 9). В статье [Короновский, Лебедев-Зиновьев, 1973] детально описана дайка витрофиров в верховьях р. Сарынсу, на левом борту долины этой реки, которую авторы рассматривают как один их магмоподводящих каналов для игнимбритовой толщи. Соответственно, возраст этой интрузии также должен быть близок времени формирования кальдеры. Еще две дайки близкого облика эти исследователи обнаружили в районе устья левого притока р. Чегем – Булунгу-Су и на правом борту приустьевой части долины р. Гара-Аузусу [Короновский, Мышенкова, 2020]. В западной части кальдеры, на перевале между долинами рек Кестанты и Сарынсу породы палеозойского кристаллического фундамента прорваны экструзией, сложенной витрофирами и красными игнимбритами. Этот купол, впервые описанный в работе [Масуренков, 1961] под названием “Водораздельный” (также в литературе и на картах встречается название “Кестанты-Тау”), вероятно, замыкает цепочку синкальдерных субвулканических тел, внедрившихся по периферии кальдеры синхронно с ее формированием (см. рис. 8). Отметим, что подобные экструзии витрофиров широко распространены на склонах и внутри соммы позднеплейстоценовой кальдеры Немрут в восточной Турции [Özdemir et al., 2006]. Данный факт может свидетельствовать о том, что процессы выжимания вязких кислых магм вдоль концентрических и радиальных разломов, возникающих в процессе катастрофического эксплозивного извержения, при быстром их последующем остывании и образовании экструзий виторофиров, является достаточно типичным процессом при формировании крупных кальдер.
Рис. 9. Субвулканические тела витрофиров по периферии Чегемской кальдеры.
а – экструзивный купол Кестанты-Тау (Водораздельный), б – экструзивный купол витрофиров в долине р. Джылгысу над с. Эльтюбю.
Относительно базального горизонта игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры, сложенного витрофирами, можно сказать, что в научной литературе встречаются весьма противоречивые сведения о его распространении, мощности и стратиграфических взаимоотношениях с залегающими выше пирокластическими образованиями. С.П. Соловьев [1938] указал, что “черные смоляновидные липаритовые лавы” наблюдаются преимущественно в нижней части эффузивной толщи без детализации, в каких именно местах им были изучены данные породы. Позднее о наличии в низах разреза игнимбритов кальдеры пачки “смоляновидных эффузивов” мощностью до 30 м писал Ю.П. Масуренков [1957], но также без указания локализации их выходов. В статье [Заридзе, Милановский, 1957] отмечено, что в основании “верхнеплиоценовой континентальной толщи обычно залегают черные смоляновидные липаритовые лавы мощностью в несколько десятков метров”. В работе [Милановский, Короновский, 1961] описан базальный горизонт витрофиров мощностью 1–10 м, залегающий на дацитовых туфах в основании останца игнимбритов на горе Гехи к юго-востоку от кальдеры. Эти же данные приведены в статье [Милановский и др., 1962] и отчете (Гриднев, Горохов, 19672), однако при этом указано, что “горизонт черных лав отмечается почти повсеместно в основании вулканической толщи” и имеет мощность от 0.3 до 20–28 м. Данные взгляды нашли отражение на схематических геологических картах Верхнечегемского центра, опубликованных в цитируемых работах, где горизонт витрофиров изображен практически по всему контуру кальдеры за исключением ее юго-западной и западной частей. В статьях Н.В. Короновского [1975, 1976] дано детальное петрографическое описание витрофиров; автором приводится ряд аргументов в пользу того, что эти породы имеют не игнимбритовую, а лавовую природу (“флюидлипариты”). Также указано на их “повсеместное” распространение в основании игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры. Повторно взгляды этого исследователя по вопросу происхождения витрофиров изложены в статье [Богатиков и др., 1992], а в своей недавней работе [Короновский, 2019], кроме версии об образовании данных вулканитов при “истечении флюидизированного расплава на поверхность из целого ряда центров”, как отмечено выше, он попытался одновременно опровергнуть игнимбритовую природу и всей эффузивной толщи Чегемской кальдеры.
В статье [Lipman et al., 1993], где впервые было обосновано существование Чегемской кальдеры, “краевые черные витрофиры” рассматриваются в качестве типичного базального горизонта внутрикальдерной игнимбритовой толщи, указывается на их широкое распространение и в ряде случае – различное стратиграфическое положение (обычно горизонт витрофиров залегает на породах основания, но в ряде мест подстилается мощной толщей неспекшихся туфов).
В отличие от взглядов Е.Е. Милановского и Н.В. Короновского, Е.К. Станкевич в своей монографии [1976] предполагает, что базальный горизонт витрофиров в основании игнимбритовой толщи распространен не повсеместно. Он отмечает, что витрофиры встречены им только на нескольких локальных участках – ниже по течению р. Чегем от с. Эльтюбю, выше по течению этой реки от с. Булунгу, напротив слияния рек Башиль-Аузусу и Гара-Аузусу, и в долине р. Сарынсу.
Проведенные нами полевые исследования включали обследования основания разреза игнимбритовой толщи в ряде мест в ущелье р. Чегем. В итоге, в долине р. Джылгысу, на обеих ее бортах, и на дистанции от водопада Абай-Су до устья р. Сарынсу базальный горизонт виторофиров под игнимбритами нами не обнаружен. Тем не менее, полностью исключить его существование на этих участках мы не можем, так как нижняя часть скального уступа пирокластической толщи здесь почти повсеместно перекрыта склоновыми обломочными отложениями, и ее контакт с породами рамы закрыт. Таким образом, по нашему мнению, вопрос о повсеместном/локальном распространении базального горизонта витрофиров в нижних частях разреза эффузивов Чегемской кальдеры нужно считать открытым, для его решения необходимо проведение детальных геолого-съемочных работ.
Вулканические образования в долине р. Гара-Аузусу
В ущелье р. Гара-Аузусу, в 3 км выше по течению от места ее слияния с р. Башиль-Аузусу, на левом борту долины этой реки, непосредственно в русловой части расположен небольшой овальный холм размерами 550×350 м и высотой около 30 м (рис. 10). Первое упоминание об этой возвышенности содержится в статье И.С. Щукина [1928], который рассматривал ее в качестве конечной морены последнего оледенения. Детальное геологическое описание данного объекта приведено в работе [Милановский и др., 1962]; авторы описывают его как “поперечный вал северо-северо-западного простирания” и считают одним из наиболее молодых (конец верхнего плейстоцена – начало голоцена) вулканических образований в регионе. Образование холма исследователи связывают с эксплозивным извержением, которое произошло после отступления ледника Гара-Аузусу, при этом “точно установленных центров” извержений им обнаружить здесь не удалось. В отчете (Гриднев, Горохов, 19672) высказано предположение о наличие на данном участке долины “эксплозивного некка”, перекрытого делювиальными отложениями.
Рис. 10. Гравитационный оползень в русле р. Гара-Аузусу, описанный в работе [Милановский и др., 1962] как “эксплозивный центр”.
В этом же районе на противоположном берегу долины р. Гара-Аузусу, “в низовьях двух тесно сближенных безымянных истоков этой реки” Е.Е. Милановский с соавторами [1962] описывают выходы “толщи дацитовых туфов, мощностью до 80–100 м, заполняющей троговую долину ранне-верхнеплейстоценового возраста”. По данным этих исследователей, туфы прорываются “эксплозивно-брекчиевыми дайками сходного состава” и перекрываются грубообломочными флювиогляциальными отложениями мощностью до 100 м. Формирование “туфовой толщи” авторы связывают с эксплозивной активностью в условиях заполнения трогов долин водами подпрудных озер.
Впоследствии попытка обосновать наличие позднеплейстоценовой эксплозивной активности в долине р. Гара-Аузусу была предпринята в работах научной группы Н.В. Короновского [Короновский и др., 1988; и др.]. Отметим, что на геологических картах первого и второго поколения масштаба 1:200 000 [Государственная…, 1975, 2002] “обнаруженные” в работе Е.Е. Милановского с соавторами [1962] “эксплозивный центр” и “туфовая толща” отмечены не были, всеми другими исследователями молодого вулканизма в бассейне р. Чегем они не упоминались.
В последние годы вопрос о наличии позднечетвертичных вулканических образований в долине р. Гара-Аузусу был заново поднят в работах научной группы Н.В. Короновского [Мышенкова, Короновский, 2015; Myshenkova, Koronovsky, 2021]. Авторами еще раз, повторно, приведены точка зрения и ее обоснование (на основании исключительно геоморфологических данных) о присутствии в указанном районе “эксплозивного центра” и “туфовой толщи”, которые ранее уже были детально изложены в статьях [Милановский и др., 1962; Короновский и др., 1988].
Нами проведены полевые исследования, целью которых было подтвердить возможное присутствие в долине р. Гара-Аузусу позднечетвертичных вулканических образований, описанных Е.Е. Милановским с соавторами [1962]. Однако полученные данные полностью опровергают представления этих исследователей.
Изучение строения холма (“эксплозивного центра”) на левом борту долины р. Гара-Аузусу показало, что он сложен несцементированными угловатыми глыбами различного размера (до нескольких метров) и состава, среди которых преобладают игнимбриты и породы палеозойского кристаллического фундамента. Также широко представлены глинистые отложения и дресва. Игнимбриты в обломках (обр. ЧГ-6/21, см. табл. 1) имеют между собой близкий петрографический облик, представлены массивными порфировидными (вкрапленники до 18% от объема породы) разностями (см. рис. 2д). Фенокристы – санидин (гипидиоморфные зерна размером до 1.5 мм, 10% от объема породы), плагиоклаз (до 1.4 мм, 7%), биотит (до 0.8 мм, 1%). Присутствуют ксеногенные литокласты, сложенные палеозойскими гранитоидами (до 1% породы). Основная масса – стекловатая, участками микрофельзитовая, сложена вулканическим стеклом и выделениями рудного минерала.
По результатам K–Ar датирования основной массы и вкрапленников санидина из образца ЧГ-6/21 (см. табл. 3) получены совпадающие значения возраста (2.78–2.77 млн лет), соответствующие времени формирования Чегемской кальдеры. Отметим, что по петрографическому облику, химическому составу и возрасту игнимбриты, обломки которых широко распространены среди образований, слагающих рассматриваемый холм в долине р. Гара-Аузусу, полностью идентичны игнимбритам из останца Гехи, которые бронируют вершинную часть одноименной горы, возвышающейся в этом месте над долиной (см. рис. 10). Наши полевые наблюдения, а также полученные петрологические и геохронологические данные свидетельствуют о том, что изученная возвышенность представляет собой остатки гравитационного обвала с вершины горы Гехи, очевидно, произошедшего в недалеком прошлом, т.к. река не успела до настоящего времени полностью размыть это образование. На рис. 10 хорошо заметно место на склоне, из которого произошел обвал, где сейчас располагается обширный оползневой цирк.
Детальные полевые исследования трех долин правых притоков р. Гара-Аузусу, в трогах которых Е.Е. Милановским с соавторами [1962] была описана мощная “туфовая толща”, не подтвердили наличия пирокластических отложений в этом районе. Наши наблюдения показали, что здесь на метаморфические образования ктитебердинского комплекса палеозоя (гнейсы, сланцы, амфиболиты) непосредственно налегают флювиогляциальные и склоновые отложения, количество обломков вулканитов в которых не превышает 5–10%. Последние представлены игнимбритами различной окраски с флюидальной или массивной текстурой, порфировидной (вкрапленники – 22% от объема породы) структурой (обр. ЧГ-7а/21 и ЧГ-7б/21, см. табл. 1). Эти породы содержат фенокристы санидина (гипидиоморфные зерна размером до 3 мм, 7–12% от объема породы), кварца (ксеноморфные зерна, до 1 мм, 3–6%), плагиоклаза (гипидиоморфные зерна, до 2.1 мм, 3–5%) и биотита (до 1.2 мм, 4%), которые погружены в стекловатую основную массу с фьямме. Лито- и кристаллокласты встречаются в небольших количествах (до 2 мм, до 1% объема породы) и представлены кристаллическими сланцами, а также чешуйками мусковита. Результаты K–Ar датирования данных игнимбритов по мономинеральным фракциям биотита показывают (см. табл. 3), что они образовались 2.7–2.8 млн лет назад, т.е. синхронно со временем формирования Чегемской кальдеры, с эффузивами которой имеют идентичный химический состав (см. рис. 3). На геологической карте бассейна р. Чегем (рис. 1) видно, что в рассматриваемом районе над правым бортом долины р. Гара-Аузусу, на склонах горы Кору расположено несколько крупных останцов игнимбритовой толщи Чегемской кальдеры. Очевидно, что обломки игнимбритов, наблюдаемых в разрезе осадочных отложений в трогах долин правых притоков реки, являются продуктами разрушения этих останцов, перенесенными по речным долинам.
Таким образом, проведенные нами исследования опровергают наличие в долине р. Гара-Аузусу позднеплейстоценовых вулканических образований (“эксплозивного центра” и “туфовой толщи”), ранее описанных в работе [Милановский и др., 1962]. Возникновение данных геологических объектов является результатом проявления исключительно экзогенных процессов (обвалы, оползни, разрушение и речной перенос обломков горных пород). Необходимо отметить, что для научной группы, возглавляемой изначально Е.Е. Милановским, а впоследствии Н.В. Короновским подобное, часто не имеющее под собой веских оснований выделение самостоятельных эксплозивных центров на территории как Эльбрусской, так и Казбекской неовулканических областей, к сожалению, было достаточно обычным явлением. Нередко, после публикации статей о существовании очередного такого центра, авторы в последующих работах сами себя опровергали (например, [Милановский и др., 1968; Короновский, Демина, 2003]).
Гипабиссальные интрузии в долине рек Кекташ и Кестанты
Первые сведения о присутствии на территории Верхнечегемского вулканического центра молодых гипабиссальных интрузий приведены в работах В.П. Ренгартена (Ренгартен, 19144) и С.П. Соловьева (Соловьев, 19331), [Соловьев, 1938]. Авторы указали на наличие даек ортопироксеновых андезитов северо-западного простирания мощностью до 2 м в верховьях р. Кестанты и ее притока Зырдагыт, а также липаритов – в долине р. Джунгусу (дайки и некки в районе горы Ийре), и предположили для них кайнозойский возраст. Впоследствии в описании Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 первого поколения [Кизевальтер, 1941–1947] дано описание этих же интрузивных тел, но их возраст указан как раннеюрский, одновременно отрицается какая-либо связь даек с молодым игнимбритовым вулканизмом в бассейне р. Чегем. При этом на самой карте, изданной существенно позднее, эти образования были показаны как “диорит-порфириты мезозоя” [Государственная ..., 1959]. В.П. Еремеев [1948] считал гипабиссальные интрузии в долинах рек Кестанты и Кекташ центрами извержения туфов Нижнечегемского нагорья. Краткое упоминание о дайках андезидацитов к югу от перевала Актопрак встречается в монографии Ю.П. Масуренкова [1957], в то время как в статье [Милановский и др., 1962] и отчете (Гриднев, Горохов, 19672) дано краткое описание даек липаритов в долине р. Джунгусу (к югу от горы Коджихо). Возраст интрузий в цитируемых работах однозначно рассматривается как молодой, позднекайнозойский.
В отчете (Греков и др., 19745) описано нескольких молодых даек риолитов и андезитов в бассейнах рек Кекташ и Кестанты; они нанесены и на прилагаемую к отчету карту, охватывающую территорию к югу от Скалистого хребта – от перевала Актопрак на западе до долины р. Чегем на востоке (указана принадлежность интрузий к эльбрус-казбекскому комплексу, приводится их разделение по химическому составу). На Государственных геологических картах масштаба 1:200 000 второго поколения [Государственная ..., 2001, 2002] показано положение нескольких наиболее крупных даек риолитов в этой части Верхнечегемского вулканического центра; их возраст отмечен как плиоценовый. В более поздних научных публикациях новые данные о дайковом магматизме в бассейне р. Чегем практически отсутствуют.
Приведенный выше анализ опубликованных ранее сведений о гипабиссальном интрузивном магматизме в бассейне верховий р. Чегем показывает, что молодые дайки на территории района были обнаружены и описаны исключительно в его северной части (см. рис. 8) – в ущелье р. Кестанты и соседних долинах рек Кекташ и Джунгусу (левые притоки р. Чегем). Какие-либо данные о наличии аналогичных интрузий к югу и востоку от Чегемской кальдеры в литературе не встречены. Однако ранее нами была изучена дайка риолитов в урочище Кель-Баш в расположенном к востоку Безенгийском ущелье (см. рис. 8). Результаты петролого-геохимического и изотопно-геохронологического изучения пород этого интрузивного тела показали, что по возрасту (3.1 млн лет, см. табл. 3) и составу оно относится именно к магматизму Верхнечегемского центра [Кайгородова и др., 2021]. В связи с этим, вопрос о наличии других подобных даек в междуречье Чегем – Черек Безенгийский следует считать открытым; данная местность представляет собой труднодоступное высокогорье при отсутствии населенных пунктов и дорог, поэтому потенциально присутствующие здесь молодые интрузии, возможно, просто еще не удалось обнаружить.
Нами изучены две зональные дайки риолитов (обр. ЧГ-9/21, ЧГ-9а/21, ЧГ-10/21) в районе развалин аула Бопу и шток трахиандезитов (обр. ЧГ-11/21) в долине р. Кекташ к юго-востоку от перевала Актопрак (рис. 11). Риолиты центральных частей даек представляют собой массивные порфировидные породы, в которых непостоянен состав фенокристов, а их суммарное количество варьирует в широком диапазоне (от 10 до 40%). Последние представлены санидином (от первых процентов до 14% от объема породы, гипидиоморфные зерна и их обломки размером до 4 мм), кварцем (1–18%, изометричные, частично катаклазированные зерна, до 2.5 мм), плагиоклазом (4–5%, призматические зерна и их обломки, до 2.2 мм) и биотитом (6–7%, до 2.5 мм). Основная масса имеет стекловатую или микрофельзитовую структуру; сложена кислым стеклом, микролитами кварца и полевых шпатов (см. рис. 2з). В некоторых образцах присутствуют лито- и кристаллокласты (до 10% объема породы, размер до 5 мм) ксеногенного материала из вмещающих метаморфических образований.
Рис. 11. Выходы молодых интрузивных тел в долине р. Кекташ. а – дайка риолитов, б – шток трахиандезитов.
В краевых частях даек породы представлены массивными порфировидными гиалориолитами (см. рис. 2и); фенокристы (до 12% от объема породы) – плагиоклаз (до 5%, размер идиоморфных призматических кристаллов до 2.5 мм), биотит (5%, до 2.2 мм) и ортопироксен (2%, изометричные зерна размером до 0.8 мм). Основная масса сложена вулканическим стеклом.
Трахиандезиты штока на правом борту долины р. Кекташ (обр. ЧГ-11/21) представлены массивными порфировидными породами. Фенокристы (до 22% от объема породы) – плагиоклаз (12%, идиоморфные призматические кристаллы размером до 8 мм) и ортопироксен (10 %, идиоморфные зерна до 1 мм). Встречаются ксенокристы (до 1%) биотита и клинопироксена. Основная масса – микролитовая, сложена вулканическим стеклом, лейстами плагиоклаза и выделениями рудного минерала (см. рис. 2к).
По своему химическому составу (см. табл. 2) породы изученных гипабиссальных интрузий являются высокоглиноземистыми, высококалиевыми известково-щелочными риолитами или метаглиноземистыми высококалиевыми трахиандезитами. Отметим, что на классификационных геохимических диаграммах (см. рис. 3) их точки во всех случаях лежат в поле молодых магматических образований Верхнечегемского центра.
Результаты K–Ar датирования мономинеральных фракций биотита из риолитов двух даек, а также основной массы трахиандезита из штока (см. табл. 3) показывают, что эти интрузивные тела внедрились в период 3.15–3.10 млн лет назад, т.е за несколько сотен тысяч лет до образования Чегемской кальдеры. Аналогичный возраст ранее был получен нами для дайки риолитов в урочище Кель-Баш в Безенгийском ущелье [Кайгородова и др., 2021]. Полученные изотопно-геохронологические данные свидетельствуют о том, что изученные дайки и штоки на территории Верхнечегемского центра, скорее всего, маркируют остатки небольших вулканических аппаратов, активных на докальдерной стадии его развития. Очевидно, что состав продуктов извержений при этом заметно варьировал, и в пределах небольших по площади территорий практически одновременно изливались как лавы кислого, так и среднего состава.
Как отмечено выше, остается открытым вопрос о границе ареала распространения гипабиссальных интрузивных тел на территории Верхнечегемского центра (см. рис. 8). На севере она, скорее всего, проходит вдоль уступа Скалистого хребта, на западе – ограничена левым бортом долины р. Кестанты на участке от ее истоков до перевала Актопрак. В восточной части центра, в районе сел Эльтюбю и Булунгу, молодые магматические образования, согласно опубликованным данным, фактически отсутствуют на правом борту ущелья р. Чегем и в долине ее правого притока Кардан. При этом полученные нами ранее данные [Кайгородова и др., 2021] однозначно указывают, что на юго-востоке граница ареала достигает истоков р. Черек Безенгийский. Какие-либо свидетельства проявления магматизма Верхнечегемского центра к югу от Главного Кавказского хребта, на территории Грузии в настоящее время в научной литературе не приводятся.
Останец трахиандезитов в районе перевала Актопрак
В 2.5 км к западу от перевала Актопрак на правом борту ущелья р. Кестанты на высоте 350 м над современным днищем долины сохранился небольшой (600×300 м), заметно эродированный останец трахиандезитовых лав, формирующий наклонную террасу (см. рис. 1, рис. 12). Очевидно, что ранее этот останец занимал большую площадь, т.к. к северу-западу от него на расстоянии 400 м на той же высоте сохранились отдельные фрагменты данного покрова трахиандезитов (см. рис. 12в).
Рис. 12. Останец четвертичных трахиандезитов в районе перевала Актопрак.
а – выходы лав останца, б – вид на останец от перевала Актопрак, в – контур останца на космическом снимке Google Earth.
Впервые молодые лавы в районе перевала Актопрак были описаны в статье [Заридзе, Милановский, 1957]. Авторы предположили, что данный останец представляет собой остатки конечной части лавового потока вулкана Кюйген-Кая, активного, по их мнению, в конце раннего или начале среднего плейстоцена. Немного позднее в работе [Милановский и др., 1962] время образования трахиандезитов было указано уже как верхний плиоцен – начало нижнего плейстоцена (до 1990 г в СССР граница плиоцен–плейстоцен была принята на уровне 0.8 млн лет). Останец был отмечен на Государственной геологической карте первого поколения масштаба 1:200 000 [Государственная ..., 1959], его возраст на ней указан как раннечетвертичный. Впоследствии изучение этого геологического объекта практически не проводилось – в научной литературе отсутствуют петрографическое описание и данные о составе его пород, а на Государственной геологической карте второго поколения масштаба 1:200 000 [Государственная ..., 2001] данный останец уже не показан.
Во время полевых работ 2021 г. нами проведено картирование останца молодых лав в районе перевала Актопрак, установлены его геологические границы, отобраны основные петрографические разности пород (обр. ЧГ-8/21, см. рис. 12в). Отмечено, что в его верхней части распространены пористые вулканиты, в то время как ниже по склону преобладают более массивные разности. Трахиандезиты имеют слабопорфировую или афировую структуру (количество фенокристов – 3–7% от объема породы). Редкие вкрапленники представлены плагиоклазом (идиоморфные и оплавленные зерна размером до 2.5 мм, до 2–5% от объема породы) и ортопироксеном (идиоморфные зерна, до 1.0 мм, 1–4%). Основная масса – гиалопилитовая или стекловатая, сложена вулканическим стеклом, микролитами плагиоклаза (до 0.4 мм) и выделениями рудного минерала (см. рис. 2е, 2ж). По своему химическому составу все изученные вулканиты останца соответствуют метаглиноземистым, высококалиевым трахиандезитам (см. рис. 3).
Результаты K–Ar датирования двух образцов трахиандезитов (см. табл. 3) показывают, что эти лавы были извержены около 1 млн лет назад (интервал 0.96–1.07 млн лет). Таким образом, они не имеют какого-либо отношения к активности плиоценового вулкана Кюйген-Кая в пределах Чегемской кальдеры, как это ранее предполагалось в работах [Заридзе, Мидановский, 1957; Милановский и др., 1962]. Очевидно, что мы имеем дело с локальным трещинным излиянием средних по составу лав, произошедшим в раннем плейстоцене. Ранее нами был датирован [Лебедев и др., 2006] аналогичный по возрасту лавовый поток андезибазальтов в долине р. Тызыл (25 км к СЗ от перевала Актопрак), еще одно трещинное излияние основных лав, вероятно также произошедшее в раннем плейстоцене, предположительно имело место в устье р. Урды (правый приток р. Тызыл), практически в том же районе [Кизевальтер, 1941–1947]. Отметим, что проявления среднего-основного по составу вулканизма (Сылтран–Ташлысырт– Тызыл–Урды–Актопрак) с возрастом около 1 млн лет, формируют достаточно компактный ареал в центральной части Эльбрусской неовулканической области (рис. 13). При этом, как отмечено в нашей статье [Лебедев и др., 2006] в пределах этого ареала наблюдается четкая латеральная зональность в изменении состава эффузивов с юга на север – дациты (Сылтран), андезиты-дациты и трахиандезиты (Ташлысырт и Актопрак), андезибазальты (Тызыл, Урды). Отметим, что на классификационных петрологических диаграммах все молодые вулканические породы Эльбрусской области с возрастом около 1 млн лет формируют единые тренды (см. рис. 3). В целом, они имеют переходные характеристики между вулканитами известково-щелочной и умеренно-щелочной петрохимических серий и принадлежат к высококалиевым метаглиноземистым образованиям.
Рис. 13. Схема локализации ареалов плиоцен-четвертичного магматизма на территории Эльбрусской неовулканической области.
Цифрами в красном поле обозначены проявления магматизма с возрастом 1.0–0.9 млн лет (1 – Сылтран, дациты, 2 – Ташлысырт, андезиты-дациты, 3 – Тызыл, андезибазальты, 4 – Урды, андезибазальты, 5 – Актопрак, трахиандезиты). 1 – четвертичные осадочные образования, 2 – мезо-кайнозойские вулканогенно-осадочные образования, 3 – палеозойский кристаллический фундамент, 4 – Главный Кавказский разлом, 5 – ареалы молодого магматизма и их возраст, млн лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных изотопно-геохронологических исследований определен возраст ряда ключевых геологических объектов Верхнечегемского неовулканического центра и уточнена региональная шкала поздекайнозойского магматизма, масштабно проявившегося на территории данного региона. Решены некоторые принципиальные вопросы, касающиеся общей продолжительности молодой вулканической активности в бассейне верховьев р. Чегем и пространственно-временных закономерностей ее эволюции. Получены новые данные о геологическом строении плиоценовой Чегемской кальдеры, уточнено отнесение проявлений развивавшегося здесь магматизма к докальдерной, синкальдерной и посткальдерным стадиям.
К наиболее ранним магматическим образованиям (около 3.7 млн лет, [Лебедев и др., 2006]) Верхнечегемского центра относятся вулканы Сурх и Крандух в крайней северной части района, ставшие прекурсорами начавшегося в этом регионе через полмиллиона лет масштабного кислого вулканизма. На докальдерной стадии (около 3.1 млн лет) магматическая активность в рассматриваемом районе, скорее всего, носила ареальный характер. В этот период на обширной территории, ограниченной с юга Главным Кавказским хребтом, с запада – долиной р. Кестанты, с севера – долиной р. Кекташ, а на востоке – ущельем р. Черек Безенгийский происходили извержения большого количества малых вулканических аппаратов, к настоящему времени полностью разрушенных и маркируемых дайками и штоками риолитов, реже трахиандезитов.
В конце плиоцена, в период 2.9–2.8 млн лет назад [Gazis et al., 1995] в результате катастрофических эксплозивных извержений возникла Чегемская кальдера, заполненная мощной толщей игнимбритов риолитового состава. Согласно полученным нами новым данным, синхронно с образованием кальдеры, по ее западной, южной и восточной периферии внедрилась серия кислых экструзий и даек, сложенных витрофирами. На постакальдерной стадии развития Верхнечегемского центра (около 2.8 млн лет назад) в западной части кальдеры проявляли активности стратовулканы Кум-Тюбе и Кюйген-Кая, извергавшие лавы дацитового и впоследствии андезитового состава.
Вопреки предположениям некоторых исследователей [Милановский и др., 1962; Короновский и др., 1975 и др.] установлено, что в четвертичное время практически на всей территории Верхнечегемского центра вулканическая активность отсутствовала. Исключением являются только окрестности перевала Актопрак в крайней северо-западной части района, где в раннем плейстоцене зафиксированы отголоски магматизма с возрастом около 1 млн лет, в ограниченных масштабах проявившегося к западу, на водоразделе бассейнов рек Малка и Баксан (см. рис. 13). Наши новые данные позволили уточнить границы ареала этого, раннеплейстоценового импульса эндогенной активности на территории Эльбрусской неовулканической области.
Необходимо отметить, что, согласно полученным данным, проявления магматизма, причисленные в работах [Милановский и др., 1962; Короновский и др., 1975 и др.] к четвертичному и даже позднеплейстоценовому времени, по факту оказались или плиоценовыми и представлены синкальдерными вулканическими аппаратами или молодыми объектами, связанными с развитием в регионе экзогенных процессов (обвалы, размыв и переотложение пирокластических отложений). В связи с тем, что практически все, ранее относимые предыдущими исследователями к позднему плейстоцену непосредственно магматические образования Верхнечегемского центра были датированы нами в рамках настоящей работы и для них установлен плиоценовый возраст, правомерно сделать вывод об отсутствии вулканических извержений на территории этого района в позднечетвертичное время.
Таким образом, на протяжении последнего миллиона лет бассейн верховьев р. Чегем оставался амагматичным, а на большей части этого района вулканическая деятельность отсутствовала с конца плиоцена, на протяжении последних 2.8 млн лет. Соответственно, в отличие от расположенного к востоку Эльбрусского центра, территория Верхнечегемского центра может быть отнесена к районам Большого Кавказа с невысокой вероятностью возобновления вулканических извержений в обозримом будущем.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках базовой темы госзадания ИГЕМ РАН.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
1 Соловьев С.П. Полевой отчет начальника Баксано-Чегемской геологической партии С.П. Соловьева о работах в 1932 году. Л.: Госгеолфонд, 1933. 21 с.
2 Гриднев Г.Л., Горохов В.А. Отчет о результатах работ по изучению перспектив редкоземельности (бериллиевоносности) кислых вулканических образований кайнозоя Верхне-Чегемского и Нижне-Чегемского вулканических районов за 1965–1966 гг. Ч. 1. Т. 1. Ессентуки: Северо-Кавказское геол. управление, 1967. 191 с.
3 Калганов М.И., Паращенко П.С. Отчет о работе Чегемской геологоразведочной партии за 1935 год. М., 1936. 190 с.
4 Ренгартен В.П. Отчет о полевых работах по Чегему – Баксану в 1913 г. // Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета в 1913 г. // Известия Геол. комитета. 1914. Т. 33. № 2. С. 52–55.
5 Греков И.И., Семкин В.А., Прозоровский В.А., Забирченко Н.П., Гагиев Р.Н. Геолого-структурное изучение Пшекиш-Тырныаузской шовной зоны с целью определения ее рудоносности. Ессентуки: Северо-Кавказское территориальное геологическое управление, 1974. 222 с.
Об авторах
В. А. Лебедев
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: leb@igem.ru
Россия, Старомонетный пер., 35, Москва, 119017
Е. Н. Кайгородова
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
Email: leb@igem.ru
Россия, Старомонетный пер., 35, Москва, 119017
Список литературы
- Аракелянц М.М., Борсук А..М., Шанин Л.Л. Новейшая гранитоидная вулкано-плутоническая формация Большого Кавказа по данным калий-аргонового датирования // Докл. АН СССР. 1968. Т. 182. № 5. С. 1157–1160.
- Богатиков О.А., Гурбанов А.Г., Коваленко В.И., Короновский Н.В., Липман П., Цветков А.А. Верхнечегемский кальдерный комплекс на Северном Кавказе // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1992. № 1. С. 5–21.
- Борсук А.М. Мезозойские и кайнозойские магматические формации Большого Кавказа. М.: Наука, 1979. 300 с.
- Буш Н.О. О состоянии ледников Северного Кавказа в 1907, 1909, 1911 и 1913 гг. // Изв. Русского географ. общества. 1914. Т. 4. Вып. 9. С. 461–510.
- Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Кавказская. Лист K-38-II (Нальчик). Л.: ВСЕГЕИ, 1959.
- Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Кавказская. Лист K-38-VIII (Советское). Л.: ВСЕГЕИ, 1975.
- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. 2-е изд. Серия Кавказская. Лист K-38-II (Нальчик). Ессентуки: ФГУГП “Кавказгеолсъемка”, 2001.
- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. 2-е изд. Серия Кавказская. Лист K-38-VIII, XIV (Советское). СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2002.
- Заридзе Г.М., Милановский Е.Е. О строении вулканических толщ Верхнее-Чегемского нагорья и их взаимоотношениях с “гранитами Главного хребта” (Центральный Кавказ) // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1957. № 6. С. 102–106.
- Кайгородова Е.Н., Лебедев В.А., Чернышев И.В., Якушев А.И. Проявления неоген-четвертичного магматизма в Восточной Балкарии (Северный Кавказ, Россия): изотопно-геохронологические данные // Доклады Академии наук. Науки о Земле. 2021. Т. 496. № 1. С. 36–44.
- Кайгородова Е.Н., Лебедев В.А. Возраст, петролого-геохимические характеристики и происхождение магматических пород среднеюрского хуламского вулкано-плутонического комплекса (Северный Кавказ) // Вулканология и сейсмология. 2022. № 2. С. 1–28.
- Ковалев П.В. Ледник Башиль // Изв. ВГО. 1958. Т. 90. Вып. I. С. 59–62.
- Кизевальтер Д.С. Геологическая карта Кавказа масштаба 1:200 000. Описание листа К-38-II (Нальчик). Ессентуки; М.: Северо-Кавказское геологическое управление, 1941–1947. 338 с.
- Короновский Н.В., Лебедев-Зиновьев А.А. Строение дайки в долине р. Сарын-су (Верхнечегемское вулканическое нагорье, Северный Кавказ) // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1973. № 1. С. 56–64.
- Короновский Н.В. Флюидолипариты Верхнечегемского вулканического нагорья (Северный Кавказ) // Докл. АН СССР. 1975. Т. 220. № 2. С. 447–450.
- Короновский Н.В. Строение Верхнечегемского вулканического нагорья (Северный Кавказ) и проблема подвижности кислых лав // Вестник МГУ. Сер. геол. 1976. С. 3–19.
- Короновский Н.В., Демина Л.И. Исчезнувшие вулканы Главного Кавказского хребта // Природа. 2003. № 10. С. 37–43.
- Короновский Н.В., Молявко В.Г., Остафийчук И.М., Гасанов Ю.Л. Эволюция верхнеплиоценового вулканизма Верхнечегемского нагорья (Северный Кавказ) // Тектоника и формации Большого Кавказа. М.: Наука, 1988. С. 114–133.
- Короновский Н.В. Этапы новейшего вулканизма и проблемы их корреляции с формированием рельефа Центрального Кавказа // Геотектоника. 2016. № 5. С. 47–66.
- Короновский Н.В. Строение базального горизонта риолитовой толщи и его происхождение (Северный Кавказ, Верхний Чегем) // Геология и геофизика Юга России. 2019. Т. 9. № 1. С. 6–16.
- Короновский Н.В., Мышенкова М.С. Формирование и генезис риолитовой толщи Верхнечегемского нагорья (Северный Кавказ) // Вестник Московского университета. Сер. 4 (Геология). 2020. № 4. С. 3–12.
- Лебедев В.А., Бубнов С.Н., Чернышев И.В., Гольцман Ю.В. Основной магматизм в геологической истории Эльбрусской неовулканической области (Большой Кавказ): K–Ar и Sr-Nd изотопные данные // Докл. РАН. 2006. Т. 406. № 1. С. 78–82.
- Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Вулканы и лавы Центрального Кавказа // Изв. СПб. политехнического института. 1913. Вып. 20. 213 с.
- Леонов Ю.Г., Демина Л.И., Копп М.Л., Короновский Н.В., Леонов М.Г., Ломизе М.Г., Панов Д.И., Сомин М.Л., Тучкова М.И. Большой Кавказ в Альпийскую эпоху. М.: ГЕОС, 2007. 368 с.
- Лятифова Е.Н. Петрология плиоценового вулканизма Чегемского кальдерного комплекса (Северный Кавказ) / Дис. … канд. геол.-мин. наук. М.: ИГЕМ РАН, 1993. 95 с.
- Масуренков Ю.П. Особенности эволюции кайнозойского вулканизма Эльбрусской области // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1957. № 5. С. 9–24.
- Масуренков Ю.П. Кайнозойский вулканизм Эльбрусской вулканической области // Тр. ИГЕМ АН СССР. 1961. Вып. 51. 130 с.
- Милановский Е.Е., Каминский Ф.В., Седенко С.М. Верхнечегемское вулканическое нагорье // Тр. Кавказской экспедиции МГУ. 1962. Т. 3. С. 362–398.
- Милановский Е.Е., Смирнова М.Н., Яковлева Т.В. К вопросу о вулканизме краевых прогибов (Грозненский вулканический район) // Вестник МГУ. Сер. геология. 1968. № 4. С. 16–23.
- Мышенкова М.С., Короновский Н.В. Башильский вал – позднеплейстоценовая экструзия в кальдере Верхнего Чегема (Северный Кавказ) // Вестник Московского университета. Сер. 4 (Геология). 2015. № 6. С. 28–35.
- Орловский В.Г. Чегемское ущелье. Вулканы и лавы Центрального Кавказа // Изв. СПб. политехнического института. 1913. Вып. 20. C. 70–80.
- Паффенгольц К.Н. Новые данные о возрасте эффузивов Центрального Кавказа (Эльбрус, Чегем – Нальчик, Казбек), лакколитов Пятигорья и “гранитов Главного хребта” // Материалы ВСЕГЕИ. Новая серия. 1956. Вып. 14. С. 5–24.
- Соловьев С.П. Чегемская вулканическая область и район бассейнов Кестанты и Сакашиль (Северный Кавказ) // Тр. ЦНИГРИ. 1938. Вып. 103. 24 с.
- Станкевич Е.К. Новейший магматизм Большого Кавказа. Л.: Наука, 1976. 225 с.
- Чернышев И.В., Лебедев В.А., Аракелянц М.М. K-Ar датирование четвертичных вулканитов: методология и интерпретация результатов // Петрология. 2006. Т. 14. № 1. С. 69‒89.
- Щукин И.С. Исследования в Центральном Кавказе летом 1927 г. // Землеведение. 1928. Т. 30. Вып. 3. С. 3–38.
- Ammon L. Das gipfelgestein des Elbrus nebst bemerkungen uber andere kaukasische vorkommnisse // Zeitschr. D. Deutsch. Geol. Gesellsch. 1897. P. 450–481.
- Le Bas M.J., Le Maitre R.W., Streckeisen A., Zanettin B. A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram // J. Petrol. 1986. V. 27. P. 745–750.
- Bindeman I.N., Colón D.P., Wotzlaw J.-F., Stern R., Chiaradia M., Guillong M. Young Silicic Magmatism of the Greater Caucasus, Russia, with implication for its delamination origin based on zircon petrochronology and thermomechanical modeling // J. Volcanol. Geotherm. Res. 2021. P. 107–173. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2021.107173
- Bogatikov O.A., Gurbanov A.G., Kovalenko V.I., Koronovskiy N.V., Lipman P., Tsvetkov A.A. The Upper Chegem caldera complex in the North Caucasus // Int. Geol. Rev. 1992. V. 34. № 2. P. 131–147.
- Gazis C.A., Lanphere M., Taylor H.P., Gurbanov A.G. 40Ar/39Ar and 18O/16O studies of the Chegem ash-flow caldera and the Eldjurta granite: cooling of two late Pliocene igneous bodies in the Greater Caucasus Mountains, Russia // Earth. Planet. Sci. Lett. 1995. V. 134. P. 377–391.
- Irvine T.M., Baragar W.R. A guide to the chemical classification of common volcanic rocks // Canad. J. Earth. Sci. 1971. V. 8. P. 523–548.
- Lipman P.W., Bogatikov O.A., Tsvetkov A.A., Gazis C., Gurbanov A.G., Hon K., Koronovsky N.V., Kovalenko V.I., Marchev P. 2.8 Ma ash flow caldera at Chegem River in the northern Caucasus Mountains (Russia): contemporaneous granites, and associated ore deposits // J. Volcanol. Geotherm. Res. 1993. V. 57. P. 85–124.
- Milanovsky E.E. Origin and development of ideas on Pliocene and Quaternary glaciations in northern and eastern Europe, Iceland, Caucasus and Siberia // History of Geomorphology and Quaternary Geology. London: Geol. Soc. Lond. Spec. Publ., 2008. V. 301. P. 87–115.
- Myshenkova M.S., Koronovsky N.V. Upper Pliocene Acid Volcanic Rocks in the Upper Chegem and Lower Chegem Volcanic Highlands, North Caucasus // Journal of Volcanology and Seismology. 2021. V. 15. № 6. P. 463–482.
- Özdemir Y., Karaoğlu Ö., Tolluoğlu A.Ü., Güleç N. Volcanostratigraphy and petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolian High Plateau): The most recent post-collisional volcanism in Turkey // Chem. Geol. 2006. V. 226. P. 189–211.
- Peccerillo A., Taylor S.R. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey // Contrib. Mineral. Petrol. 1976. V. 58. P. 63–81.
- Shand S.J. Eruptive Rocks. Their Genesis, Composition, Classification, and Their Relation to Ore-Deposits with a Chapter on Meteorite. N. Y.: John Wiley and Sons, 1943. 444 p.
- Steiger R.H., Jager E. Subcomission on geochronology: convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology // Earth Planet. Sci. Lett. 1977. № 36. P. 359‒362.
Дополнительные файлы