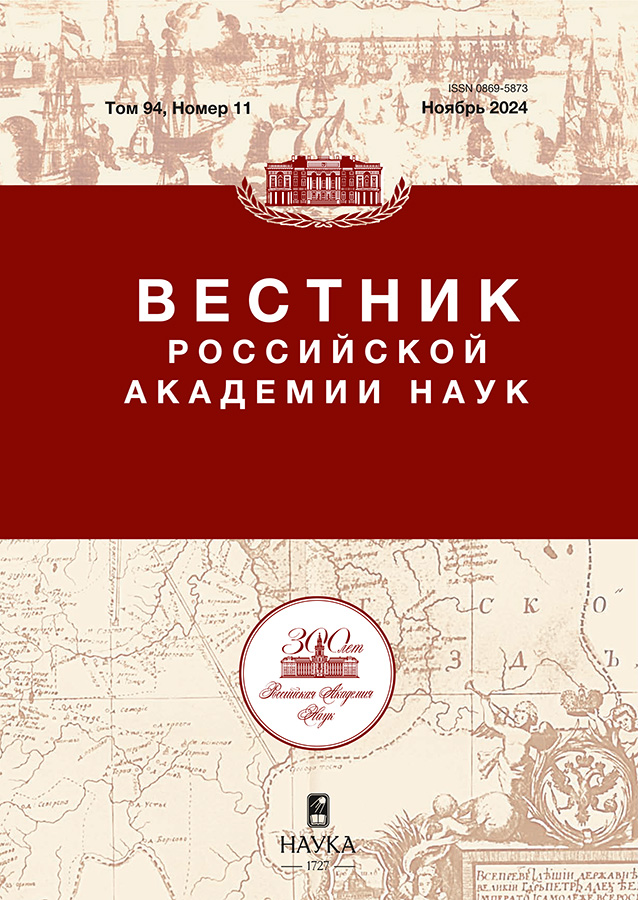Ways to achieve carbon neutrality
- Authors: Chimitdorzhieva G.D.1
-
Affiliations:
- Institute of General and Experimental Biology SB RAS
- Issue: Vol 94, No 11 (2024)
- Pages: 1014-1024
- Section: Review
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/659735
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587324110058
- EDN: https://elibrary.ru/SEOLAE
- ID: 659735
Cite item
Abstract
The problems of climate change and initiatives of countries with a high carbon footprint to reduce the rate of its warming are discussed. The characteristics of the instruments for regulating greenhouse gas emissions used to reduce the carbon footprint are given. The main methods for reducing emissions and capturing carbon dioxide are given: CO2 extraction from seawater, reducing carbon dioxide emissions during seawater desalination using photovoltaic systems, a carbon-neutral process for producing hydrogen by steam reforming of methane integrated with CO2 utilization, and the transition to carbon neutrality in the construction industry. Measures for transferring the economies of countries with a high carbon footprint (China, the USA, India, the European Union, Russia, Japan and Brazil) to adaptive methods for achieving carbon neutrality are described. The review is based on statistical materials, reports of international organizations, national authorities, as well as analytical reports and conference materials on climate change, sustainable use, conservation and protection of forests, presented in scientific journals and on official websites.
Keywords
Full Text
About the authors
G. D. Chimitdorzhieva
Institute of General and Experimental Biology SB RAS
Author for correspondence.
Email: galdorj@gmail.com
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, Ulan-UdeReferences
- Zhang Z., Hu G., Mu X., Kong L. From low carbon to carbon neutrality: A bibliometric analysis of the status, evolution and development trend // Journal of Environmental Management. 2022, vol. 322, p. 116087. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116087
- Chen J.M. Carbon Neutrality: Toward a Sustainable Future // The Innovation. 2021, vol. 2(3), p.100127. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100127
- Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении климата (РКИК ООН). htps://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml / United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (In Russ.)
- Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf/ / Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. (In Russ.)
- Парижское соглашение. https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf / Paris Agreement. (In Russ.)
- Ломакин О.Е., Марков А.К., Можаев Е.Е., Волков А.П. Экономический механизм трансграничного углеродного регулирования // Вестник Екатерининского института. 2023. № 2(62). С. 39–47. / Lomakin O.E., Markov A.K., Mozhaev E.E., Volkov A.P. Economic mechanism of transboundary carbon regulation // Bulletin of the Ekaterininsky Institute. 2023, no. 2(62), pp. 39–47. (In Russ.)
- Бажан А.И., Рогинко С.А. Пограничный корректирующий углеродный механизм ЕС: статус, риски и возможный ответ // Аналитические записки Института Европы РАН. 2020. № 44(227). С. 1–13. / Bazhan A.I., Roginko S.A. EU Border Adjustment Carbon Mechanism: Status, Risks and Possible Response // Analytical Notes of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences. 2020, no. 44(227), pp.1–13. (In Russ.)
- Лысунец М.В. Углеродное ценообразование как инструмент трансграничного углеродного регулирования и “зелёной” трансформации мировой экономики // Мир новой экономики. 2023. № 17(2). С. 27–36. / Lysunets M.V. Carbon pricing as a tool for cross-border carbon regulation and “green” transformation of the global economy // World of the New Economy. 2023, no. 17(2), pp. 27–36. (In Russ.)
- Ланьшина Т.А., Логинова А.Д., Стоянов Д.Е. Переход крупнейших экономик мира к углеродной нейтральности: сферы потенциального сотрудничества с Россией // Вестник международных организаций. 2021. № 4. С. 98–125. / Lanshina T.A., Loginova A.D., Stoyanov D.E. Transition of the world’s largest economies to carbon neutrality: areas of potential cooperation with Russia // Bulletin of international organizations. 2021, no. 4, pp. 98–125. (In Russ.)
- Minx J.C., Lamb W.F., Callaghan M.W. et al. Negative emissions. Part 1: Research landscape and synthesis // Environmental Research Letters. 2018, vol. 13(6), p. 63001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabf9b
- Zeman F.S., Keith D.W. Carbon neutral hydrocarbons // Philos. Trans. A Math Phys. Eng Sci. 2008, no. 366(1882), pp. 3901–3918. http://doi.org/10.1098/rsta.2008.0143
- Pearson R.J., Eisaman M.D., Turner J.W.G. et al. Energy Storage via Carbon-Neutral Fuels Made from CO2, Water, and Renewable Energy // Proceedings of the IEEE. 2012, vol. 100, no. 2, pp. 440–460. doi: 10.1109/JPROC.2011.2168369.
- Jonghun Lim, Chonghyo Joo, Jaewon Lee et al. Novel carbon-neutral hydrogen production process of steam methane reforming integrated with desalination wastewater-based CO2 utilization // Desalination. 2023, vol. 548. https://doi.org/10.1016/ j.desal.2022.116284
- Chao Ai, Lu Zhao, Di Song et al. Identifying greenhouse gas emission reduction potentials through large-scale photovoltaic-driven seawater desalination // Science of The Total Environment. 2023, vol. 857(Pt 3), p. 159402.
- Ashby M.F. Materials and Sustainable Development. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2024. P. 377–390.
- Zheting Chu, Jiaxin Liang, Dazhong Yang, Hong Chen. Green chemical conversion of large-scale aluminosilicates into zeolites for environmental remediation under carbon-neutral pressure. Current Opinion in Green and Sustainable // Chemistry. 2022, vol. 36, p. 100632. https://doi.org/10.1016/ j.cogsc.2022.100632
- Yangyang Guo, Lei Luo, Tingting Liu et al. A review of low-carbon technologies and projects for the global cement industry // Journal of Environmental Sciences. 2024, vol.136, pp. 682–697. https://doi.org/10.1016/j.jes.2023.01.021
- Zhen Wu, Xianjin Huang, Ruishan Chen et al. The United States and China on the paths and policies to carbon neutrality // Journal of Environmental Management. 2022, vol. 320, p. 115785. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115785
- Sun Y., Yesilada F., Andlib Z., Ajaz T. The role of eco-innovation and globalization towards carbon neutrality in the USA // Journal of Environmental Management. 2021, vol. 299, p. 113568. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113568
- Olivier J.G.J. Trends in global CO2 and total greenhouse gases emissions: 2021 Summary Report. Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2022.
- Алексеева Н.Н. Роль Индии в глобальной климатической повестке: от аутсайдера до ведущего игрока // Вестник Института востоковедения РАН. 2022. № 2. С. 92–104. / Alekseeva N.N. The Role of India in the Global Climate Agenda: From Outsider to Leading Player // Bulletin of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. 2022, no. 2, pp. 92–104. (In Russ.)
- India 5th National Report to the Convention on Biological Diversity. New Delhi: Government of India, 2014.
- Yadav K., Sircar A., Bist N. Carbon mitigation using CarbFix, CO2 plume and carbon trading technologies // Energy Geoscience. 2023, vol. 4, no. 1, pp.117–130. https://doi.org/10.1016/j.engeos.2022.09.004
- Di Sacco A., Hardwick K.A., Blakesley D. et al. Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits // Global Change Biology. 2021, no. 27(7), pp. 1328–1348. https://doi.org/10.1111/gcb.15498
- Булетова Н.Е., Степанова Е.В., Аль-Моатасембелла Мостафа Мохамед и др. Устойчивое цифровое развитие сельскохозяйственных территорий России с учётом ECG-факторов // Управление устойчивым развитием. 2022. № 2(39). С. 6–12. / Buletova N.E., Stepanova E.V., Al-Moatasembella Mostafa Mohamed et al. Sustainable digital development of agricultural territories of Russia taking into account ECG factors // Sustainable Development Management. 2022, no. 2(39), pp. 6–12. (In Russ.)
- Тихоцкая И.С. Политика декарбонизации в Японии: основные тренды // Доклад на XV ежегодной конференции Ассоциации японоведов. Москва, 16 декабря 2022 г. http://www.japanstudies.ru/images/stories/program_2022_12_16.pdf / Tikhotskaya I.S. Decarbonization Policy in Japan: Main Trends // Report at the XV Annual Conference of the Association of Japanese Studies. Moscow, December 16, 2022. (In Russ.)
- Third National Communication of Brazil to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Executive Summary. Brazil: Ministry of Science, Technology and Innovation, 2016. https://unfccc.int/resource/docs/natc/branc3es.pdf
Supplementary files