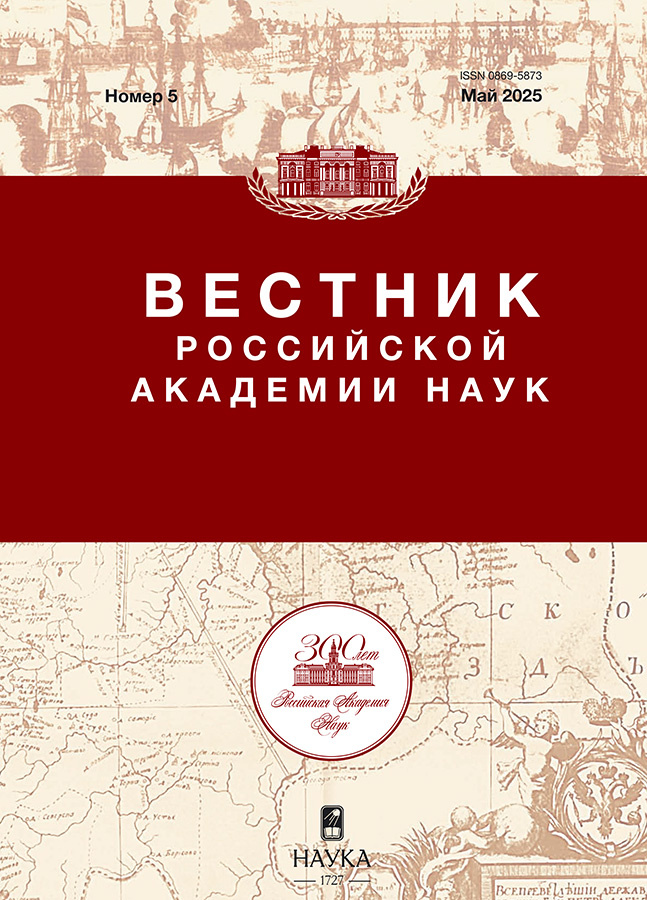“Intention or mistake?”: The finale of the novel “and quiet flows the Don” in the assessments of the contemporaries. On the 120ʰᵗ anniversary of the birth of academician of the ussr Academy of sciences M.A. Sholokhov
- Autores: Kornienko N.V.1
-
Afiliações:
- Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
- Edição: Volume 95, Nº 5 (2025)
- Páginas: 44-57
- Seção: Profiles
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/686683
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587325050056
- EDN: https://elibrary.ru/EKKPBP
- ID: 686683
Citar
Texto integral
Resumo
Mikhail Sholokhov’s novel “And quiet flows the Don” is undoubtedly one of the greatest works of the Russian literature of XX century. The publication in 1940 of the last book of the novel provoked heated discussions in the central periodicals, at meetings of the Critics’ Section of the USSR Writers’ Union and subsequently in the Committee on the Stalin Prizes. This article examines the various views of the writer’s contemporaries regarding the ending of the novel, and Sholokhov’s own reaction to it.
Texto integral
Sobre autores
N. Kornienko
Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: natalkornienko@yandex.ru
член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник
Rússia, MoscowBibliografia
- Шолохов М.А. Письма / Под общ. Ред. А.А. Козловского, Ф.Ф. Кузнецова, А.М. Ушакова. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Sholokhov M.A. Letters / Ed. by A.A. Kozlovsky, F.F. Kuznetsov, A.M. Ushakov. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2003. (In Russ.)
- Шолохов М. “Тихий Дон”. Динамическая транскрипция рукописи / Отв. ред. Г.Н. Воронцова. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Sholokhov M. “And Quiet Flows the Don”. Dynamic transcription of the manuscript / Ed. by G.N. Vorontsov. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2011. (In Russ.)
- Новое о Михаиле Шолохове. Исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2003. New information about Mikhail Sholokhov. Research and materials. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2003. (In Russ.)
- Семёнова С.Г. Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Semenova S.G. The World of Mikhail Sholokhov’s prose. From poetics to worldview. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2003. (In Russ.)
- Корниенко Н.В. “Сказано русским языком…”. Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Kornienko N.V. “Spoken in Russian...”. Andrei Platonov and Mikhail Sholokhov: Meetings in Russian Literature. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2003. (In Russ.)
- Кузнецов Ф.Ф. “Тихий Дон”: судьба и правда великого романа. М.: ИМЛИ РАН, 2005. Kuznetsov F.F. “And Quiet Flows the Don”: the fate and truth of a great novel. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2005. (In Russ.)
- “Очень прошу ответить мне по существу…”. Письма читателей М.А. Шолохову. 1929–1955 / Отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2020. “I kindly ask you to answer me on the merits...”. Letters from readers to M.A. Sholokhov. 1929–1955 / Ed. by N.V. Kornienko. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2020. (In Russ.)
- “К Вам с письмом советский читатель…”. Письма читателей М.А. Шолохову. 1956–1984 / Отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2022. “A Soviet reader with a letter to you...”. Letters from readers to M.A. Sholokhov. 1956–1984 / Ed. by N.V. Kornienko. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2022. (In Russ.)
- Шолохов М.А. Тихий Дон. Научное издание. В 2-х т. М.: ИМЛИ РАН, 2018. Sholokhov M.A. And Quiet Flows the Don. In 2 vols. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2018. (In Russ.)
- Шолохов М.А. Поднятая целина. М.: ИМЛИ РАН, 2022. Sholokhov M.A. Virgin Soil Upturned. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2022. (In Russ.)
- Павлов С. Стихотворения Есенина // Литературное обозрение. 1940. № 11. С. 26. Pavlov S. Yesenin’s Poems // Literary Review. 1940, no. 11. (In Russ.)
- Творческое наследие М.А. Шолохова в начале ХХI в. / Отв. ред. Ю.А. Дворяшин. М.: ИМЛИ РАН, 2022. M.A. Sholokhov’s literary legacy in the early XXI century / Ed. by Yu.A. Dvoryashin. Moscow: The Gorky Institute of World Literature, 2022. (In Russ.)
- Правда. 2 февраля 1940 г. Pravda. February 2, 1940. (In Russ.)
- Сталинские премии литературы // Литературная газета. 5 февраля 1940. Stalin Literature Prizes // Literaturnaya gazeta. February 5, 1940. (In Russ.)
- Полонский В. Концы и начала. Заметки о реконструктивном периоде советской литературы // Новый мир. 1931. № 1. С. 114–134. Polonsky V. Endings and beginnings. Notes on the reconstructive period of Soviet literature // Novy Mir. 1931, no. 1, pp. 114–134. (In Russ.)
- Стихотворения графа А.А. Голенищева-Кутузова. СПб.: Тип. А.С. Суворова, 1884. Poems by Count A.A. Golenishchev-Kutuzov. St. Petersburg: A.S. Suvorov Printing House, 1884. (In Russ.)
- Анненский И.Ф. Записная книжка 1898 г. Вып. 1: Учёно-комитетские рецензии 1899–1900 годов. Иваново: Юнона, 2000. Annensky I.F. Notebook of 1898. Iss.1: Scholarly and Committee reviews of 1899–1900. Ivanovo: Junona, 2000. (In Russ.)
- Михаил Шолохов. Летопись жизни и творчества (материалы к биографии) / Сост. Н.Т. Кузнецова. М.: Галерея, 2005. Mikhail Sholokhov. Chronicle of life and work (materials for a biography) / Comp. N.T. Kuznetsova. Moscow: Gallery, 2005. (In Russ.)
- Камегулов А.Д. Письмо товарищам // Печать и революция. 1930. № 5–6. С. 38. Kamegulov A.D. Letter to comrades // The press and the revolution. 1930, no. 5–6, p. 38. (In Russ.)
- Серафимович А. “Тихий Дон” // Правда. 19 апреля 1928 г. Serafimovich A. “And Quiet Flows the Don” // Pravda. April 19, 1928. (In Russ.)
- Литературная газета. 9 декабря 1935 г. Literaturnaya gazeta. December 9, 1935. (In Russ.)
- Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчёт. М.: ГИХЛ, 1934. First All-Union Congress of Soviet Writers. Verbatim report. Moscow: Khudozhestvennaya Literatura, 1934. (In Russ.)
- Марченко Т.В. Русская литература в зеркале Нобелевской премии. М.: Азбуковник, 2017. Marchenko T.V. Russian Literature in the Mirror of the Nobel Prize. Moscow: Azbukovnik, 2017. (In Russ.)
- Дир. Разговор с Шолоховым // Известия. 10 марта 1935 г. Deer. Conversation with Sholokhov // Izvestia. March 10, 1935. (In Russ.)
- Заславский Д. Конец Григория Мелехова // Правда. 23 марта 1940 г. Zaslavsky D. The End of Grigory Melekhov // Pravda. March 23, 1940. (In Russ.)
- Антонова Е.В. Стенограмма обсуждения четвёртой книги романа М.А. Шолохова “Тихий Дон” // Вёшенский вестник. 2023. № 23. С. 240–293. Antonova E.V. Transcript of the discussion of the fourth book of the novel by M.A. Sholokhov “And Quiet Flows the Don” // Veshensky Vestnik. 2023, no 23. (In Russ.)
- Чарный М.Б. О конце Григория Мелехова и конце романа // Литературная газета. 26 июня 1940 г. Charny M.B. On the end of Grigory Melekhov and the end of the novel // Literaturnaya gazeta. June 26, 1940. (In Russ.)
- Ермилов В.В. О “Тихом Доне” и о трагедии // Литературная газета. 11 августа 1940 г. Ermilov V.V. On the “ And Quiet Flows the Don” and the tragedy // Literaturnaya gazeta. August 11, 1940. (In Russ.)
- РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 449. Л. 1–11. The Russian State Archive of Literature and Art. F. 631. Op. 15. Ed. hr. 449. L. 1–11. (In Russ.)
- Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. / Под ред. акад. А.Н. Яковлева. М.: МФД, 1999. Power and artistic intelligentsia. Documents of the Central Committee of the RCP(b) –Cheka – OGPU – NKVD on cultural policy in 1917–1953 / Ed. by acad. A.N. Yakovlev. Moscow: International Foundation “Democracy”, 1999. (In Russ.)
- Кирпотин В.Я. О “среднем” писателе и о герое литературы // Литературная газета. 22 сентября 1940 г.Kirpotin V.Ya. About an “average” writer and a literary hero // Literaturnaya gazeta. September 22, 1940. (In Russ.)
- Громов П. Григорий Мелехов и Михаил Кошевой // Литературная газета. 22 сентября 1940 г. Gromov P. Grigory Melekhov and Mikhail Koshevoy // Literaturnaya gazeta. September 22, 1940. (In Russ.)
- Курсы-конференция молодых критиков // Литературная газета. 6 октября 1940 г. Courses-conference of young critics // Literaturnaya gazeta. October 6, 1940. (In Russ.)
- РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 6. Ед. хр. 478. Л. 53–55. The Russian State Archive of Literature and Art. F. 631. Op. 6. Ed. hp. 478. L. 53–55. (In Russ.)
- РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 6. Ед. хр. 488. Л. 2–22. The Russian State Archive of Literature and Art. F. 631. Op. 6. Ed. hr. 488. L. 2–22. (In Russ.)
- РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 474. Л. 36. The Russian State Archive of Literature and Art. F. 631. Op. 15. Ed. hp. 474. L. 36. (In Russ.)
Arquivos suplementares