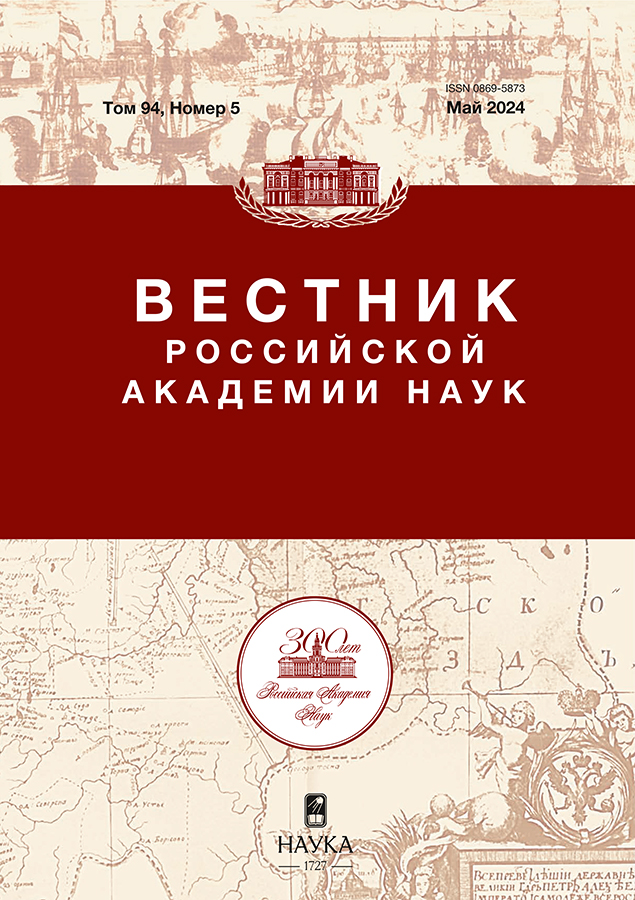Основные вехи истории Академии наук в Санкт-Петербурге−Петрограде−Ленинграде (1724−1934)
- Авторы: Тункина И.В.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
- Выпуск: Том 94, № 5 (2024)
- Страницы: 408-419
- Раздел: С КАФЕДРЫ ПРЕЗИДИУМА РАН
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5873/article/view/659654
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869587324050028
- EDN: https://elibrary.ru/FSJGHM
- ID: 659654
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье кратко рассмотрена история создания, становления и развития высшего научного учреждения России за 210 лет его пребывания на берегах Невы. Это учреждение неоднократно меняло своё название: Академия наук и художеств (1724–1803), Императорская Академия наук (1803–1836), Императорская Санкт-Петербургская Академия наук (1836–1914), Императорская Академия наук (1914–1917), Российская академия наук (1917–1925), Академия наук СССР (1925–1991).
Статья подготовлена на основе научного сообщения, заслушанного на заседании президиума РАН 30 января 2024 г.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
Ирина Владимировна Тункина
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: tunkina@yandex.ru
член-корреспондент РАН, директор
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 4. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1830. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. V. 4. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1830.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр 1. Т. 7. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1830. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. V. 7. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1830.
- Уставы Российской Академии наук, 1724–2009. М.: Наука, 2009. Charters of the Russian Academy of Sciences, 1724–2009. M: Nauka, 2009.
- Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской Академии наук. Л.: Наука, 1977. Kopelevich Yu.Ch. Foundation of the St. Petersburg Academy of Sciences. L: Nauka, 1977.
- Тункина И.В. Актуальное прошлое: взгляд из настоящего // Актуальное прошлое: Взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства в XVIII– начале XX в.: Очерки истории / Сост. и отв. ред. И.В. Тункина. В 2-х кн. Кн. 1. С. VII–XII. СПб.: Реноме, 2016. (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки; вып. 9). Tunkina I.V. The Actual Past: Viewpoint from the Present // The Actual Past: Interaction and Balance of Interests of the Academy of Sciences and the Russian State in the 18th– early 20th centuries: Essays on History; I.V. Tunkina (ed. and comp.). 2 v. V. 1. P. VII–XII. SPb.: Renome, 2016. (Ad Fontes. Materials and Research into the History of Science; Iss. 9).
- Тункина И.В., Крапошина Н.В. Очерки истории финансирования Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1724–1862): 1724–1746 // Актуальное прошлое: Взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства в XVIII– начале XX в.: Очерки истории / Сост. и отв. ред. И.В. Тункина. В 2-х кн. Кн. 1. С. 469–503. СПб.: Реноме, 2016. (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки; вып. 9). Tunkina I.V., Kraposhina N.V. Essays on the History of Financing of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences (1724-1862): 1724-1746 // The Actual Past: Interaction and Balance of Interests of the Academy of Sciences and the Russian State in the 18th– early 20th centuries: Essays on History; ed. and comp. I.V. Tunkina. 2 v. V. 1. P. 469–503. SPb.: Renome, 2016. (Ad Fontes. Materials and Research into the History of Science; Iss. 9).
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 12. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1830. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. V. 12. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1830.
- Тункина И.В., Крапошина Н.В. Очерки истории финансирования Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1724–1862): 1747–1765 // Актуальное прошлое: Взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства в XVIII–начале XX в.: Очерки истории / Сост. и отв. ред. И.В. Тункина. В 2-х кн. СПб.: Реноме, 2016. Кн. 1. С. 504−524 (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки; вып. 9). Tunkina I.V., Kraposhina N.V. Essays on the History of Financing of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences (1724−1862): 1724−1746 // The Actual Past: Interaction and Balance of Interests of the Academy of Sciences and the Russian State in the 18th– early 20th centuries: Essays on History; ed. and comp. I.V. Tunkina. 2 vols. SPb.: Renome, 2016. V. 1. P. 504−524 (Ad Fontes. Materials and Research into the History of Science; Iss. 9).
- Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 10 (Служебные документы. Письма. 1734–1765). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. Lomonosov M.V. Complete Works. V. 10 (Papers. Letters. 1734–1765). M.; L.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1957.
- Тункина И.В. Очерки истории финансирования Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1724–1862): Введение // Актуальное прошлое: Взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства в XVIII–начале XX в.: Очерки истории / Сост. и отв. ред. И.В. Тункина. В 2-х кн. Кн. 1. С. 465–468. СПб.: Реноме, 2016 (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки; вып. 9). Tunkina I.V. Essays on the History of Financing of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences (1724-1862): Preface // The Actual Past: Interaction and Balance of Interests of the Academy of Sciences and the Russian State in the 18th– early 20th centuries: Essays on History; ed. and comp. I.V. Tunkina. 2 v. V. 1. P. 465−468. SPb.: Renome, 2016. (Ad Fontes. Materials and Research into the History of Science; Iss. 9).
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 17. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1830. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. V. 17. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1830.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 21. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1830. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. V. 21. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1830.
- Тункина И.В., Крапошина Н.В. Очерки истории финансирования Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1724–1862): 1766–1802 // Актуальное прошлое: Взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства в XVIII– начале XX в.: Очерки истории / сост. и отв. ред. И.В. Тункина. В 2-х кн. Кн. 1. С. 525-56. СПб.: Реноме, 2016. (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки; вып. 9). Tunkina I.V., Kraposhina N.V. Essays on the History of Financing of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences (1724-1862): 1766−1802 // The Actual Past: Interaction and Balance of Interests of the Academy of Sciences and the Russian State in the 18th– early 20th centuries: Essays on History; ed. and comp. I.V. Tunkina. 2 v. V. 1. P. 525−564. SPb.: Renome, 2016. (Ad Fontes. Materials and Research into the History of Science; Iss. 9).
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 27. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1830. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 1. V. 27. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1830.
- CПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 2. SPbB ARAS. F. 2. Op. 17. D. 2.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 11, Отд. 1. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1836. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 11, Chapter 1. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1836.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. 16, Отд. 1. СПб.: Типография II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1842. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 2. V. 16, Chapter 1. SPb.: Printing House of the Second Department of His Imperial Majesty’s own Chancellery, 1842.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 13. СПб.: Государственная типография, 1893. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 3. V. 13. SPb.: State Printing House, 1893.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 13. СПб.: Государственная типография, 1893. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 3. V. 13. SPb.: State Printing House, 1893.
- Тункина И.В. К истории первых академических печатей // Исторические записки. 2023. № 22(140). С. 247–260. Tunkina I.V. On the History of the First Academic Official Stamps // Istoricheskie zapiski. 2023. No. 22 (140). P. 247−260.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 32. Пг.: Государственная типография, 1915. The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 3. V. 32. Petrograd: State Printing House, 1915.
- Памятная книжка Императорской Академии наук на 1913 год. Исправлена по 15 января 1913 г. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1913. Commemorative Book of the Imperial Academy of Sciences for 1913. Corrected to January 15, 1913. SPb.: Printing House of the Imperial Academy of Sciences, 1913.
- Соболев В.С. Для будущего России: деятельность Академии наук по сохранению национального культурного и научного наследия 1890−1930 гг. СПб.: Наука, 1999. Sobolev V.S. For the Future of Russia: The Activities of the Academy of Sciences for the Preservation of the National Cultural and Scientific Heritage of 1890−1930. SPb.: Nauka, 1999.
- Тункина И.В. На переломе: Академия наук в 1917 году // Труды Отделения историко-филологических наук. 2017 / Отв. ред. В.А. Тишков. М.: Культура, Наука, Книга, 2018. С. 43–60. Tunkina I.V. At the Turning Point: The Academy of Sciences in 1917 // Proceedings of the Department of History and Philology. 2017 / ed. V.A. Tishkov. M.: Kultura, Nauka, Kniga, 2018. P. 43–60.
- СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1−1917. Дела 40–44. SPbB ARAS. F. 2. Op. 1−1917. D. 40–44.
- Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 1917. № 267. Collection of Laws and Orders of the Government by the Governing Senate. 1917. № 267.
- Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1927. № 35. Ст. 367. Collection of Laws and Regulations of the Workers’ and Peasants’ Government of the USSR. 1927. № 35. Section 367.
- Тункина И.В. “Дело” академика Жебелёва // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России. Альманах. Вып. 2. СПб.: Bibliotheca classica Petropolitana; Алетейя, 2000. С. 116–161. Tunkina I.V. The “Case” of Academician S.A. Zhebelev // The Ancient World and Us: Classical Heritage in Europe and Russia. The Almanac. Is. 2. SPb.: Bibliotheca classica Petropolitana; Alethea, 2000. P. 116–161.
- Перченок Ф.Ф. Академия наук на “великом переломе” // Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М.; СПб.: Прогресс, Atheneum-Феникс, 1991. С. 163–235. Perchenok F.F. Academy of Sciences at the “Great Turning Point” // Links: Historical Almanac. Is. 1. Moscow; St. Petersburg: Progress, Atheneum-Phoenix, 1991. P. 163–235.
- Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. “Дело славистов”. 30-е годы. М.: Наследие, 1994. Ashnin F.D., Alpatov V.M. “The Case of the Slavists”. The 1930s. M.: Legacy, 1994.
- Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР за 1934 г. М.: б.и., 1948. Collection of Laws and Regulations of the Workers’ and Peasants’ Government of the USSR for 1934. M., 1948.
- Тункина И.В. Архив АН СССР и перевод Академии наук в Москву в 1934 г. // Миллеровские чтения − 2018: Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия. Материалы Второй международной научной конференции 24–26 мая 2018 г., Санкт-Петербург / Сост. и отв. ред. И.В. Тункина. СПб.: Реноме, 2018. С. 115–123 (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки; вып. 14). Tunkina I.V. Archive of the Academy of Sciences of the USSR and the Relocation of the Academy of Sciences to Moscow in 1934 // Müller’s Conference – 2018. The Continuity and Traditions in Preserving and Studying the Documentary Academic Heritage. Materials of the 2nd International Scientific Conference. May 24-26, 2018, St. Petersburg. SPb.: Renome, 2018. P. 115-123 (Ad Fontes. Materials and Research into the History of Science; Iss. 14).
Дополнительные файлы
Доп. файлы
Действие
1.
JATS XML
2.
Рис. 1. “Регламент Императорской Академии наук и художеств в Санктпетербурге”. Автограф Елизаветы Петровны: “Быть по сему”. 24 июля 1747 г. в Царском Селе. © СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 2. Л. 2.
Скачать (274KB)
3.
Рис. 2. Группа академиков, устанавливающих бюст Л. Эйлера. Сверху три портрета в медальонах − цесаревич Павел Петрович, императрица Екатерина II, великая княгиня Мария Федоровна (жена Павла Петровича). Силуэтная картина работы И.Ф. Антинга. 1784 г. © СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.
Скачать (303KB)
4.
Рис. 3. Портрет Екатерины II. В.В. Матэ, с оригинала Д.Г. Левицкого 1780-х гг. Офорт, игла. 1907 г. © СПбФ АРАН. Ф. 115. Оп. 2. Д. 215. Л. 4.
Скачать (333KB)
5.
Рис. 4. Регламент и штат Императорской Академии наук а − бархатный красный переплёт с золотым и серебряным шитьём и вензелем, с государственной печатью в латунном ковчеге; б − Глава 1. “О должности Академии”; в − штат Императорской Академии наук с подписями-автографами императора Александра I, министра народного просвещения графа П.В. Завадовского. 25 июля 1803 г. Подлинник. Пергамен. © СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 4. Переплет; Л. 2 об.–3, 14 об.
Скачать (739KB)
Скачать (230KB)