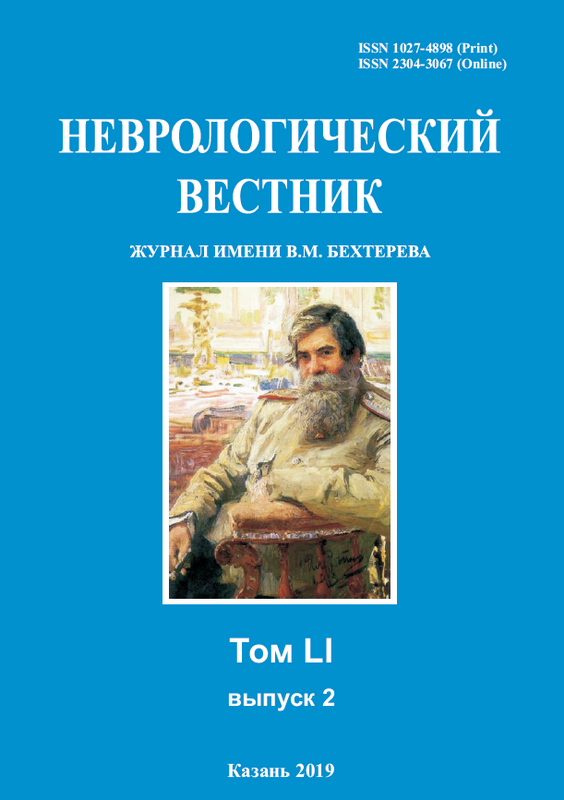Эмоциональные нарушения у детей с аффективно-респираторными пароксизмами и их матерей
- Авторы: Польская А.В.1, Чутко Л.С.2
-
Учреждения:
- Детская областная клиническая больница
- Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук
- Выпуск: Том LI, № 2 (2019)
- Страницы: 61-65
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 13.08.2019
- Статья одобрена: 13.08.2019
- Статья опубликована: 13.08.2019
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/15664
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb15664
- ID: 15664
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Целью исследования явилось изучение эмоциональных особенностей у детей с аффективно-респираторными приступами (АРП) и их матерей. Представлены результаты обследования 80 детей раннего возраста, обследуемых по поводу АРП. Для оценки их эмоциональных особенностей использовались опросник А.И. Захарова, опросник Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко «Уровень тревожности ребенка», а также тест тревожности Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки. Результаты данного исследования показали, что у детей с АРП выявлен больший уровень тревожности по сравнению со здоровыми детьми контрольной группы. В качестве методов исследования эмоциональных особенностей матерей применялись «Вопросник для выявления признаков вегетативных нарушений» А.М. Вейна, Личностная шкала проявлений тревоги J.A. Teylor в адаптации Т.А. Немчинова, тест оценки тревожности Ch.D. Spilberger в обработке Ю.Л. Ханина, Торонтская шкала алекситимии (TAS-26), адаптированная в НИИ им. Бехтерева (Санкт-Петербург). Выявлено, что у большинства матерей детей с АРП отмечались эмоциональные нарушения (высокий уровень тревожности, алекситимия), что позволяет предположить наличие психосоматического компонента в генезе данного заболевания.
Ключевые слова
Полный текст
Одними из наиболее часто встречающихся в раннем детском возрасте пароксизмальных расстройств сознания являются аффективно-респираторные приступы (АРП). Данные доброкачественные пароксизмальные состояния характеризуются нарушением сознания, дыхания, мышечного тонуса, вегетативными симптомами, появляющимися в ответ на различные экзогенные раздражающие факторы. Согласно литературным данным АРП встречается у 0,1–4,6% детей в популяции [15, 17]. В соответствии с МКБ-10, АРП относятся к рубрике R06. 8 «Другие и неуточненные нарушения дыхания». В зарубежной литературе для обозначения данных пароксизмов чаще всего употребляется термин «приступы задержки дыхания» (breath-holding spells) [19, 22]. Однако он считается не совсем удачным: термин подразумевает добровольную задержку дыхания при длительном вдохе, а на самом деле дыхание задерживается непроизвольно на выдохе [11].
АРП могут встречаться как у здоровых, так и у детей с резидуально-органическим поражением центральной нервной системы, что может создавать затруднения для дифференциальной диагностики [4, 7]. Обычно пароксизмы впервые дебютируют в возрасте 6–18 месяцев [17, 21]. Этиология АРП до сих пор является предметом дискуссий. Основываясь на опыте предыдущих исследований, можно сказать, что АРП имеют мультифакториальную природу: в их этиопатогенезе играют роль генетические механизмы, дизрегуляция вегетативной нервной системы, нарушения биохимических процессов в организме, психосоциальные факторы [2, 8, 10, 17, 20]. Большинство авторов сходятся во мнении, что сочетание нескольких факторов может потенцировать друг друга в происхождении пароксизмов [12, 16]. На наследственную предрасположенность к развитию АРП исследователи указывали еще в середине прошлого века [23]. Семейный анамнез АРП, как правило, отягощен примерно в 20–30% случаев, с одинаковой представленностью в поколениях по отцовской и материнской линиям; был доказан аутосомно-доминантный тип наследования с пониженной пенетрантностью [10, 12, 23].
Считается, что АРП имеют доброкачественный характер, и что временной фактор – главенствующий. К 3–5 годам (в отдельных случаях – к 6–8) приступы исчезают спонтанно, не оставляя никаких последствий для организма, в связи с чем ни подробного обследования, ни необходимости терапии не требуется [3, 10, 16, 17].
Д.Д. Коростовцев и др. (2004) предложили выделить отдельно следующие группы АРП: невротические и неврозоподобные [7]. По мнению данных авторов, невротические приступы возникают у здоровых, но крайне «возбудимых» детей при дефектах воспитания в их семьях и представляют собой истерическую реакцию на неисполнение желаемого ребенком, а неврозоподобные пароксизмы возникают у детей с резидуально-органическим поражением ЦНС под действием незначительных психологических инициирующих факторов.
Ряд исследователей отмечает в семьях детей с АРП воспитание их по типу «кумира семьи», когда любое неисполнение родителями требований сопровождается недовольством, плачем, криком, демонстративным поведением ребенка [7, 14, 21].
Целью данного исследования было изучение эмоциональных нарушений у детей с АРП и у их матерей.
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 80 детей от одного года до 4 лет, обследуемых по поводу АРП, из них 44 (55,0%) мальчика и 36 (45,0%) девочек. Средний возраст детей составлял 2,2±0,9 года. Критериями исключения из исследования являлись: возраст детей младше одного года и старше 4 лет, наличие грубой очаговой неврологической симптоматики, наличие выраженной соматической патологии, наличие эпилептических приступов в анамнезе, умственная отсталость, прием лекарственных препаратов, воздействующих на ЦНС.
Диагностическое обследование включало: клиническую оценку проявлений аффективно-респираторных пароксизмов у обследуемых детей, электроэнцефалографическое исследование (видео-ЭЭГ-мониторинг дневного сна), психологическое исследование с целью выявления уровня детской тревожности. С этой целью нами использовались заполняемый родителями опросник А.И. Захарова [6], опросник Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко «Уровень тревожности ребенка» для оценки ее путем сопоставления результатов, полученных после опроса родителей и наблюдения самого исследователя, а также тест тревожности Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки, оценивающий ситуативный эмоциональный опыт ребенка с последующим вычислением индекса тревожности (для детей старше 3 лет). Группа контроля состояла из 40 практически здоровых детей в возрасте от одного года до 4 лет.
Также нами наблюдались 80 матерей детей с АРП из основной обследуемой группы. Средний возраст женщин в исследуемой группе составлял 28±4,7 года. Критериями исключения из исследования являлись наличие грубой очаговой неврологической симптоматики, наличие выраженной соматической патологии, прием лекарственных препаратов, воздействующих на ЦНС, наличие психотических расстройств. Группа контроля была представлена 40 матерями здоровых детей возраста от одного года до 4 лет.
Проведенное обследование включало: сбор жалоб у матерей обеих групп, психологическое исследование с целью выявления эмоциональных нарушений. Для оценки уровня тревожности у матерей использовались Личностная шкала проявлений тревоги J.A. Teylor в адаптации
Т.А. Немчинова и тест оценки тревожности Ch.D. Spilberger в обработке Ю.Л. Ханина [5]. Для оценки алекситимии использовалась Торонтская шкала алекситимии (TAS-26), адаптированная в НИИ им. Бехтерева (Санкт-Петербург) [1].
Проверка гипотез о различии между групповыми средними арифметическими значениями осуществлялась с помощью двусторонних t-тестов Стьюдента для связанных, либо несвязанных совокупностей.
Результаты исследования. Помимо жалоб, касающихся непосредственно описания самих пароксизмов, родителей наших пациентов беспокоили их плаксивость, капризность, чрезмерная восприимчивость к любым раздражителям, низкие адаптационные способности к различным жизненным ситуациям. Необходимо отметить, что у 52 (65%) детей отмечались сразу все перечисленные симптомы.
Визуальный анализ ЭЭГ обследуемых детей из обеих групп выявил умеренные отклонения в характере биоэлектрической активности с большим количеством медленных волн преимущественно тета-диапазона, а также единичных дельта-волн, что соответствует возрастным особенностям. Признаков эпилептической активности зарегистрировано не было.
При исследовании тревожности с помощью опросника А.И. Захарова средние показатели тревожности у детей основной группы достоверно превышали данные показатели в контрольной группе (табл. 1). Исследование эмоциональных нарушений по методике Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко также показало, что уровень тревожности у детей с АРП был достоверно выше, чем у детей из контрольной группы (табл. 2). При исследовании тревожности с помощью теста Р. Теммл, В. Амен, М. Дорки в основной обследуемой группе показатели тревожности значительно превышали нормативные значения по сравнению с детьми из группы контроля, у которых уровень тревожности был оценен как низкий (табл.3).
Таблица 1
Результаты теста тревожности Захарова А.И.,
баллы, M±m
Группы | Показатели тревожности |
Основная (n=80) | 16,2±4,6* |
Контрольная (n=40) | 4,8±2,2 |
*p<0,01 – достоверность различий между основной и контрольной группой.
Таблица 2
Результаты теста тревожности Лаврентьевой Г.П.,
Титаренко Т.М., баллы, M±m
Группы | Показатели тревожности |
Основная (n=80) | 13,3±5,8* |
Контрольная (n=40) | 4,0±2,6 |
*p<0,01 – достоверность различий между основной и контрольной группой.
Таблица 3
Результаты теста тревожности Теммл, Амен, Дорки,
%, M±m
Группы | Показатели тревожности |
Основная (n=71) | 54,6±12,9* |
Контрольная (n=35) | 17,1±5,4 |
*p<0,01 – достоверность различий между основной и контрольной группой.
Сравнительное исследование показало, что уровень тревожности среди матерей детей с АРП значительно выше, чем у матерей здоровых детей. Так, по результатам шкалы самооценки Спилбергера–Ханина, среди матерей в основной группе средние показатели как личностной, так и ситуативной тревожности были значительно выше, чем аналогичные показатели в контрольной группе (табл. 4). Подобные результаты были получены также при проведении теста тревожности Тейлора в адаптации Немчинова: показатели тревожности среди матерей в основной обследуемой группе были высокими и средними с тенденцией к высокому у 72,5% женщин, что достоверно выше по сравнению с показателями тревожности матерей в контрольной группе. Кроме этого матери детей с АРП характеризовались высоким уровнем алекситимии по сравнению с контрольной группой (табл. 4).
Таблица 4
Клинико-психологические показатели в исследуемых группах матерей
Показатели | Основная группа (n = 80) M±m, баллы | Контрольная группа (n = 40) M±m, баллы | |
Тест тревожности Спилбергера-Ханина | Личностная тревожность | 46,2±8,6** | 18,5±3,2 |
Ситуативная тревожность | 44,6±7,9** | 19,3±2,8 | |
Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора-Немчинова | 24,5±8,3* | 11,4±3,4 | |
Торонтская шкала алекситимии | 67,3±19,9* | 43,6±8,8 | |
*p<0,05 достоверность различий между результатами обследования матерей основной и контрольной группы;
**р<0,01 достоверность различий между результатами обследования матерей основной и контрольной группы.
Обсуждение. В рамках данного исследования было проведено изучение эмоциональных нарушений у детей с АРП, в частности, определение уровня тревожности у детей, страдающих АРП и сравнение его с таковым у здоровых детей. Тревога являет собой нормальный, адекватный ответ организма на опасную ситуацию. Она носит адаптивный характер при изменении существования индивидуума (стрессовые события) и становится значимой особенностью личности, когда приобретает персистирующий характер, осложняя повседневную деятельность человека [13].
Кроме этого, проведенное нами исследование показало высокий уровень тревожности у матерей детей с АРП. Тревога носила затяжной характер, при этом в половине случаев тревожные расстройства появились до рождения ребенка с АРП. Обращает на себя внимание высокий уровень личностной тревожности, позволяющий предположить, что найденные изменения являются не только эмоциональной реакцией на болезнь ребенка, а более глубокими личностными особенностями. Хотя, в свою очередь, нарушение социальной адаптации и трудности в обучении, связанные с АРП у ребенка, способствуют возникновению вторичной тревожности у матери.
В рамках данного исследования нами установлено, что для матерей пациентов с АРП характерен достоверно более высокий уровень алекситимии, чем в контрольной группе. Термин «алекситимия», предложенный в 1973 году психотерапевтами J. Nemiah и P. Sifnoes, определяет своеобразные особенности личности, характеризующиеся затруднениями в вербализации и идентификации эмоциональных проявлений, в дифференцировке между чувствами и телесными ощущениями, бедностью воображения, фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. Высокий уровень алекситимии у матерей детей с АРП свидетельствует о затруднении в идентификации своего эмоционального состояния.
Таким образом, найденные изменения свидетельствуют о выраженных эмоциональных нарушениях у матерей детей с АРП и позволяют предположить наличие психосоматического компонента в генезе данного заболевания. В этой связи необходимо вспомнить как M. Mahler et al. (1975) описывали «психосоматическую» мать: как авторитарную, доминирующую, открыто тревожную, требовательную и навязчивую [18]. Возможны два типа отношения матери к ребенку: 1) скрытое, неосознаваемое отвержение – при этом ребенок использует язык тела для привлечения внимания матери (мать как бы стимулирует у ребенка более массивное использование этого языка); 2) симбиоз – мать как бы консервирует телесный контакт, тормозя становление более поздних форм взаимодействия. Согласно G. Ammon (1974), «психосоматогенная» мать реагирует только на соматические потребности ребенка или обращает на него внимание в тех случаях, когда он заболевает, поэтому ребенок взаимодействут с ней с помощью психосоматического симптома [9]. С ребенком обходятся как с вещью, а не как с личностью; и психосоматическое расстройство компенсирует недостаток «Я» ребенка. Психосоматическое заболевание позволяет матери поддерживать с ребенком форму контакта, которая находится в созвучии с его бессознательными страхами, а ребенку создать себе путь для контакта.
Ограничением данного исследования явилось то, что в фокусе нашего внимания оказались только матери детей с АРП. Отцы, в силу различных причин, гораздо реже оказывались на приеме у врача вместе с ребенком.
Результаты исследования, представленные в настоящей публикации, свидетельствуют о том, что эмоциональные нарушения у детей с АРП, в частности, тревожность, встречаются значительно чаще, чем среди здоровых детей. Таким образом, найденные изменения позволяют предположить наличие психосоматического компонента в генезе данного заболевания.
Об авторах
Алина Викторовна Польская
Детская областная клиническая больница
Автор, ответственный за переписку.
Email: chutko5@mail.ru
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 44
Леонид Семенович Чутко
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук
Email: chutko5@mail.ru
Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. акад. Павлова, д. 9
Список литературы
- Алекситимия и методы ее определения при пограничных психосоматических расстройствах: Метод. пособие / Психоневрол. ин-т им. В. М. Бехтерева; [Авт.-сост. Д.Б. Ересько и др.]. СПб.: Психоневрол. ин-т, 1994. 16 с.
- Белоусова Е.Д. Аффективно-респираторные приступы // Врач. 2011. № 8. С. 59–61.
- Гузева В.И. Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальные состояния у детей. М.: Медицинское информационное агенство. 2007. 568 с.
- Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В. Роль видео-ЭЭГ-мониторинга в диагностике эпилептических и неэпилептических пароксизмальных состояний у детей // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2010. № 2. С.12–19.
- Диагностика эмоционально-нравственного развития / Сост. и ред. И.Б. Дерманова. СПб.: Речь. 2002. 171 с.
- Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. 3-е изд., испр. СПб.: Союз, 1997. 222 с.
- Коростовцев Д. Д., Гузева В. И., Фомина М.Ю. и др. Неэпилептические пароксизмальные расстройства у детей. Уч.-метод. пособие. СПб.: Изд. СПбГМА, 2006. 40 с.
- Пальчик А.Б. Понятишин А.Е. Неэпилептические пароксизмы у грудных детей. М.: МЕДпреcс-информ, 2015. С. 100–111.
- Ammon H. Psychoanalyse und Psychosomatik. Munchen: Piper, 1974.
- De Myer W. Breath-holding spells. In: Current Management in Child Neurology. 3rd ed Bernard L Maria., editor. Ed. BC Decker; PMPH-USA, 2005. P.353–355.
- Di Mario F. J., Burleson J. A. Autonomic nervous system function in severe breath-holding spells // Pediatric Neurology. 1993. Vol. 9(4). P. 268–274.
- Di Mario F.J., Sarfarazi M. Family pedigree analysis of children with severe breath-holding spells // Journal of Pediatrics. 1997. Vol. 130(4). P. 647–651.
- Essau С.A. Anxiety in children: when is it classed as a disorder that should be treated? // Expert Rev.Neurotherapeutics. 2007. Vol.7 (8). P. 909–911.
- Gauk E.W., Kidd L., Prichard J.S. Mechanism of seizures associated with breath-holding spells // N Engl J Med 1963. Vol. 268. P. 1436–1441.
- Goldman R.D. Breath-holding spells in infants // Can Fam Physician. 2015. Vol. 61(2). P. 149–150.
- Hinman A., Dickey L.B. Breath-holding spells. A review of the literature and eleven additional cases // Am J Dis Child 1956. Vol. 91. P. 23–33.
- Leung A.K.C., Leung A.A.M., Wong A.H.C., Hon K.L. Breath-Holding Spells in Pediatrics: A Narrative Review of the Current Evidence // Curr Pediatr Rev. 2019. Vol.15 (1). P. 22–29.
- Mahler M. S., Pine F., Bergman A. The psychological birth of the human infant. New York: Basic Books, 1975. P. 269.
- Mocan H., Yildiran A., Orhan F., Erduran E. Breath holding spells in 91 children and response to treatment with iron // Arch. Dis. Child. 1999. Vol. 81(3). P. 261–262.
- Obeid M., Mikati M.A. Expanding spectrum of paroxysmal events in children: potential mimickers of epilepsy // Pediatr Neurol. 2007. Vol. 37. P. 309–316.
- Roddy S.M. Breath-holding spells and reflex anoxic seizures. In: Swaiman K.F., Ashwal S., Ferriero D.M. et al, eds. // Swaiman’s Pediatric Neurology: Principles and Practice. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier,. 2017. chap 85.
- Sawires H., Botrous O. Double-blind, placebo-controlled trial on the effect of piracetam on breath-holding spells // Eur. J. Pediatr. 2012. Vol. 171(7). P.1063–1067.
- Silbert P.L., Gubbay S. Familial cyanotic breath-holding spells // J. Pediatr. Child. Health. 1992. Vol. 28(3). P. 254–256.
Дополнительные файлы