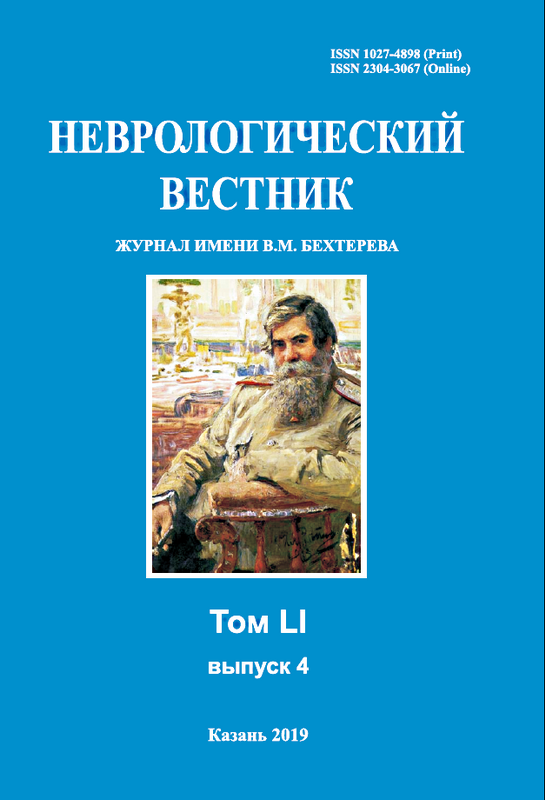Духовность как индикатор качества жизни, связанного с психическим здоровьем
- Авторы: Витко Ю.С.1, Лебедева А.А.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том LI, № 4 (2019)
- Страницы: 88-91
- Раздел: Клинические случаи
- Статья получена: 16.10.2019
- Статья одобрена: 05.12.2019
- Статья опубликована: 11.02.2020
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/16465
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb16465
- ID: 16465
Цитировать
Полный текст
Аннотация
На сегодняшний день на фоне ускоряющихся изменений человеческого существования вырастает проблема новых экзистенциальных состояний, с которыми сталкиваются психологи или психиатры в своей практике. Как следствие изменяющегося мира, классификации психических болезней пополняются новыми нозологическими единицами и рекомендациями лечения. Понимание здоровья как отсутствия болезней становится окончательно несостоятельным ввиду своей неспособности пролить свет на природу многих видов патологии. Наиболее перспективным на сегодня считают обращение к пониманию здоровья в терминах психологического благополучия. Духовность признают одним из интегральных компонентов человеческого благополучия разные авторы. Исследователи приписывают ей модерирующую функцию, благодаря которой снижается или нивелируется воздействие стрессоров и неблагоприятных жизненных обстоятельств на благополучие личности. В работе освещена проблема духовного здоровья с точки зрения возможностей овладения духовным опытом и интеграции этого опыта в системе мировоззрения человека. Обосновано, что духовность признаётся особым полем исследований качества жизни, а духовное здоровье и психологическое благополучие обладают эвристическим потенциалом в контексте вопросов психиатрии.
Ключевые слова
Полный текст
Интерес к духовности и религиозности в связи с качеством жизни на сегодня обретает всё бόльшую актуальность, а некоторые авторы говорят о междисциплинарном характере проводимых исследований [1]. В отношении психического здоровья вопросы духовности появляются в наиболее свежих публикациях, реабилитирующих такую неоднозначную тему [2]. Так, авторы указывают на то, что в 2014 г. Американская психиатрическая ассоциация вступила в партнёрство с Сообществом по вопросам психического здоровья и веры, поскольку, согласно исследованиям, духовная помощь положительным образом сказывается на качестве жизни пациентов. Вместе с тем, у психиатров нет какого-либо единого мнения о важности духовного здоровья в отношении лечения психических расстройств [там же].
Современные мониторинги качества жизни, связанного со здоровьем, демонстрируют обилие разновидностей психических расстройств в популяции. Так, по данным крупного исследования, проведённого в странах Евросоюза, каждый год 38,2% населения страдают психическими расстройствами. Наиболее часто встречающимися признаны тревожные расстройства (14,0%), бессонница (7,0%), большая депрессия (6,9%), соматоформные расстройства (6,3%), алкогольная и наркотическая зависимость (4%) [3]. Нетрудно заметить, что практически все расстройства, входящие в эту пятёрку, относятся к невротическому спектру. Сложившуюся картину можно охарактеризовать словами Джона Хоукинса, помощника врача в лечебнице Wilts County: «Я сомневаюсь, что когда-либо история мира или опыт прошлых веков могли показать большее количество безумия, чем в настоящий день. Кажется, действительно, будто мир движется со скоростью, пропорциональной приближающемуся концу; в этой быстрой гонке времени, увеличивающейся с каждым столетием, увеличивается и давление, оказываемое на сознание людей; появляется тенденция постоянно требовать более высоких стандартов интеллектуальных достижений, более грандиозных фантазий, бόльших сил, большего количества потраченных средств, что становится уже не соизмеримо с нашим здоровьем1» [4].
Безусловно, тема появления новых психических расстройств на сегодня крайне актуальна: свежие редакции международных классификаций пестрят новыми терминами и симптомами. Выделение новых нозологических единиц в психиатрическом дискурсе становится возможным, прежде всего, за счёт размывания границ между нормой и патологией. В.Д. Менделевич, рассуждая об этой проблеме, говорит о возросшей сложности постановки диагноза в условиях постмодернистской реальности. Явно заметно перетекание различного рода психических феноменов и особенностей поведения из категории психических расстройств в категорию функционирования личности в пределах нормы, и наоборот [5].
Идеям признанного психиатра созвучна и позиция психолога: для описания в сущности тех же процессов Г.В. Иванченко использует понятие, взятое из литературных произведений А. Блока, — «перевёрнутый мир» [6]. Постмодернистская реальность и «перевёрнутый мир» описывают действительность постиндустриального общества, для которой характерны утрата гуманистических ценностей, Бога, нигилизм и чрезвычайная распространённость культуры потребления [7]. Размышляя о причинах, которые не дают человеку в «перевёрнутом мире» сохранять аутентичность и ощущение своего уникального жизненного пути, Г.В. Иванченко [8] обращается к понятию «метапатология», введённому А. Маслоу.
Метапатологии обозначают нарушения развития личности вследствие фрустрации у человека бытийных ценностей. Последние обнаруживают себя в гуманистических идеях, переживаниях пиковых состояний, в характеристиках идеального искусства, в их число входят, например, «истина», «красота», «добро», «уникальность» [9]. Фрустрация бытийных ценностей проявляется во многом как снижение человечности, что влечёт за собой апатию, отчуждение, аномию, агедонию. «Общеметапатологический» вариант — это тупик, в который заходит человек, в результате чего отчуждается от собственного внутреннего мира и от других людей; «это тягостная для человека невозможность движения вообще при насущнейшей потребности выйти из мучительного состояния. Будучи устойчивым, такое состояние разрушает личность и её отношения с миром» [8].
Таким образом, и для психиатрии, и для психологии остро встаёт проблема выделения новых нозологических единиц, которые мыслятся как результат глобальных изменений ускоряющегося мира современности [10]. Эти реалии требуют серьёзного осмысления, которое, на наш взгляд, должно проходить не изолированно внутри каждой дисциплины, а в пространстве междисциплинарного диалога.
Опираясь на взгляды Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева и других, мы предполагаем, что большим исследовательским потенциалом обладает духовная сфера, которую учёные чаще предпочитают обходить стороной. Духовность представляет собой некую универсалию, которая актуальна в любой период человеческого существования. При этом мы предлагаем не смешивать понятия религии и духовности, которые, хотя и пересекаются друг с другом, но все же являются разными феноменами [11]. Да, мы можем с определённой долей вероятности говорить о том, что популярность конфессиональной принадлежности к той или иной религии продолжит снижаться, однако необязательно этот процесс означает снижение общечеловеческого интереса к духовности и духовному развитию. Религиозный институт претерпевает, по всей видимости, новые трансформации, и всё сильнее распространяются околорелигиозные практики, новые течения в роде Нью Эйдж (New Age), а также практики психологии, основанные на медитациях и иных формах диалога с трансцендентным (например, ставшее недавно популярным движение майндфулнес).
Вместе с тем, научное знание уступает обыденному сознанию в глубине рефлексии духовных феноменов, наиболее заметно игнорируя духовные феномены в научных работах последних десятилетий XX века. Систематические обзоры эмпирической литературы показали, что с 1978 по 1986 гг. в психиатрических журналах только 2,5% количественных исследований включало оценку религии и духовности [12]. Помимо этого, анализ базы данных PubMed показал, что в период с 1990 по 2010 гг. 13 из 32 ведущих журналов по психиатрии (41%) не публиковали ни одного исследования по теме духовности [13].
К настоящему времени удалось в определённой степени преодолеть то, что П. Хилл и К. Паргамент [14] назвали «религиозно-духовным пробелом» (religion-spirituality gap), однако необходимо провести большую работу, чтобы выстроить современное понимание духовности. В исследовании М. Рассоли и соавт. [15] было приведено интервью медицинской сестры одной из больниц, которое наглядно показывает состояние темы духовности в образовательной системе: «Действительно, духовные верования пациента могут быть эффективной копинг-стратегией, но мы не можем реально оценить духовное измерение пациента. Проблема в системе образования, которая не даёт нам навыков, необходимых для выполнения этой задачи2» [15].
Табуирование изучения феномена духовности связано, прежде всего, с трудностью его концептуализации. Р. Эммонс в работе «Психология высших устремлений» приводит не меньше десятка определений духовности. Общими чертами всех определений можно назвать следующие [16]:
1) признание существования чего-то надличностного, высшего;
2) акт соединения с этим «высшим», выход за пределы личности, трансценденция.
Эллисон говорит о духовности как об инстанции, которая находится в тесных отношениях с психическим и физическим измерениями человека, при этом отличительная черта духовности — её интегративная сила, которая пронизывает все уровни личности [17].
Психическое заболевание затрагивает не только какое-то отдельное измерение человека, оно встраивается, влияет на личность, но также испытывает влияние этой личности. Процессы, происходящие на психическом и духовном уровнях, могут стать причиной изменений на физическом уровне [18]. Кроме того, духовный уровень может отражаться на психологическом благополучии и поведении, связанном со здоровьем. Так, например, более высокий уровень религиозного участия положительно связан с показателями психологического благополучия (удовлетворённость жизнью, счастье, позитивный аффект и более высокий моральный дух) и отрицательно — с депрессией, количеством суицидального поведения и мыслей, употреблением наркотиков/алкоголя [19]. «Духовные» интервенции в групповой психотерапии приводят к статистически значимым сокращениям симптомов посттравматического стрессового расстройства, снижению уровня чувства вины, стыда трудностей в прощении себя и других, отчуждения от Бога, религиозного сообщества, потери цели и смысла жизни [20–24].
Следует сказать, что в настоящее время под здоровьем понимают не только отсутствие заболеваний, но и высокий уровень благополучия личности [25]. Субъективное благополучие — оценка, которую люди дают в отношении качества своей жизни [26, 27]. Данные исследований показывают, что индикаторы благополучия, которые концептуализируются как индикаторы психического здоровья, отрицательно коррелируют с симптомами распространённых психических расстройств, таких как депрессия [28, 29]. В исследовании Э. Фабрикатора и соавт. [30] было показано, что переменная духовности модерирует влияние различных стрессоров на показатели субъективного благополучия. Авторы делают предположение, что, когда духовно интегрированные люди сталкиваются со стрессом, они остаются способными поддерживать когнитивный аспект их благополучия на прежнем уровне.
Иными словами, мы полагаем, что, с одной стороны, дальнейшее изучение духовных феноменов необходимо для прояснения сути состояний современного человека, духовные потребности которого, вероятно, актуальны, но фрустрированы. С другой стороны, важно прояснить, какой вклад духовные феномены вносят в психологическое благополучие и здоровье (в том числе соматическое и психическое). Обе эти линии представляют интерес именно с точки зрения практической работы (психиатров, клинических психологов и др.), которые довольно часто сталкиваются с религиозной тематикой в речевой продукции своих пациентов.
Известно, что религиозный опыт во многих случаях становится проявлением патологических явлений. Встаёт вопрос, как в данном случае мы можем обращаться к теме духовности? Действительно, это проблема, поставленная ещё У. Джемсом, логично вытекает из опыта любого психиатра, который сталкивался в своей практике с пациентами такого рода. Однако случаи, представленные в литературе, позволяют предположить, что пациенты, сообщающие о постоянном чтении священных текстов, посещении религиозных культов, изнурении себя молитвенными практиками, при всём этом сами у себя отмечают непонимание сути религиозного учения [31]. Иными словами, в ряде случаев такие люди нуждаются в наставнике или хотя бы консультанте, который параллельно прописываемому фармакологическому лечению помог бы пациенту разобраться с содержанием его внутриличностного религиозного конфликта.
Здесь и пролегает во многом тот самый «мостик» между психологией и психиатрией: болезни подвергается не просто пациент с религиозной фабулой бреда, а личность, которая не сумела адекватно использовать религию как инструмент. И в этом смысле мы видим, что это поле совместной работы и психолога, который должен держать в уме знания о патологичес- кой природе многих религиозно-мистических переживаний, и психиатра, который должен учитывать, что перед ним — личность, которая, возможно, не справляется с задачей ассимиляции и интеграции своего духовного опыта в систему своего мировоззрения и ценностей.
Вероятно, открыть для себя духовное измерение недостаточно, важно овладеть этим измерением, будучи готовым к осмысленному восприятию духовных учений. Понимая, таким образом, духовное здоровье в контексте возможности личности интегрировать духовный опыт, мы ближе подходим к открытию новых направлений для совместной работы психиатров и психологов в области здоровья в его современном понимании.
Таким образом, духовные феномены представляют собой действительно важные субъективные индикаторы качества жизни. Например, вопрос об удовлетворённости духовной сферой жизни сегодня включён в широко известный Индекс психологического благополучия (PWI). Кроме того, для улучшения понимания клинического случая Американская психиатрическая ассоциация рекомендует своим специалистам при проведении клинических мероприятий учитывать культурные особенности пациента (куда входят в том числе вопросы о духовных причинах переживаемых состояний, сведения о его религиозности/духовности)3.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 18-18-00480 «Субъективные индикаторы и психологические предикторы качества жизни».
Примечания:
1Перевод автора.
2Перевод автора.
3Cм. дополнительные рекомендации к DSM-5: Cultural Formulation Interview. https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM5_Cultural-Formulation-
Interview.pdf.
Об авторах
Юлия Станиславовна Витко
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Email: uliyvitko18@gmail.com
стажер-исследователь, Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации
Россия, 109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 2, каб. 206Анна Александровна Лебедева
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: anna.alex.lebedeva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5919-5338
SPIN-код: 4913-6506
Scopus Author ID: 57194632184
ResearcherId: I-3922-2015
https://www.hse.ru/staff/lebedevaanna
к. психол. н., старший научный сотрудник, Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации
Россия, 109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 2, каб. 206Список литературы
- Dy-Liacco G.S., Kennedy M.C., Parker D.J., Piedmont R.L. Spiritual transcendence as an unmediated causal predictor of psychological growth and worldview among Filipinos. Res. Soc. Sci. Study of Religion. 2005; 16: 261–286.
- Peteet J.R. Spirituality and mental health: Implications for ethics, medicine, and public health. Ethics, Med. Publ. Health. 2019; 9: 75–79.
- Wittchen H.U., Jacobi F., Rehm J. et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur. Neuropsychopharmacol. 2011; 21 (9): 655–679.
- Hawkes J. On the increase of insanity. J. Psychol. Med. Mental Pathol. (London, England: 1848). 1857; 10 (7): 508.
- Менделевич В.Д. Психологический феномен vs. психопатологический симптом: дифференциация ради эффективной коррекции. Материалы международной научно-практической конференции «Психологические проблемы: характеристики, принципы классификации и диагностики». Апрель, 21–23. Ереван: ИД Лимуш. 2019; 42–45. [Mendelevich V.D. Psihologicheskij fenomen vs. psihopatologicheskij simptom: differenciaciya radi effektivnoj korrekcii. (Psychological phenomenon vs. psychopathological symptom: Differentiation for effective correction.) Proceedings of the International conference “Psychological issues: characteristics classification and diagnosis principles”. April, 21–23. Erevan: Publishing house Limush. 2019; 42–45. (In Russ., аbstr. in Engl.)]
- Блок А.А. Собрание сочинений. В 8 т. М.: ГИХЛ. 1962; 5. [Blok A.A. Sobr. soch. 8 volume. Moscow: GIKHL. 1962; 5. (In Russ.).]
- Кутырев В.А. Философия постмодернизма. Directmedia. 2006; 95. [Kutyrev V.A. Filosofiya postmodernizma. (Philosophy pf postmodernism.) Directmedia. 2006; 95. (In Russ.).]
- Иванченко Г.В. Понятие метапатологии у А. Маслоу: контексты и перспективы. Психология. Ж. ВШЭ. 2008; 5 (3): 105–122. [Ivanchenko G.V. Ponyatie metapatologii u A. Maslou: konteksty i perspektivy. (The Maslow’s Notion of Metapathology: Contexts and Perspectives.) Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2008; 5 (3): 105–122. (In Russ., аbstr. in Engl.)]
- Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Альпина Паблишер. 1999; 496. [Maslow A. The farther reaches of human nature. Alʹpina publ. 1999; 496. (In Russ.)]
- Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределённости, сложности и разнообразия. Психол. исслед.: электронный науч. ж. 2015; 8 (40). http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n40/1109-asmolov40.html (дата обращения:17.12.2019). [Asmolov A.G. Psychology of modernity: the challenges of uncertainty, complexity and diversity. Psikhologicheskie issledovaniya: ehlektronnyy nauchnyy zhurnal. 2015; 8 (40). http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n40/1109-asmolov40.html (access date: 17.12.2019). (In Russ., аbstr. in Engl.)]
- Леонтьев Д.А. Духовность, саморегуляция и ценности. Известия Южного федерал. ун-та. технич. науки. 2005; 51 (7): 16–21.
- Larson D.B., Pattison E.M., Blazer D.G. et al. Systematic analysis of research on religious variables in four major psychiatric journals, 1978–1982. Am. J. Psychiatry. 1986; 143: 329–334.
- Bonelli R.M., Koenig H.G. Mental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010: a systematic evidence-based review. J. Religion and Health. 2013; 52 (2): 657–673.
- Hill K.I., Pargament P.C. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. American Psychologist. 2008; 58 (1): 64–74.
- Rassouli M., Zamanzadeh V., Ghahramanian A. et al. Experiences of patients with cancer and their nurses on the conditions of spiritual care and spiritual interventions in oncology units. Iranian J. Nursing and Midwifery Res. 2015; 20 (1): 25.
- Эммонс Р.А. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. Москва.: Смысл. 2004; 414. [Ehmmons R.A. The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. Moscow: Smysl. 2004; 414. (In Russ.)]
- Ellison C.W. Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. J. Psychol. Theology. 1983; 11 (4): 330–338.
- Kendell R.E., Zealley A.K. Paranoid and other psychoses. Companion to psychiatric studies. Churchill Livingstone, Edinburgh. 1993: 459–471.
- Moreira-Almeida A., Lotufo Neto F., Koenig H.G. Religiousness and mental health: a review. Brazilian J. Psychiatry. 2006; 28 (3): 242–250.
- Harris J.I., Usset T., Voecks C. et al. Spiritually integrated care for PTSD: A randomized controlled trial of “Building Spiritual Strength”. Psychiatry Res. 2018; 267: 420–428.
- Bryan A.O., Bryan, C.J., Morrow C.E., Etienne N., Ray-Sannerud B. Moral injury, suicidal ideation, and suicide attempts in a military sample. Traumatology. 2014; 20 (3): 154.
- Bryan A.B.O., Theriault J.L., Bryan C.J. Self-forgiveness, posttraumatic stress, and suicide attempts among military personnel and veterans. Traumatology. 2015; 21 (1): 40.
- Gray M.J., Schorr Y., Nash W. et al. Adaptive disclosure: An open trial of a novel exposure-based intervention for service members with combat-related psychological stress injuries. Behav. Therap. 2012; 43 (2): 407–415.
- Maguen S., Luxton D.D., Skopp N.A. et al. Killing in combat, mental health symptoms, and suicidal ideation in Iraq war veterans. J. Anxiety Dis. 2011; 25 (4): 563–567.
- Keyes C.L.M. Subjective well-being in mental health and human development research worldwide: An introduction. Soc. Indicators Res. 2006; 77 (1): 1–10.
- Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L. Subjective well-being: Three decades of progress. Psychol. Bull. 1999; 125 (2): 276.
- Keyes C.L.M. The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. J. Health Soc. Behav. 2002; 43 (2): 207–222.
- Headey B., Kelley J., Wearing A. Dimensions of mental health: Life satisfaction, positive affect, anxiety and depression. Soc. Indicators Res. 1993; 29 (1): 63–82.
- Keyes C.L.M. Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. J. Consult. Clin. Psychol. 2005; 73 (3): 539.
- Fabricatore A.N., Handal P.J., Fenzel L.M. Personal spirituality as a moderator of the relationship between stressors and subjective well-being. J. Psychol. Theology. 2000; 28 (3): 221–228.
- Пашковский В.Э. Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями. СПб.: ИД СПбМАПО. 2006; 144. [Pashkovskiy V.E. Psikhicheskie rasstroystva s religiozno-misticheskimi perezhivaniyami. (Mental disorders with religious and mystical experiences.) SPb.: St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Studies publ. 2006; 144 (In Russ.)]
Дополнительные файлы