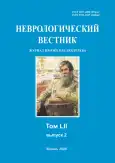Adversarial nature of the parties in the litigation, related to the assessment of mental health of participants
- Authors: Mendelevich V.D.1
-
Affiliations:
- Kazan State Medical University
- Issue: Vol LII, No 2 (2020)
- Pages: 79-82
- Section: Discussions
- Submitted: 30.03.2020
- Accepted: 08.04.2020
- Published: 19.10.2020
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/25852
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb25852
- ID: 25852
Cite item
Abstract
The article analyzes the problem of public distrust in the objectivity of the conclusions of forensic psychiatric examinations. It is stated that this is due to the lack of adversarial nature of the parties in real practice. It is concluded that the introduction of the principle of adversarial nature of the parties between an expert psychiatrist and a specialist psychiatrist can significantly increase the objectivity and reasonability of forensic psychiatric conclusions, reduce public distrust in them and increase the credibility of forensic psychiatry.
Full Text
Сфера судебно-психиатрической экспертизы находится под особо пристальным вниманием общества и признаётся одной из наиболее часто подвергаемых критике. Это происходит по причине неоднозначности и небесспорности выносимых психиатрами заключений, влияющих на судебные решения и оценку их справедливости [1–4]. К наиболее дискуссионным вопросам судебно-психиатрических экспертиз относят проблему научной обоснованности и аргументированности диагностических решений, назначения стационарной экспертизы по неочевидным основаниям и определения социальной опасности пациента с использованием формальных критериев. Подвергают критике попытки психиатров-экспертов уклоняться от отстаивания в судах выводов проведённых ими исследований и нежелание вступать в дискуссию с приглашёнными стороной защиты специалистами-психи-атрами.
Следует признать, что и общество, и психиатрическое профессиональное сообщество заинтересованы в максимально возможной объективизации и открытости процесса судебно-психиатрических экспертиз.
В качестве критики обоснованности судебно-психиатрических заключений нередко указывают на обнаружение принципиальных диагностических расхождений между экспертами из разных регионов России. Так, если в среднем по РФ по результатам экспертиз психически здоровыми признают 29,6% подэкспертных, то, к примеру, в Ингушской и Чеченской Республиках таковых значительно больше — 83,9 и 85,0% соответственно, в Камчатском крае — 68,9%, а в Забайкальском, Ставропольском, Пермском краях, Владимирской, Орловской, Тюменской, Свердловской, Томской областях лишь от 10 до 15% [5]. Для общества подобный разброс данных может указывать на отсутствие очевидных научных критериев психиатрической диагностики и субъективизм экспертов, существенно влияющий на исходы и юридические последствия судебных вердиктов.
Считают, что залогом объективности служит комиссионный характер вынесения заключений судебно-психиатрических экспертиз, когда основные решения становятся результатом консенсуса экспертов-психиатров [6–8]. Однако в условиях законодательного запрета на проведение негосударственных (независимых) экспертиз многие специалисты ставят под сомнение объективность и беспристрастность комиссионных заключений государственных экспертиз [9–11].
Одна из кардинальных проблем, затрудняющих достижение объективности и научной обоснованности судебно-психиатрических экспертиз и строящихся на их основании судебных решений, — отсутствие реальной состязательности сторон при вынесении заключений о психическом нездоровье и невменяемости подэкспертных [12]. Речь идёт об отсутствии возможности проведения в открытом судебном процессе профессиональных дискуссий между психиатром-экспертом и специалистом по психиатрии, по результатам которых судья или присяжные могли бы оценить, чьи аргументы весомее, убедительнее и доказательнее.
Иногда высказывают мнение о том, что ни судья, ни присяжные не способны разобраться в тонкостях судебной психиатрии и не могут определить, чья позиция — эксперта, дополнительного эксперта или специалиста — обладает большей доказательностью. По результатам опроса судей 73,2% респондентов были убеждены, что «суд не располагает методикой оценки заключения психиатра-эксперта» (17,9% полагали, что имеют такую методику, 8,9% не определились в этом отношении) [13]. На вопрос о действиях судьи при наличии двух противоречащих друг другу заключений экспертов 67,3% опрошенных ответили, что назначили бы третью экспертизу, 9,1% выбрали бы более обоснованное заключение из предложенных, 3,6% приняли бы за доказательство заключение повторной экспертизы. Все судьи отметили, что «не взяли бы на себя ответственности не согласиться с заключением эксперта и принять решение самостоятельно». Однако вопреки существующим представлениям о том, что заключение эксперта, наряду с другими, служит лишь одним из источников доказательств и не имеет заранее установленной силы, более трети судей (37,5%) указали, что в судебно-психиатрической экспертизе имеется инстанционность (23,2% опрошенных отрицали это, 39,3% не определились с ответом) [13]. Таким образом, существует противоречивая тенденция оценки судьями собственной роли в отношении убедительности судебно-психиатрических экспертиз — неопределённость в их доказательности при нежелании опираться на иные заключения, например заключения специалистов-психиатров.
До настоящего времени дискуссионным остаётся вопрос о том, чья из сторон — эксперт или специалист — обладает большей психиатрической квалификацией. Эксперты нередко отмечают, что именно они в силу специальной подготовки в области судебной психиатрии более квалифицированы, и обращают внимание на то обстоятельство, что в отличие от специалистов имеют возможность лично обследовать подэкспертного и, следовательно, делать более убедительные диагностические выводы. Специалисты не соглашаются с этим и указывают, что довольно большая часть экспертиз носит посмертный характер, значит, оппоненты оказываются в равных условиях. К тому же специалист нацелен не на подтверждение или опровержение выставленного экспертами диагноза, а на анализ приведённых экспертами доказательств собственной правоты, что не подразумевает облигатности личного обследования пациента.
Принятие судьями доказательности выводов экспертиз в части обнаружения или необнаружения у подэкспертного психических расстройств можно сравнить с принятием доказательности вменяемости или невменяемости. Опрос судей, процитированный выше [13], показал: многие из них (46,2%) убеждены, что невменяемость является медико-юридической категорией, но решение этого вопроса следует отнести к компетенции эксперта. Вышеприведённые данные указывают на сохраняющуюся неоднозначность отношения судей к заключениям судебно-психиатрических экспертиз. При этом судьи не настаивают на экстраполяции принципа состязательности сторон на психиатрию — между экспертом и специалистом, довольствуясь существующим положением вещей.
Для судебного правоприменения принцип состязательности сторон является основополагающим. Это одно из приоритетных прав, одинаково важных как для участников процесса, так и для государства. Для участников процесса — это, прежде всего, защищённость от произвола правоохранительных органов, право свободного представления доводов и доказательств в ходе судебного следствия, а для государства — гарантия изобличения и привлечения к ответственности действительно виновных в совершении преступления [14–17].
По определению М.С. Строговича, состязательность — такое построение судебного разбирательства, в котором обвинение отделено от суда и в котором обвинение и защита осуществляются сторонами, наделёнными равными правами для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противоположной стороны [18]. Суду же принадлежит руководство процессом, активное исследование обстоятельств дела и решение самого дела.
В соответствии со статьёй 15 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, основные элементы принципа состязательности следующие:
- отделение функций обвинения и защиты и разрешения уголовного дела и их размежевание между собой;
- наделение сторон обвинения и защиты равными процессуальными правами для осуществления своих функций;
- обеспечение судом, не являющимся органом уголовного преследования, необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
В соответствии с этим стороны пользуются равными процессуальными правами для отстаивания перед судом своих утверждений и требований и для оспаривания утверждений и требований противоположной стороны. Это значит, что подсудимый и его защитник в целях защиты имеют такие же процессуальные права, какие прокурор-обвинитель имеет в целях обвинения. Процессуальное равноправие сторон означает лишь равенство процессуальных средств, при помощи которых каждая сторона отстаивает свои утверждения и оспаривает утверждения противоположной стороны. Всё то, что делает в судебном заседании прокурор для обвинения, могут делать и защитник, и сам подсудимый для защиты [18].
Ю.Н. Аргунова, анализируя негативные последствия отсутствия в реальной практике состязательности сторон при вынесении решения о наличии или отсутствии у подэкспертного психического расстройства и признании его вменяемым или невменяемым, делает упор на монополизации судебно-психиатричес- ких экспертиз и отказе от «внутренней состязательности» (эксперт-эксперт) [19]. По поводу «внешней состязательности» (эксперт-специалист) высказано мнение о том, что суды по-прежнему относятся к акту судебно-психиатрической экспертизы как к решающему средству доказывания и не оценивают его в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами, в частности с заключениями специалистов [3, 19, 20]. При этом часть вторая статьи 195 УПК РФ предусматривает возможность производства судебной экспертизы государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, а часть первая статьи 198 УПК РФ даёт право подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц для производства судебной экспертизы.
Известно, что профессиональные обязанности психиатра-эксперта и специалиста-психиатра разнятся [19, 22]. Судебно-психиатрическая экспертиза подра-зумевает проведение на основе специальных знаний в области общей и судебной психиатрии исследований и дачу экспертом заключения по вопросам, поставленным органом, назначившим экспертизу, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Хотелось бы обратить внимание на слова «подлежащих доказыванию», которые подразумевают облигатность процесса доказывания в условиях потенциального оппонирования позиции экспертов. Ведь «доказывать» означает подтверждать доводами, свидетельствами и фактами. Эксперту бессмысленно доказывать самому себе правоту собственного заключения. Обязательно в этом процессе наличие стороны, оценивающей силу доказательств. То, что эксперт-психиатр может считать доказательством, судья, присяжные или специалист-психиатр могут не признать таковым. Следовательно, для поиска истины важна не просто констатация наличия диагноза в экспертном заключении, а описание хода диагностического поиска с указанием оснований, положенных в основу выводов.
В качестве доказательств по уголовному делу допускаются не только заключение и показания эксперта, но равно и заключение и показания специалиста (статья 74 УПК РФ). Специалист — это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для… постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (статья 58 УПК РФ). То есть фактически роль специалиста заключается в поиске и представлении суду сомнений в отношении доказательств, приводимых экспертами, если таковые есть. Специалист должен указывать на возможные ошибки и погрешности, совершённые экспертами в процессе доказывания и обоснования правоты собственной позиции.
В реальной судебной практике профессиональное мнение эксперта по-прежнему ставят выше профессионального мнения специалиста. Заключения специалистов со стороны защиты по различным мотивам не приобщают к материалам уголовного дела, иногда просто отвергают [23]. По мнению К.И. Сотникова [23], заключение специалиста — вид доказательств, который в отличие от заключения эксперта не был известен российской уголовно-процессуальной системе до принятия Федерального закона от 4 июля 2003 г. №92-ФЗ, дополнившего часть 2 статьи 74 УПК РФ. После включения в УПК РФ заключения специалиста в число источников доказательств возникли вопросы о природе, содержании и его значимости по сравнению с заключением эксперта. А ведь именно наличие состязательности сторон (эксперта и специалиста) могло бы существенно повысить обоснованность заключений о психическом здоровье или нездоровье подэкспертного.
Таким образом, многолетняя дискуссия о необходимости внедрения состязательности в судебный процесс, в котором поднимаются вопросы психического нездоровья и невменяемости участников, должна быть максимально быстро завершена. Внедрение принципа состязательности сторон между экспертом-психиатром и специалистом-психиатром способно существенно повысить объективность и аргументированность судебно-психиатрических заключений, снизить недоверие к ним со стороны общества и повысить авторитет судебной психиатрии. Возможно, стоило бы продумать целесообразность законодательного регулирования обязательного участия специалиста в судебных заседаниях и проведения открытых дискуссий с экспертами, особенно в случаях неоднозначности интерпретации психического состояния подозреваемого.
About the authors
Vladimir D. Mendelevich
Kazan State Medical University
Author for correspondence.
Email: mend@tbit.ru
Russian Federation, 420012, Kazan, Butlerov str, 49
References
- Колмаков П.А. О существующих проблемах при производстве судебно-психиатрических экспертиз. Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. 2007; 1: 48–51. [Kolmakov P.A. O sushchestvuyushchih problemah pri proizvodstve sudebno-psihiatricheskih ekspertiz. Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2007; 1: 48–51. (In Russ.)]
- Полубинская С.В., Макушкина О.А. Прогноз риска опасных действий лиц с психическими расстройствами: зарубежный опыт и российские перспективы. Социал. и клин. психиатрия. 2016; 3: 96–100. [Polubinskaya S.V., Makushkina O.A. Prognoz riska opasnyh deĭstviĭ lic psihicheskimi rasstroĭstvami: zarubezhnyĭ opyt i rossiĭskie perspektivy. Social’naya i klinicheskaya psihiatriya. 2016; 3: 96–100. (In Russ.)]
- Менделевич В.Д., Зиганшин Ф.Г., Гурьянова Т.В. Психиатрия, общество и безопасность граждан: общероссийские и татарстанские тенденции. Неврологич. вестн. 2011; 1: 3–8. [Mendelevich V.D., Ziganshin F.G., Gur’yanova T.V. Psihiatriya, obshchestvo i bezopasnost’ grazhdan: obshcherossijskie i tatarstanskie tendencii. Nevrologicheskij vestnik. 2011; 1: 3–8. (In Russ.)]
- Менделевич В.Д. «Презумпция психического здоровья»: от уникального судебного прецедента к рутинной практике. Неврологич. вестн. 2019; 1: 5–9. [Mendelevich V.D. “Prezumpciya psihicheskogo zdorov’ya”: ot unikal’nogo sudebnogo precedenta k rutinnoj praktike. Nevrologicheskij vestnik. 2019; 1: 5–9. (In Russ.)]
- Основные показатели деятельности судебно-психиатрической экспертной службы Российской Федерации в 2015 году. Аналитический обзор. Под ред. Е.В. Макушкина. М.: ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. 2016; 24: 212. [Osnovnye pokazateli deyatel’nosti sudebno-psihiatricheskoj ekspertnoj sluzhby Rossijskoj Federacii v 2015 godu. Analiticheskij obzor. Pod red. E.V. Makushkina. M.: FGBU “FMICPN im. V.P. Serbskogo” Minzdrava Rossii. 2016; 24: 212. (In Russ.)]
- Кантор П.Ю. К вопросу об обязательном назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы дееспособности: аргументы «за». Психология и право psyandlaw.ru. 2016; 6 (1): 1–8. [Kantor P.Yu. K voprosu ob obyazatel’nom naznachenii kompleksnoj sudebnoj psihologo-psihiatricheskoj ekspertizy deesposobnosti: argumenty “za”. Psihologiya i pravo psyandlaw.ru. 2016; 6 (1): 1–8. (In Russ.)] doi: 10.17759/psylaw.2016060101.
- Шишков С.Н. Принцип комиссионности производства судебно-психиатрической экспертизы. Рос. психиатрич. ж. 2005; 2: 39–45. [Shishkov S.N. Princip komissionnosti proizvodstva sudebno-psihiatricheskoj ekspertizy. Rossijskij psihiatricheskij zhurnal. 2005; 2: 39–45. (In Russ.)]
- Шишков С.Н. «Антипсихиатрическое» законо-творчество. Рос. психиатрич. ж. 2015; 2: 31–37. [Shishkov S.N. “Antipsihiatricheskoe” zakonotvorchestvo. Rossijskij psihiatricheskij zhurnal. 2015; 2: 31–37. (In Russ.)]
- Щукина Е.Я., Шишков С.Н. Правовые основы и фактические возможности государственной и негосударственной судебно-психиатрической экспертизы. Рос. психиатрич. ж. 2005; 1: 33–37. [Shchukina E.Ya., Shishkov S.N. Pravovye osnovy i fakticheskie vozmozhnosti gosudarstvennoj i negosudarstvennoj sudebno-psihiatricheskoj ekspertizy. Rossijskij psihiatricheskij zhurnal. 2005; 1: 33–37. (In Russ.)]
- Ткаченко А.А. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов. 2-е изд. М.: Логос. 2006; 503 с. [Tkachenko A.A. Sudebnaya psihiatriya. Konsul’tirovanie advokatov. 2-e izd. М.: Logos. 2006; 503 р. (In Russ.)]
- Савенко Ю.С. «Обоснование» упразднения негосударственной судебно-психиатрической экспертизы. http://npar.ru/obosnovanie-uprazdneniya-negosudarstvennoj-sudebno-psixiatricheskoj-ekspertizy/ (дата обращения: 11.06.2020). [Savenko Yu.S. “Obosnovanie” uprazdneniya negosudarstvennoj sudebno-psihiatricheskoj ekspertizy. http://npar.ru/obosnovanie-uprazdneniya-negosudarstvennoj-sudebno-psixiatricheskoj-ekspertizy/ (access date: 11.06.2020). (In Russ.)]
- Stridbeck U., Grøndahl P., Grønnerød C. Expert for Whom? Court-ppointed versus party-appointed experts. Psychiatry, Psychology and Law. 2016; 23 (2): 246–255. DOI: https://doi.org/10.1080/13218719.2015.1052334.
- Первомайский В.Б. Невменяемость. Киев. 2000: 320 с. [Pervomajskij V.B. Nevmenyaemost’. Kiev. 2000: 320 p. (In Russ.)]
- Шамсутдинов Р.К. Состязательность сторон в уголовном процессе — основа правосудия. Вестн. Уфимского юридич. ин-та МВД России. 2013; 2: 25–29. [Shamsutdinov R.K. Sostyazatel’nost’ storon v ugolovnom processe — osnova pravosudiya. Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2013; 2: 25–29. (In Russ.)]
- Карякин Е.А. Состязательность и криминалистика: конфликт или единая цель? Уголовное право. 2005; 1: 101–103. [Karyakin E.A. Sostyazatel’nost’ i kriminalistika: konflikt ili edinaya cel’? Ugolovnoe pravo. 2005; 1: 101–103. (In Russ.)]
- Дубровин О.В. К вопросу о реализации конституционного принципа состязательности и равноправия сторон при назначении судебных экспертиз. Социум и власть. 2014; 1 (45): 61–66. [Dubrovin O.V. K voprosu o realizacii konstitucionnogo principa sostyazatel’nosti i ravnopraviya storon pri naznachenii sudebnyh ekspertiz. Socium i vlast’. 2014; 1 (45): 61–66. (In Russ.)]
- Панькина И.Ю. Асимметрия правил допустимости доказательств в контексте принципа состязательности сторон. Судебная власть и уголовный процесс. 2018; 3: 58–62. [Pan’kina I.Yu. Asimmetriya pravil dopustimosti dokazatel’stv v kontekste principa sostyazatel’nosti storon. Sudebnaya vlast’ i ugolovnyj process. 2018; 3: 58–62. (In Russ.)]
- Ветрова Г.Н. «Опередивший время» — Михаил Соломонович Строгович. Судебная власть и уголовный процесс. 2018; 1: 118–137. [Vetrova G.N. “Operedivshij vremya” — Mihail Solomonovich Strogovich. Sudebnaya vlast’ i ugolovnyj process. 2018; 1: 118–137. (In Russ.)]
- Аргунова Ю.Н. Состязательность и независимость в противовес монополизации и корпоративности в судебной психиатрии. Независимый психиатрич. ж. 2005; IV (2): 16–24. [Argunova Yu.N. Sostyazatel’nost’ i nezavisimost’ v protivoves monopolizacii i korporativnosti v sudebnoj psihiatrii. Nezavisimyj psihiatricheskij zhurnal. 2005; IV (2): 16–24. (In Russ.)]
- Мохов А.А. Теория и практика использования медицинских знаний в гражданском судопроизводстве России. М.: Юридический центр Пресс. 2003; 526 с. [Mohov A.A. Teoriya i praktika ispol’zovaniya medicinskih znanij v grazhdanskom sudoproizvodstve Rossii. М.: Yuridicheskij centr Press. 2003; 526 р. (In Russ.)]
- Холодов А.В. Проблемы правового регулирования и практики применения назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы в российском уголовном судопроизводстве. Сибирский юридич. вестн. 2012; 3 (58): 107–111. [Holodov A.V. Problemy pravovogo regulirovaniya i praktiki primeneniya naznacheniya i proizvodstva sudebno-psihiatricheskoj ekspertizy v rossijskom ugolovnom sudoproizvodstve. Sibirskij yuridicheskij vestnik. 2012; 3 (58): 107–111. (In Russ.)]
- Ткаченко А.А. Правовые и профессиональные стандарты использования знаний специалиста. Рос. психиатрич. ж. 2004; 6: 10–15. [Tkachenko A.A. Pravovye i professional’nye standarty ispol’zovaniya znanij specialista. Rossijskij psihiatricheskij zhurnal. 2004; 6: 10–15. (In Russ.)]
- Сотников К.И. Конфликт позиции судебного эксперта и специалиста со стороны защиты как выражение принципа состязательности в уголовном судопроизводстве. СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России. 2017; 298–305. [Sotnikov K.I. Konflikt pozicii sudebnogo eksperta i specialista so storony zashchity kak vyrazhenie principa sostyazatel’nosti v ugolovnom sudoproizvodstve. SPb.: Izd-vo SPb. un-ta MVD Rossii. 2017; 298–305. (In Russ.)]
Supplementary files