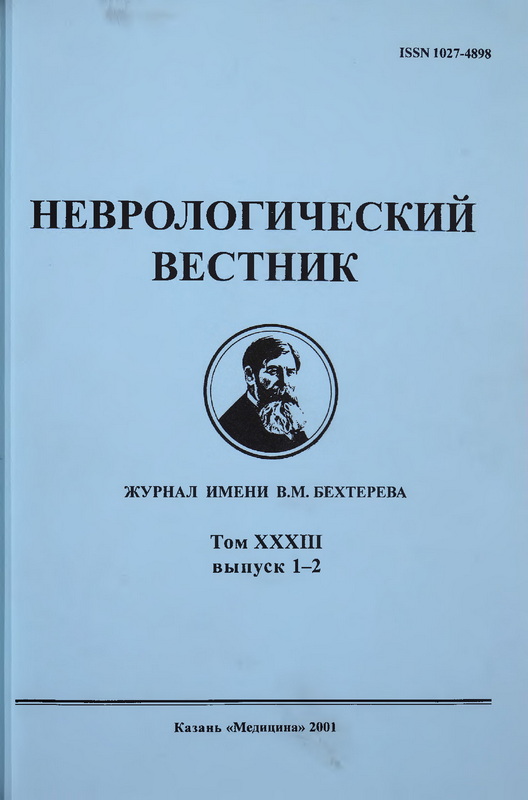Integrative activity of the brain in health and disease of the nervous system
- Authors: Bykov Y.N.1
-
Affiliations:
- Irkutsk State Medical University
- Issue: Vol XXXIII, No 1-2 (2001)
- Pages: 75-81
- Section: Articles
- Submitted: 08.09.2021
- Accepted: 08.09.2021
- Published: 15.05.2001
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/79755
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb79755
- ID: 79755
Cite item
Full Text
Abstract
Attempts to link human mental and mental activity with the brain were made in the days of Hippocrates (460-370 BC) and Galen (131-201). At the same time, a connection between the brain and movements on the opposite half of the body was noticed. This was judged by the occurrence of seizures in the half of the body opposite to the lesion of the head [44]. The origin of this fact was associated with a general disruption of the brain. The pathogenesis of all disease states was explained by the humoral theory. In accordance with it, the balance of four fluids - phlegm, blood, black and yellow bile - ensures the normal development and activity of the body. When the balance of these components is disturbed, a disease occurs [39]. In the 17th century, Thomas Willis, the author of the term "neurology", somewhat modernized the humoral theory [45]. He believed that general sensitivity is represented in the striatum, his own feelings in the corpus callosum, and memory in the cortex. This marked the beginning of the development of localization as a direction in the study of brain function. At the extreme pole of this scientific worldview is the phrenological teaching of Franz-Joseph Gall and his students [36]. They assumed that mental and moral qualities are localized in certain areas of the brain surface. At the same time, there is a direct relationship between the degree of development of a particular ability and the volume of its cortical representation. By the shape of the skull, its "tubercles" and "bumps, Gall tried to unravel the professional abilities of a person and characterological features. In 1842, Flurance and Haller put forward the thesis of the physiological equivalence of the cortex. The dogma of the equipotentiality of parts of the brain arose, and then the theory of universalism appeared.
Keywords
Full Text
Попытки связать мыслительную и психическую деятельность человека с головным мозгом были сделаны еще во времена Гиппократа (460—370 гг. до н.э.) и Галена (131—201 гг.). Тогда же была замечена связь мозга с движениями на противоположной половине туловища. Об этом судили по возникновению судорог на половине тела, противоположной поражению головы [44]. Происхождение данного факта связывали с общим нарушением работы мозга. Патогенез всех болезненных состояний объяснялся гуморальной теорией. В соответствии с ней баланс четырех жидкостей — флегмы, крови, черной и желтой желчи — обеспечивает нормальное развитие и деятельность организма. При нарушении равновесия указанных компонентов возникает болезнь [39]. В XVII столетии Томас Виллис, автор термина “неврология”, несколько модернизировал гуморальную теорию [45]. Он считал, что общая чувствительность представлена в полосатом теле, собственные чувства — в мозолистом теле, а память — в коре. Это положило начало развитию локализационизма как направления в изучении функций мозга. На крайнем полюсе этого научного мировоззрения находится френологическое учение Франца-Иосифа Галля и его учеников [36]. Они предполагали, что умственные и моральные качества локализуются в определенных участках поверхности мозга. При этом имеется прямая зависимость между степенью развития той или иной способности и объемом ее корковой представленности. По форме черепа, его “бугоркам” и “шишкам Галль пытался разгадать профессиональные способности человека и характерологические особенности. В 1842 г. Флюранс и Галлер выдвинули тезис о физиологической равноценности коры. Возникла догма об эквипотенциальности частей мозга, а затем появилась теория универсализма.
Следующий этап в развитии учения о мозге характеризуется соотнесением клинических симптомов с очаговым поражением нервной системы. В 1861 г. Брока на основании клинических фактов высказался против физиологической равноценности коры большого мозга. Он описал расстройства моторной речевой деятельности при повреждении третьей лобной извилины и подлежащего белого вещества и назвал его “центр моторных образов слов”. В 1874 г. Вернике открыл аналогичный “центр сенсорного образа слова” в верхней височной извилине. В 1864 г. английским невропатологом Джексоном была предложена иерархическая система трех уровней функционирования мозга: нижний — уровень стабильных функций, средний — сенсомоторный уровень и наивысший — уровень функций мышления, присущий человеку [43]. В обеспечении моторного поведения эти уровни организованы вертикально друг над другом. Джексон постулировал различные размеры моторного и сенсорного представительства различных частей тела в зависимости от степени их специализации. При этом он четко придерживался выдвинутого им правила: локализация дефекта и локализация функции — две различные проблемы.
Глубокий анализ накопленного экспериментального и клинического материала был проведен В.М. Бехтеревым. Лобные доли им определены “как место развития индивидуального ядра психической сферы вследствие отложения здесь последовательных следов от внутренних раздражений”. По его мнению, “лобные доли служат областями психорегуляторной деятельности, обусловливающей развитие высших познавательных функций, выражающихся правильной оценкой внешних впечатлений и целесообразным направлением и выбором движений сообразно с упомянутой оценкой” [4].
Диалектический подход к данному вопросу продемонстрировал в своих работах И.П. Павлов [17]. В соответствии с выдвинутой им рефлекторной теорией функция всегда приурочена к структуре, а динамика — к конструкции. В то же время локализация функции является относительной и динамической. Данные механизмы лежит в основе функциональной пластичности коры.
Дальнейшее развитие данный вопрос получил в работах И.Н. Филимонова [35]. Он выдвинул принцип поэтапной локализации функций, согласно которому на место статических изолированных центров приходит “сукцессионная или симультанная поэтапная локализация”. Отсюда вытекает идея о функциональной многозначности мозговых структур, которые могут включаться в различные функциональные системы и принимать участие в осуществлении различных задач.
Огромный вклад в развитие учения о церебральных механизмах внесли работы А.А. Ухтомского. Согласно разработанному им принципу доминанты, нервный центр определяется как «динамическая констелляция созвездия созвучно работающих ганглиозных участков, взаимно совозбуждающих друг друга... Увязка во времени, в скоростях, в ритмах действия, а значит, и в сроках выполнения отдельных моментов реакции впервые образует из пространственно разных групп функционально объединенный “центр”» [34].
Исследованию такой важнейшей интегративной функции мозга, как движение, посвящены работы крупного отечественного ученого Н.А. Бернштейна [3]. Им выделены функциональные уровни построения движений: ребро-спинальный, таламо-паллидарный, пирамидно-стриальный, теменно-премоторный и уровни, лежащие выше уровня действий, координирующие речь и письмо. Каждый очередной функциональный уровень построения движений содержит и приносит не новые качества движений, а новые полноценные движения.
Последующее развитие учения о функциональных уровнях было продолжено в работах А.Р. Лурия. На основании анализа богатого клинического материала средствами нейропсихологии им выдвинута концепция существования трех основных функциональных блоков [13, 14]. Первый блок регуляции тонуса и бодрствования включает мезенцефалическую ретикулярную формацию, неспецифическую систему таламуса, гиппокамп и хвостатое ядро. Его работа осуществляется под мощным корткофугальным контролем. Второй блок приема, переработки и хранения информации объединяет все задние отделы коры, в том числе модально специфичные зрительную, слуховую, соматическую сенсорную и межпроекционную теменную область коры. Для конструкции этого блока характерно иерархическое строение корковых зон с убывающей специфичностью и прогрессивной латерализацией функций. Третий блок обеспечивает программирование, регулирование и контроль сложных форм деятельности. В его состав входят префронтальные отделы коры мозга, выполняющие универсальную функцию общей регуляции поведения. Одним из признаков их поражения является нарушение регулирующей сигнальной функции речи.
Новый взгляд на проблему локализации функций в коре был введен П.К. Анохиным [1, 2]. Им предложена концепция функциональных систем, представляющих комплекс нервных образований с соответствующими им периферическими рабочими органами, объединенными какой-либо вполне очерченной и специфической функцией организма. Основными блоками функциональной системы являются следующие: афферентный синтез, включающий обстановочную афферентацию, следы в памяти, пусковую афферентацию и мотивационное возбуждение; стадия принятия решения. Сформированная программа действий обеспечивает приток афферентных импульсов к рабочим органам, и в результате происходит непосредственно само действие. Получаемый результат действия обладает определенными параметрами, которые сравниваются путем обратной афферентации с акцептором результата действия. При их полном совпадении функциональная система прекращает свое существование, а при их различии происходит корректировка программы действия. Собственно, сама функция представлена в качестве функциональной системы и теряет атрибуты локализованности. Таким образом, на смену теоретическим представлениям о функциональной организации мозга выдвигается обоснованная концепция системного функционирования.
Свое дальнейшее развитие теория системной организации функций головного мозга получила в работах К.В. Судакова [29, 30, 31, 32, 33]. Он является носителем идеи, что психическая активность динамически развертывается во времени на основе последовательно сменяющих друг друга стадий, описанных П.К. Анохиным. Отличительной особенностью системной архитектоники психической деятельности является то, что она целиком строится на информационной основе. Информация выступает как отношение субъекта к своим потребностям и их удовлетворению, а также к субъектам окружающей действительности. Информационный уровень затрагивает процессы отражений мозгом внутренних состояний организма и разнообразных воздействий на него многочисленных факторов внешней среды. Осуществление такого взаимодействия происходит на различных информационных экранах организма: ДНК и РНК (жидкие кристаллы), коллоиды межклеточного вещества (протеогликаны и гиалуроновая кислота), структуры мозга (коллоиды глии, отдельных нейронов). Взаимодействие на этих структурах доминирующей мотивации и подкрепляющей строится по голографическому принципу. Обратная афферентация, поступающая к акцептору действия от параметров достигнутых результатов, выступает в качестве “предметной волны”.
С позиции теории функциональных систем мозг человека представляет интеграцию центральных аппаратов множества функциональных систем поведенческого и гомеостатического уровня. Каждая функциональная система избирательно вовлекает различные структуры мозга и даже отдельные нейроны в саморегулирующуюся функцию. Мозг и психические функции рассматриваются как интегративное целое, обеспечивающее достижение с помощью доминирующей в конкретный момент функциональной системы удовлетворения ведущей потребности организма и, как следствие, социальной адаптации.
Образование в нервной системе интеграций различных нервных структур является пластическим механизмом ее деятельности в нормальных условиях. Происходит образование новых интегративных связей между нервными структурами. Это процесс происходит постоянно в соответствии с меняющимися воздействиями внешней и внутренней среды организма. Возникает адекватная физиологическая реакция нервной системы на различные раздражители.
При повреждении нервной системы развиваются структурные и функциональные дефекты, нарушаются нервные связи. Само по себе повреждение не является развитием патологического процесса, оно играет лишь триггерную роль. Развитие патологического процесса происходит с участием собственных, присущих самой нервной системе эндогенных механизмов. К числу таких механизмов относятся образование и деятельность интеграций из первично и вторично измененных нервных структур. Такие интеграции по характеру, механизмам и результатам своей деятельности бывают патологическими. На уровне нейрональных отношений патологической интеграцией является агрегат гиперактивных нейронов, продуцирующий чрезмерный, неконтролируемый поток импульсов. Такой агрегат представляет собой генератор патологически усиленного возбуждения. На уровне системных отношений патологической интеграцией служит новая патодинамическая организация, состоящая из различных отделов ЦНС и действующая как патологическая система [9, 10].
Генератор патологически усиленного возбуждения может возникать в различных отделах ЦНС. Обязательным условием его формирования и деятельности рассматривается недостаточность тормозных механизмов в популяции составляющих его нейронов. Чем значительнее нарушены тормозные механизмы в агрегате нейронов, тем более облегченно он активируется провоцирующими стимулами, тем больше нейронов вовлекается в продукцию возбуждения и тем более мощным и значительным оказывается его эффект. Взаимодействие в самом агрегате нейронов осуществляется несинаптическими и синаптическими механизмами. Несинаптические реализуются биологически активными веществами, выделяемыми возбужденными нейронами (К, NO, глутамат, аспартат и т.д.) и прямыми возбуждающими влияниями нейронов друг на друга [16]. В синаптических взаимодействиях, возможно, принимают участие активированные синапсы, которые были недейственны в нормальных условиях или новые синаптические образования (реактивный синапсогенез), или вставочные нейроны, или разросшиеся коллатерали [12]. Возникновению синаптических взаимодействий способствуют усиленные перестройки, происходящие в агрегатах нейронов при их гиперактивации и нарушении тормозных механизмов.
Однако сам по себе генератор как патологическая интеграция нейронов не в состоянии вызвать клинически выраженную патологию нервной системы. К такой патологии в виде нейропатологического синдрома приводит более сложная патологическая интеграция — патологическая система. Для нее характерно то, что генератор становится гиперактивным и приобретает способность существенным образом влиять на другие связанные с ним структуры ЦНС. Это определяет характер деятельности патологической системы. Сам генератор приобретает свойства детерминанты. Роль детерминанты заключается не только в системообразовании, но и в системостабилизации возникших патологических интеграций. Формирование патологической системы проходит следующие стадии: детерминанта с активирующим ее генератором, промежуточные звенья, центральное эфферентное звено системы, орган-мишень, конечный патологический эффект системы. Недостаточность внутрисистемных тормозных влияний приводит к тому, что система выходит из-под общего интегративного контроля ЦНС. В отличие от физиологической системы отрицательные обратные связи в патологической системе малоэффективны, положительные же постоянно укрепляются пластическими процессами [11].
Значение патологических систем заключается в том, что они являются патофизиологическими механизмами и патогенетической основой нейропатологических синдромов. Каждый синдром имеет свою патологическую систему. Другое свойство патологической системы — способность подавлять деятельность физиологических систем. Оба указанных свойства патологических систем обусловливают дезорганизацию деятельности ЦНС. Вероятно, подобные патофизиологические механизмы лежат в основе большинства неврологических заболеваний.
При острых нарушениях мозгового кровообращения ишемического типа в результате реализации патогенетических механизмов возникает ряд синдромов и симптомов, представляющих по своей сути нарушения интегративных механизмов нервной системы. В острейшей стадии заболевания наблюдается преобладание расстройств витальных функций организма — это первая реакция организма при нарушении гомеостаза центральной нервной системы. В острой и восстановительных стадиях клиническую картину заболевания определяет сочетание двигательных, чувствительных, координационных нарушений, расстройств высших мозговых и психических функций. Данные синдромы — проявления расстройства церебральной интеграции. От их регресса зависит степень медицинской, социальной и нередко психологической реабилитации больных, перенесших ишемический инсульт.
Большинство из названных синдромов представляют собой расстройства деятельности сенсомоторного комплекса и проявляются нарушениями двигательной активности: это грубые расстройства речи при синдромах экспрессивной и импрессивной афазий, разрушение полноценного двигательного стереотипа при синдромах центрального пареза или паркинсонизме, расстройства координации движений при атаксиях. Во всех названных случаях имеется расстройство как сенсорного, так и моторного компонента функциональной системы “Произвольное движение”. Впервые данное понятие было введено в 1979 г. В.А. Рудневым [19]. В дальнейших исследованиях было доказано, что в каждом произвольном движении могут быть выделены три уровня организации: биомеханический, нейрофизиологический и психофизиологический [20].
Психофизиологический уровень заключается в потребности осуществления произвольного движения. Она порождает возникновение и активацию функциональной системы произвольного движения. Учитывается своевременность или несвоевременность двигательной реакций по отношению к биологически актуализированной потребности, ее приуроченность К внешней или внутренней детерминации. Нейрофизиологический уровень обеспечивает сложный процесс реализации движения с интеграцией сенсорного и моторного компонентов. Учитывается скорость распространения биоэлектрических процессов по различным системам мозга и сложные топографические взаимоотношения различных аппаратов нервной системы. Биомеханический уровень определяется морфофизиологическими особенностями опорно-двигательного аппарата.
В соответствии с данными представлениями о характере интегративной деятельности мозга все используемые методы реабилитации больных с заболеваниями нервной системы можно условно разделить на следующие группы.
На биомеханический уровень направлены методы воздействия на мышечно-связочный аппарат. К ним относятся лечение положением — иммобилизация верхней конечности в позднем восстановительном периоде острого нарушения мозгового кровообращения [28], упражнения с силовой нагрузкой, приемы лечебной физкультуры, направленные на коррекцию положения конечности (коррекция положения стопы, положения пальцев), попытка восстановления двигательных стереотипов или “нейромоторное перевоспитание” [27], методы электростимуляции паретичных конечностей и биологически активных точек [15]. Используются методы электростимуляции групп мышц с помощью вживленных электродов [41], управляемые протезы верхних или нижних конечностей при центральных парезах. Последняя методика позволила увеличить объем движений в верхних конечностях на 68%, а в нижних — на 26% [42]. Эффективен способ динамической проприоцептивной коррекции [26]. Он позволяет с помощью специального антигравитационного костюма “Адели-92” формировать в условиях патологии центрального нейрона новый “афферентный каркас” (эффективность при гемипарезах достигает 72%). Определенные успехи достигнуты при лечении логоневрозов путем тренировки физиологического и речевого дыхания [6].
К методам, имеющим точку приложения на нейрофизиологическом уровне, можно отнести лекарственную терапию, воздействующую на состояние нервно-мышечной возбудимости и медиаторный обмен.
Для ускорения процессов реституции при органическом поражении центральной нервной системы используются активаторы биоэнергетического метаболизма, ноотропные препараты, неспецифические стимуляторы метаболизма (витамины группы В и их коферментные аналоги), антигипоксанты, антиоксиданты, ингибиторы протеолитических ферментов, вазоактивные препараты [8].
В психофизиологический уровень регуляции активности входят механизмы, устанавливающие пространственно-временные характеристики движения, при этом ведущая роль отводится анализаторам. Все функции восприятия, запечатления и воспроизведения осуществляются по принципу обратной связи и даже с элементами предвосхищения будущего результата. Указанный уровень тесно связан с психоэмоциональными процессами и категориями установок и потребностей. К методам, воздействующим на психофизиологический уровень, можно отнести следовую дорожку, периодизирующую пространственно-временные характеристики ходьбы при синдроме центрального пареза [7]. Для учета индивидуальной локомоции ходьбы в последующем стали применяться передвижные планки дорожки или педали, расчет на ЭВМ места постановки стопы [18]. Использование четкого обратного сигнала, характеризующего правильность выполнения двигательной задачи, применяется в адаптивном биоуправлении или биологической обратной связи [38]. Метод адаптивного биоуправления назначают для лечения речевых расстройств: при заикании, лечении афазий используется ряд логопедических приемов, направленных на восстановление логической структуры речи [5, 37], восстановление пространственных соотношений при построении фразы [40].
Безусловно, существенного эффекта в реабилитации неврологических больных можно добиться при комплексном воздействии на все уровни построения произвольных движений, что возможно осуществить в стационарных или поликлинических реабилитационных центрах.
Особое место в нейрореабилитологии занимают методы темпо-ритмового воздействия на двигательный акт [28]. К классическим приемам такой терапии относятся лечебная гимнастика в режимах музыкальных темпоритмов, используемая при паркинсонизме, атаксиях, центральных парезах. Во многих логопедических методиках и подходах используются ритмико-мелодические элементы в структуре речи для преодоления афатических расстройств, чтение стихов, пение песен, пропевание голосом ритмической структуры фразы. Логопедическая ритмика является одним из основных направлений в лечении заикания. При этом в качестве “речевого буксира” может служить двигательная ритмическая активность пальцев рук или всей кисти. В большинстве из названных методик коррекция темпо-ритмовых параметров движения происходит на субъективной основе.
Вопросы организации произвольных движений с учетом их временной темпоритмовой структуры и отработки подходов к реабилитации больных с патологией нервной системы в настоящее время изучены в значительной мере [18, 19, 20, 22, 23, 24, 25]. Обоснована необходимость количественного анализа временных параметров произвольного движения и выдвинута гипотеза об эффективности использования параметров времени в процессе реабилитации больных с двигательными нарушениями. На модели репродуктивного теппинга были количественно изучены особенности нарушений темпо-ритмовых движений при центральных парезах и атаксии, минимальной мозговой дисфункции и дисциркуляторной энцефалопатии, синдроме афферентного пареза и легкой черепно-мозговой травме.
В 1992 г. выдвинут принцип референтной биоадаптации [21]. Его принципиальное отличие от использовавшегося ранее принципа автобиоадаптации заключается в следующем. При автобиоадаптации в основу восстановления были положены природные возможности мозга, его способность к взаимозаменяемости и саморегуляции. При этом механизмы восстановления подбирали самостоятельно, использовали имеющиеся резервы мозга. Сохранность таких функций мозга при этом не учитывали. При органическом поражении мозга из-за развития дезинтеграционных процессов всегда имеется дефектность указанных механизмов. Использование их как основы в реабилитационных схемах может оказаться не только неэффективным, но даже порочным.
При референтной биоадаптации сначала производится количественный контроль оставшихся функциональных резервов мозга, выделяется ведущий сохранившийся частотный или модальный режим и затем предъявляется в качестве оптимального внешнего референта — помощника. Безусловными преимуществами данного метода являются выделение исходных сенсомоторных резервов нервной системы в индивидуальном плане перед реабилитацией и последующее управление процессом восстановления функций на основании обратной связи с достигнутыми результатами на различных этапах. Это позволяет прогнозировать, управлять и вовремя корректировать реабилитационные воздействия при патологии нервной системы.
About the authors
Yu. N. Bykov
Irkutsk State Medical University
Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com
Russian Federation, Irkutsk
References
- Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. — М.: Наука, 1978.— С.49-106.
- Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы.—М.: Наука, 1980.
- Бернштейн Н.А. О построении движений.—М.: Медгиз, 1947.
- Бехтерев В.М. Основы учения о функциях мозга.—СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1907.—Т.VI—VII.— С. 538-554.
- Бурлакова М.К. Коррекционно-педагогическая работа при афазиях. —М.: Просвещение, 1991.— 192 с.
- Власова Н.А. Комплексный метод лечения заикания у детей дошкольного возраста в условиях дневных стационаров специальных детских садов //Заикание. —М.: Медицина, 1983.—С. 100—138.
- Иноземцева А.С. Методика лечебной физкультуры при гемипарезах //Труды Гос. науч.-исслед. ин-та физкультуры.—М., 1941.— Вып. 9.—С.203— 251.
- Коган О.В., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии и нейрохирургии.—М.: Медицина, 1988.—304 с.
- Крыжановский Г.Н. Генераторные, детерминантные и системные механизмы расстройств центральной нервной системы //Журн. невропатол. и психиатр.1990.—№ 10.-С.3-11.
- Крыжановский Г.Н. Патологические интеграции в ЦНС//Журн. невропатол. и психиатр.—1998.— № 6.-С.51-56.
- Крыжановский Г.Н. Патологические интеграции в ЦНС //Бюл. эксперим. биологии и медицины.-1999.-Т. 127, № 3.-С.244-247.
- Кукуев Л.А. К проблеме локализации функций мозга//Журн. невропатол. и психиатр. —1974.— № 5.-С.769-775.
- Лурия А.Р. Основы нейропсихологии.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.
- Лурия А.Р. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга //Нейропсихология: Тексты.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.—С.66—74.
- Макарова Л.А. Клинико-электромиографическое исследование влияния электростимуляции на восстановление двигательных функций при гемипарезах сосудистого происхождения //Реабилитация больных нервными и психическими заболеваниями.-Л., 1973.-С.322-324.
- Отеллин В.А. Функциональная морфология медиаторных систем мозга //Журн. невропатол. и психиатр.—1998.—№ 1.—С.54—59.
- Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга //Полн. собр. соч.—М.: Изд-во АН СССР, 1947.-Т. IV. -С. 172.
- Руднев В.А. Установка для ритмической стимуляции ходьбы //Вопросы психоневрологии. 1968.-№ 8.-С.200-203.
- Руднев В.А. К вопросу о развитии произвольных движений человека //Вопросы невропатологии и психиатрии. — Красноярск, 1979.—С.7—77.
- Руднев В.А. Функциональная диагностика и восстановление произвольных движений при патологии центральной нервной системы. —Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1982. —160 с.
- Руднев В.А. Функциональный анализ сенсомоторных процессов мозга как методологическая и методическая основа теории и практики референтной биоадаптации //Журн. невропатол. и психиатр.—1994.—№ 6.—С.61—64.
- Руднев В.А., Боброва Л.В. Об организации произвольных движений человека в аспектах право- и леворукости //Журн. невропатол. и психиатр.— 1982.-№ 8.-С.1171-1174.
- Руднев В.А., Прокопенко С.В. Новые принципы реабилитации двигательных и речевых функций человека.—Красноярск, 1999.—160 с.
- Руднев В.А., Прокопенко С.В., Вознюк Е.Г. Индивидуальные особенности переработки образной и вербальной информации — психолого-педагогический аспект //Вузовская педагогика: Тез. науч.-практ. конф. —Красноярск, 1995.—С.9—14.
- Руднев В.А., Прокопенко С.В., Похабов Д.В., Народов А.А. Эволюция теории функционального анализа в организации циклических произвольных движений человека //Вопросы клинической и теоретической неврологии и психиатрии: Сб. науч. тр. Красноярск, 1989.—С.6—16.
- Семенова К.А. Обоснование метода динамической проприоцептивной коррекции для восстановительного лечения больных с резидуальной стадией детского церебрального паралича//Журн. невропатол. и психиатр.—1996.—№3.—С.47—50.
- Степаниченко О.В. Локальная гипотермия в коррекции двигательных и речевых расстройств при детском церебральном параличе //Журн. невропатол. и психиатр.—1990.— №8.—С.22—25.
- Столярова Л.Г., Ткачева Г.Р. Реабилитация больных с постинсультными двигательными расстройствами.—М.: Медицина, 1978.—216 с.
- Судаков К.В. Информационный принцип в физиологии: анализ с позиций функциональных систем //Успехи физиол. наук.—1995.—№ 4.— С.53-54.
- Судаков К.В. Теория функциональных систем.—М., 1996.
- Судаков К.В. Голографический принцип системной организации процессов жизнедеятельности //Успехи физиол. наук. —1997.—№4.— С.3-32.
- Судаков К.В. Информационные свойства функциональных систем: теоретические аспекты //Вести. Рос. АМН.1997.-№ 2.-С.4-9.
- Судаков К.В. Системная организация функций головного мозга: определяющая роль акцептора результатов действия //Журн. невропатол. и психиатр.—1998.—№ 4.—С. 13—19.
- Ухтомский А.А. Очерк физиологии нервной системы (1941) //Собр. соч.— Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1954.-Т. IV.-C.102.
- Филимонов И.Н. Сравнительная анатомия коры большого мозга млекопитающих.—М.: Изд-во АМН СССР, 1949.
- Ходос Х.-Б.Г. Нервные болезни.—Москва, 1965.
- Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение.—М.: Просвещение, 1988.—192 с.
- Черниговская Н.В., Мовсисянц А.Н., Тимофеева А.Н. Клиническое значение адаптивного биоуправления.—Л.: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1982.
- Clarke Е. Apoplexy in the Hippocratic writings //Bull. Hist. Med.-1963.-Vol. 37.-P.301-14.
- Critchley M. The parietal lobes.—London: Arnold, 1983.—P.80—125.
- Csonka J., Milner M., Naumann S. Electrical stimulation strategy to inhibit spasticity during gait //J. Rehabil. Res. And dev.—1991.—Vol. 28, № 1.— P.308-309.
- Fenarm M., Pedothi A., Boccardi S., Palmeri R. Biomechanical assessment of paraplegic locomotion with hip guidance orthrosis (HGO) //Clin. Rehabil.— 1993.-Vol. 7, № 4.-P.303-308.
- Jackson J.H. A lecture on softening of the brain //Lancet.-1875.-Vol. II-P.335-338.
- McHenry L.C. Garrison’s History of Neurology.— Springfield: Charles C. Thomas, 1969.
- Meyer A., Hierons R. Observations on the history of the “Circle of Willis” //Med. Hist.—1962.—Vol. 6.— P.119-130.
Supplementary files