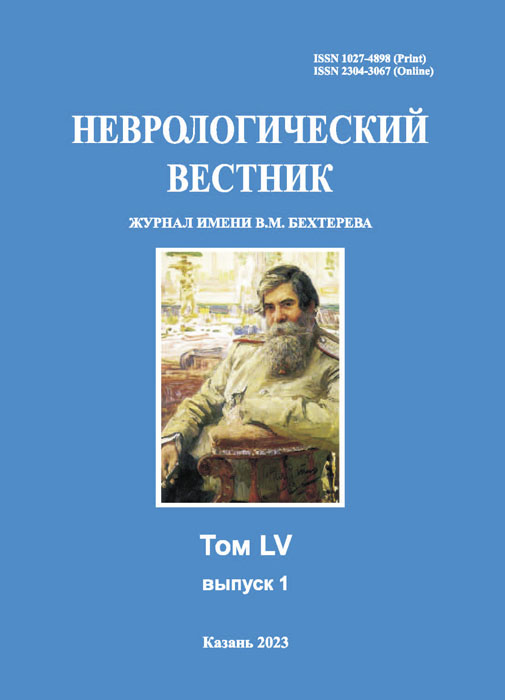К вопросу о психологической структуре синдрома отчуждения и механизмах негативного контента «голосов»
- Авторы: Сагалакова О.А.1, Труевцев Д.В.1, Жирнова О.В.1,2
-
Учреждения:
- Московский государственный психолого-педагогический университет
- Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана
- Выпуск: Том LV, № 1 (2023)
- Страницы: 35-46
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 13.12.2022
- Статья одобрена: 10.01.2023
- Статья опубликована: 24.04.2023
- URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/117415
- DOI: https://doi.org/10.17816/nb117415
- ID: 117415
Цитировать
Аннотация
Цель. Обсуждение исторических традиций, современных подходов и данных экспериментальных исследований синдрома отчуждения, включающего явления психического автоматизма, деперсонализации, «голосов»; осмысление соотношения явлений отчуждения и диссоциации.
Результаты и выводы. Проанализированы данные классических патопсихологических экспериментов исследования психологической структуры синдрома отчуждения. В патопсихологической школе Б.В. Зейгарник изучены аспекты ситуации обследования, включающие умственное напряжение, наличие заметных испытуемому ошибок, как модераторы динамики синдрома Кандинского–Клерамбо. Показана роль фактора социального оценивания как значимого источника усиления или ослабления симптомов. Проявления отчуждения часто воспринимаются как негативные воздействия, имеющие власть над человеком, управляющие им, ставящие в унизительное положение, оскорбляющие, «создающие помехи» в работе. Слуховые галлюцинации — не столько аудиальное событие, перцептивный дефект, сколько психосоциальное диалогическое явление, воплощающее интернализованные, часто негативные паттерны социального взаимодействия. Современные виды психотерапии слуховых галлюцинаций включают понимание роли метакогнитивных стратегий, социальных эмоций, негативного контента и особенностей взаимодействия с «голосом».
Полный текст
Современные тенденции в психиатрии, плюрализм концепций шизофрении как сигнал о важности разработки патопсихологии психотических переживаний
Дискуссии, связанные с разработкой концепции сложных психопатологических явлений, изучением факторов, условий развития и усложнения симптомов, формированием эффективных методов фармако- и психотерапевтического вмешательства, набирают свои обороты на научной арене. Не вызывает сомнений важность поиска консенсуса между патопсихологом и психиатром в вопросе интегративного осмысления тех феноменов психики, в первую очередь — психотических переживаний, которые длительное время не включали в психологические исследования. Психиатрические и патопсихологические знания не только связаны, но и взаимодополняемы, поскольку специалисты имеют общую цель — помочь страдающему человеку, достичь которой можно посредством разрешения противоречий при сохранения своего предмета исследования.
Переход от классического категориального подхода классификации психических болезней к дименсиональному, распространение идей сетевого анализа в психиатрии [1] определяют нецелесообразность рассмотрения психопатологии как устойчивого набора симптомов, специфичного для конкретной нозологии, что согласуется с наблюдаемой высокой коморбидностью психических расстройств, стирает границы заболеваний. Гибкими выступают границы не только между психопатологиями, но и между нормальным и патологическим вариантами проявлений психики. Идея раскрытия психологических механизмов психопатологических феноменов соответствует фундаментальному принципу патопсихологии о единстве закономерностей протекания психической деятельности в норме и при патологии [2, 3].
Проблематика психологического изучения психотических симптомов теснейшим образом связана с историческим контекстом осмысления шизофрении, поскольку анализ места и «веса» шизофрении в системе различных психических заболеваний отражает уровень развития знаний о психопатологии в целом. Современные изменения в психиатрической диагностике шизофрении способствуют её рассмотрению «наравне» с прочими психозами, осмысляется высокая распространённость психотических симптомов при непсихотических расстройствах [4].
В отечественной психиатрии синдром Кандинского–Клерамбо [5, 6] — вариант галлюцинаторно-параноидного синдрома, включающий слуховые галлюцинации (СГ, или «голоса»), бред воздействия и синдром психического автоматизма. Имеет статус распространённого рабочего диагностического инструмента и мыслится как психопатологическое явление, специфичное для шизофрении. Наряду с этим, предметом клинико-психопатологического анализа выступал вербальный галлюциноз, встречающийся не только при шизофрении, по и при органических психозах [7].
Многочисленные описания яркого синдрома встречаются в литературе в основном в аспекте обобщения субъективных описаний, метких наблюдений, обнаруженных «с глазу» симптомов синдрома Кандинского–Клерамбо. Отдельного внимания заслуживает систематизация применяемых в отношении необычного опыта понятий и характеристик самими пациентами. Однако такая логика изучения феномена не приводит к раскрытию механизмов явления.
До сих пор, несмотря на прогресс науки в области изучения природы психотических расстройств, при анализе проявлений синдрома Кандинского–Клерамбо исследователи и практики по большей части ориентируются на самоотчёты пациентов, результаты беседы и наблюдения, игнорируя экспериментальные методы исследования расстройств психики. Вместе с тем, особое нарушение самовосприятия и самосознания при психическом автоматизме выступает обстоятельством, затрудняющим достоверность описаний. Вероятно, есть существенное расхождение между раскрывающимися в беседе, доступными непосредственному наблюдению признаками и объективно существующими особенностями нарушений психической деятельности. Существует дефицит современных исследований структуры и закономерностей нарушений при синдроме психического автоматизма или аналоговых состояниях, квалифицируемых в науке с помощью альтернативной терминологии (чувство agency, чувство self и т.д.) [8].
А.А. Меграбян [9] предположил, что основу данного синдрома, как и основу феноменов деперсонализации, составляет патология самовосприятия субъектом психических процессов, или, как подметил Груле, расстройство «сознания Я». А.А. Меграбян объясняет синдром нарушением в работе так называемых «гностических чувств», играющих роль взаимодействия между самовосприятием и самосознанием и появлением высших автоматизированных навыков, возникающих как результирующая обобщения опыта ощущений и восприятий. Гностические чувства характеризуются тем, что обобщают знания о предметах в чувственной форме, обеспечивают чувство авторства психических процессов «я», включают определённый эмоциональный тон и его характеристики. В начальной стадии синдрома отчуждения, к которому были отнесены и явления деперсонализации, психического автоматизма, обнаруживались факты «распада сенсорных функций», искажения идентификации предметов, на высоте психоза происходит полное отчуждение психических процессов.
Термин «диссоциация» используют для описания целого ряда изменённых состояний сознания и восприятия, которые включают относительно нормативные формы психологического «отключения», а также дистрессовые переживания, такие как дереализация, деперсонализация и изменение идентичности, ассоциированные с одной из ступеней развития синдрома психического автоматизма, что согласуется с данными о нарушении «минимального Я» при расстройствах шизофренического спектра.
В литературе обсуждают соотношение отчуждения и диссоциативных явлений психики. Выделяют континуум диссоциативных явлений различной степени выраженности — на его части с тяжёлыми состояниями располагаются разъединение (detachment) и компартментализация, или изоляция (compartmentalization). Если detachment как неприсвоение психотравмирующего события перекликается с дереализацией и деперсонализацией, отражающими потерю привычной связи с объективной реальностью, собственными телом, то compartmentalization представляет собой нарушение сознательного контроля над психическими процессами. На другой части континуума находится абсорбция как состояние сниженной дифференцированности внимания, сопровождающееся ощущением слияния с окружающим миром [10].
Опыт экспериментально-патопсихологического исследования нарушений психической деятельности при синдроме Кандинского–Клерамбо. Условия и психологические механизмы развития, провокации и динамики явлений отчуждения
До сих пор нарушения психической деятельности не сопоставлены с симптомами психического автоматизма, недостаточно изучены условия, влияющие на возникновение и динамику психического автоматизма, равно как и других категорий психотического опыта. Без понимания психологических закономерностей нарушения невозможно научно обоснованное вмешательство. Однако сопоставление симптомов со структурой нарушений психической деятельности может быть детерминировано несовременными представлениями о психотических симптомах как о «стабильном» дефиците, напрямую вызванном биологическими причинами, а также о якобы «типичных» для нозологий категориального подхода нарушениях мышления [11].
Природа симптома не предопределяется поражением мозга, её нужно исследовать экспериментально. Минуя эксперимент, излишне опираясь на мастерство наблюдения, легко прийти к произвольным выводам, не позволяющим проникнуть в сущность явления, без чего невозможно развитие науки.
Уникальные экспериментальные исследования психологической структуры синдрома Кандинского–Клерамбо реализованы в Лаборатории экспериментальной патопсихологии в 1960-х годах. Под руководством заведующей данной лаборатории, основоположницы патопсихологической школы, Б.В. Зейгарник Т.А. Климушевой [12] проведена серия опытов по изучению психологических закономерностей психического автоматизма и определению условий, усиливающих и ослабляющих проявления синдрома.
Соглашаясь с представлениями А.А. Меграбяна в объяснении природы психического автоматизма и объединении его с феноменом деперсонализации в один общий синдром отчуждения, Т.А. Климушева считает недостаточно дифференцированными данные категории, а обозначенное им представление об адекватности умственных процессов при психическом автоматизме квалифицирует как дискуссионное и требующее уточнения. Разделяя идею о «типичных» для шизофрении нарушениях мышления, специфически проявляющихся на разных стадиях заболевания, в эксперименте с пациентами на поздних стадиях синдрома предсказуемо выявлены соответствующие особенности мыслительной деятельности (разноплановость, опора на «слабые» признаки и т.д.), которые, согласно описанию результатов опыта, на ранних стадиях проявлялись слабо, становясь более рельефными при работе с аффективно-значимым материалом и практически исчезая в работе с нейтральным.
В дополнение к основному клиническому методу изучения больных Т.А. Климушева проводила экспериментально-психологическое исследование с использованием методик, варьирующих умственную нагрузку: заучивание 10 слов, отсчитывание, называние 60 слов, пиктограмма, классификация, сравнение понятий, простые аналогии, методика Выготского–Сахарова и др.
В группе с ранним проявлением синдрома психического автоматизма ситуация обследования вызывала компенсаторное смягчение расстройств мышления. Здесь ассоциации характеризовались эмоциональной насыщенностью, в отличие от поздних проявлений синдрома. Часто пациенты предъявляют жалобы на ощущения «вторжения в мысли», легко обнаруживаемые в самоотчётах.
Экспериментальное исследование Т.А. Климушевой продемонстрировало известную динамику феномена, не совпадающую с субъективными жалобами. Так, при обследовании с использованием одних методик проявления психического автоматизма возникали и усиливались, в то время как при использовании других задач они не обнаруживались. Проявляющими синдром оказались методики, применение которых провоцировало переживание трудности решения задачи, в которых «им самим были заметны ошибки и неудачи» и «требовалось известное интеллектуальное напряжение». Экспериментально вызванные явления «отчуждённого» объяснения неуспеха были характерны при поздних стадиях синдрома.
Психопатологическое явление, связанное с тяжёлыми проявлениями отчуждения как стабильного дефекта, оказалось динамическим феноменом, зависящим от психологических характеристик задания и восприятия задачи испытуемым как трудной, обнаруживающей
неуспех и ошибки, то есть провоцирующих соответствующие переживания внутреннего и внешнего стыда, неловкости, которые, отчуждаясь, воспринимаются в виде «внешних воздействий». Условием, провоцирующим явление психического автоматизма (в умственной деятельности), служит «субъективное ощущение усилия, напряжения выполненной умственной работы, где трудность и неверность решений могут быть заметны самому больному» [12]. Психический автоматизм не выводится из расстройств мышления, является нарушением самовосприятия и самосознания, вызванным, в том числе, психосоциальными факторами. В опыте удалось показать роль фактора социального оценивания как значимого источника усиления или ослабления симптомов.
В русле изучения влияния изоляции [13] на психическое состояние человека, погружённого в различные жизненные ситуации, обнаружились обстоятельства, провоцирующие «аномальный» синдром психического автоматизма, реактивные психозы, которые чаще не обладали патологическим характером и редуцировались при возвращении людей в привычные условия. К таковым условиям относятся географическая изоляция, относительная социальная изоляция и длительная вынужденная одиночная изоляция, сенсорная депривация.
Для понимания механизма взаимовлияния психологических факторов и ситуационных переменных в процессе формирования явлений отчуждения показательны эксперименты, в которых испытуемых на длительное время помещали в одиночные сурдокамеры. Ситуация подразумевала непрерывное наблюдение за человеком, обезличенное взаимодействие с экспериментатором, вынужденную утрату привычной подконтрольности действий, что является воплощением публичного одиночества, вызывающего психо-эмоциональное напряжение.
Поскольку в привычной жизнедеятельности человек погружён в среду, наполненную многочисленными раздражителями, и психика готова обнаруживать их и реагировать, то условия сенсорной депривации вкупе с ситуацией неопределённого экспертного социального оценивания способствуют чрезмерной концентрации своего внимания на самоощущениях. К примеру, испытуемый высказывался о «чувстве присутствия постороннего человека», что исследователи объяснили как ошибочную интерпретацию внешнего стимула (поток воздуха из вентиляционной системы) в результате обострения кожной чувствительности в условиях сенсорной депривации — при вынесении вывода человек начинает опираться на внутренние ментальные процессы.
В отечественной патопсихологии классически изучали особенности мотивации, селективности и коммуникативного процесса при шизофрении. В настоящий момент А.Б. Холмогорова и её коллеги проводят исследования нарушений социального познания — ангедонии как дефекта его мотивационного компонента, свойств ментализации — при расстройствах шизофренического и аффективного спектров, разрабатывают и активно внедряют в психотерапевтическую практику тренинги для развития социальных и коммуникативных навыков, а также навыков целеобразования и достижения целей у пациентов с шизофрений [14].
А.Ш. Тхостов и И.В. Журавлёв [15] изучают семиотико-психологические механизмы «неприсвоения», или отчуждения, собственной психической продукции при синдроме психического автоматизма, осмысляют процесс нарушения закономерностей конституирования субъективности, который воплощается в разобщении «горизонтальных» (Я-другой) и «вертикальных» (индивидуальное-надиндивидуальное) отношений. Утрату сознательного опосредствованного контроля собственных мыслей, ощущений и эмоций, двигательных актов следует интерпретировать сквозь призму концепта субъекта, способного осознавать себя как «активную, единую, самотождественную цельность» и переживать «психические события как свои или чужие» (с. 63). Потерю произвольного контроля над собственными мыслями, клиническим воплощением которой могут быть СГ, можно осмыслить с точки зрения теории «объектного» и «субъектного» самоанализа — первый вид самоанализа заключается в фокусировке на себе как на объекте, а последний — в направленности самоанализа на объекты внешней среды [16].
Явления отчуждения крайне распространены у людей, перенёсших неблагоприятные травматические события. Диссоциация как ответ на травму для минимизации дистресса, испытываемого при столкновении с непреодолимыми жизненными обстоятельствами, получила основательную эмпирическую поддержку в ряде поперечных и продольных исследований, указывающих на устойчивую связь между травмой и диссоциативным опытом у детей и взрослых. В результате дезинтеграции перспектив от первого (субъектное тело) и третьего (объектное тело) лиц, утраты имплицитного образа тела искажается самовосприятие, которое отвечает за фоновое присутствие человека в ситуации. Избыточная поглощённость в личные переживания усиливает деперсонализацию у пациентов с явлениями отчуждения психики, СГ — интенсивное самофокусирование на мыслях, которое может привести к парадоксальному охранительному эффекту дистанцирования от них и собственных внутренних переживаний, особенно если они связаны с воспоминаниями о травме [17].
Отчуждение как психосоциальное событие: роль социальной тревоги, стыда, травмы и метакогнитивных стратегий в формировании негативного контента «голосов»
СГ встречаются при ряде психиатрических расстройств, а также в общей неклинической популяции. Фактором, определяющим потребность в медицинском сопровождении, является то, что и как говорят «голоса» (их контент) [18]. Негативное содержание «голоса» — предиктор дифференцированности клинической и неклинической групп. В первых когнитивных моделях СГ центральным компонентом, вызывающим интенсивный дистресс, рассматривались убеждения о галлюцинациях — власти «голоса», его враждебности/доброжелательности и так далее, однако в настоящее время в науке актуально обращение внимания на негативное содержание «голоса» [19]. Акцент на контенте и характеристиках «голосов», диалогических функциях и смысле явления становится мировым трендом в изучении СГ как с точки зрения концептуализации, так и с позиции психотерапии [20].
Психологическая концептуализация СГ заключается в рассмотрении их как сложной когнитивно-перцептивной деятельности тревожного напряжённого прислушивания, имеющей как «объект» восприятия, так и воспринимающий активный субъект. В самых современных исследованиях подтверждается ассоциированность СГ с неблагоприятным отчуждённым социально-эмоциональным опытом. Последний нередко выступает основой для формирования негативного контента «голосов» («голоса» критикующие, оскорбляющие, стыдящие, враждебные). «Голоса» мыслятся как деконтекстуированные интрузивные воспоминания о них, диссоциативная реакция на неразрешённый внутренний конфликт.
Человек выстраивает определённые отношения с «голосом», воплощающие те навыки и стратегии взаимодействия, которые он использует в ситуациях реальной коммуникации с другими людьми. Зачастую социальное окружение воспринимается слышащими «голоса» как тотально угнетающее, не удовлетворяющее потребности, человек ощущает себя пассивным, уязвимым к межличностной угрозе. Люди с опытом СГ нередко ожидают негативной оценки себя и своего поведения, критикующих комментариев — «голоса» провоцируются не только в тишине, одиночестве, но и при большом скоплении людей.
Активно обсуждаются «повторное расширение внутренней речи» в ситуации стресса до оформления галлюцинаторных высказываний, её ошибочные восприятие и интерпретация как чуждой. Нередко сам процесс мышления, отдельные неприятные, неприемлемые повторяющие мысли становятся объектом тревоги, отчуждаясь [21].
Чаще всего в клинических выборках психотический опыт воспринимается как негативный — пугающий, мешающий, создающий помехи, обрывающий мышление, управляющий, заставляющий делать что-то нежелательное. Объективный анализ деконтекстуализированного лингвистического содержания «голосов» (фактических слов) подтверждает наличие негативного содержания примерно у трети имеющих опыт СГ [22].
Масштабные исследования феноменологии СГ проливают свет на особенности и характер контента «голосов», однако содержание, оцененное объективными методиками как «нейтральное», субъективно часто воспринимается как негативное самим слышащим «голос» [23].
В восприятии валентности контента «голоса» участвуют и другие критерии, например межличностный контекст и тон «голосов». Определение содержания «голоса» как враждебного или оскорбительного, а не негативного, имеет отношение к тому, какие аспекты значения, придаваемого «голосу», лучше рассматривать как вторичные оценки, а какие — как более фундаментальные характеристики опыта [19]. Есть весомые доказательства того, что симптомы отчуждения при психозе отражают ключевое самовосприятие с низким социальным рангом — человек считает себя находящимся в нежелательном подчинённом положении и подверженным контролю и унижению со стороны других.
Пережитые в детстве травмы и неблагоприятные события модерируют негативный нарратив «голосов», связанный с переживаниями стыда и социальной тревоги [24]. СГ с повышенной бдительностью к социальным угрозам, тревогой могут быть частью более широкого класса «голосов», представляющих собой интрузии высокозначимого материала в сознание. То, что для нас значимо, связано с угрозой физической целостности или социальной ценности — это может объяснить, почему содержание СГ так часто бывает негативным. Переживание социальной угрозы после травмы, выражающееся в эмоции стыда, может способствовать развитию «голосов» и определять их содержание [25]. Эмоция стыда в ситуациях, обнажающих несоответствие, ошибочность, неуместность, — одна из самых «галлюциногенных» эмоций, поскольку для совладания с ней запускаются процессы диссоциации, усиливающие деперсонализацию, объектную позицию самовосприятия, фрагментарное кодирование опыта.
При изучении роли руминаций о содержании видеоматериала со сценами насилия в формировании СГ было обнаружено, что они не приводят к усилению СГ [26], либо экспериментальный материал не был эмоционально значимым для участников. Руминации могут не играть роли в формировании СГ, но они вовлечены в поддержание симптома и опосредуют ухудшение состояния [27].
Влияние руминаций на частоту СГ с использованием задачи идентификации «голоса» (провоцирующей необычное восприятие) изучали в группе нормы для уточнения модели поддержания СГ, в соответствии с которой дистресс от «голосов» считают результатом негативных интерпретаций интрузий, запускающих руминации, опосредованно усиливающие «голоса». Однако при сравнении двух типов индуцированного поведения в отношении частоты интрузий (отвлечение или руминации) не было достоверных различий. Выделение отдельных факторов и механизмов в когнитивной модели психоза не может дать значимых результатов, поскольку только их системное взаимодействие поддерживает СГ. При сравнении двух стратегий не учитывали негативное содержание и эмоциональную валентность СГ [28].
Контрстратегия руминации — отвлечение, — характерная при СГ, фактически приводила к обратному результату — снижению способности справляться с «голосом», воплощая избегание и подавление, которые, наоборот, усиливают «голоса». Задание на «отвлечение» сработало как вариант подавления/супрессии интрузий, усиливая навязчивые мысли о СГ, что поддерживает галлюцинации и приводит к дистрессу [29].
Самосфокусированное внимание — переменная, связанная с исследованием генеза СГ и ассоциированная с поддержанием социальной тревоги [30]. В эмпирических моделях верифицировано, что связь не является прямой, она опосредована деперсонализацией [31]. Между самосфокусированным вниманием, поглощённостью и деперсонализацией существует тесная взаимосвязь на уровне паттерна когнитивных искажений у людей со СГ или с высокой предрасположенностью к ним. Пациенты с «голосами» демонстрируют высокий уровень самофокусировки, погружённости в личные переживания и высокий уровень деперсонализации, при этом все переменные связаны между собой.
В исследовании у пациентов с психотическими симптомами в виде СГ показатели самсфокусированного внимания оказались выше, чем в неклинической группе, но не отличались от пациентов с психозами без галлюцинаций. Диссоциативные переживания в этой выборке более свойственны пациентам, сталкивавшимся с галлюцинаторным опытом, и связаны с самофокусированным вниманием. Самофокусировка положительно коррелирует не только с «голосами», но и с бредом и деперсонализацией, причём последняя опосредует связь самофокусировки со СГ, но не с бредом.
Навязчивости демонстрируют значимую связь с поглощённостью — диссоциативным феноменом, который заключается в сниженной дифференцированности внимания, что отражается в чрезмерной абсорбции интернальных процессов и внешних стимулов.
Самофокусировка может иметь как адаптивные, так и неадаптивные эффекты, в зависимости от усвоенного стиля обработки [32]. Различаются два режима самофокусировки внимания: (1) «оценочный» режим, который включает оценку мыслей, ощущений и чувств в отношении Я, (2) режим «mindful» (майндфул, произвольное не вовлечённое в оценивание внимание), предполагающий самосознание текущего переживания мыслей и чувств безоценочно. Режим mindful характеризуется как адаптивный и приводящий к снижению дистресса, в то время как «оценочный» приводит к неадекватной переработке, поддерживает и усиливает дистресс [33].
Руминации включают негативную оценку себя, эмоций, поведения, ситуаций, жизненных стрессоров и их преодоления, являются оценочной формой самофокусированного внимания. Избыточная самопоглощённость и руминации составляют паттерн нерефлексивного и противоположного режиму mindful самосфокусированного внимания, способствующего в условиях недавней травмы формированию и поддержанию явлений отчуждения психики, СГ, даже в неклинической выборке.
Механизм, с помощью которого руминативная самосфокусированность на себе поддерживает психотический опыт, остаётся не до конца прояснённым. При изучении депрессии данный режим самофокусировки приводит к избыточному обобщению в памяти и негативным автобиографическим воспоминаниям [33] и снижает способность решать проблемы. Следовательно, руминации о параноидальных идеях, СГ потенциально могут привести к избыточно обобщённым воспоминаниям о прошлом негативном опыте, усиленному извлечению негативных воспоминаний, связанных с взаимодействием с другими, и затруднению совладания с тем, как реагировать на этот опыт. Самофокусированное внимание mindful переопределяет сознание так, что руминации как оценочный режим самофокусировки не актуализируются. Это следует учитывать в процессе построения программ вмешательства при явлениях отчуждения [34].
Эффективные научно обоснованные стратегии психологического вмешательства при «голосах» и диссоциации. Метакогнитивные стратегии обработки неблагоприятного, травматического опыта как мишени психотерапии
Ориентация на психологические процессы, ответственные за повышенную уязвимость к психотическим переживаниям у людей, подвергшихся травматическому опыту, представляет перспективное направление для разработки эффективных вмешательств [35]. Посттравматические симптомы опосредуют связь между воздействием травмы и психотическими переживаниями. Когнитивно-поведенческое избегание, бдительность и симптомы повторного переживания представляют собой лишь некоторые из возможных посттравматических последствий, влияющих на уязвимость к отчуждению. Диссоциацию всё чаще изучают как потенциальный медиатор взаимосвязи между травмой и психотическими переживаниями, СГ.
Когнитивно-поведенческая терапия — современная передовая практика в лечении дистресс-«голосов», оказывает небольшое, но значительное влияние на тяжесть «голосового» слуха [23]. Когнитивно-поведенческие подходы к «голосам» обычно включают совместную оценку и формулирование факторов, способствующих дистрессу клиента, и индивидуальное вмешательство, направленное на эти факторы с использованием ряда когнитивно-поведенческих стратегий. Вмешательства обычно включают фокус на увеличении способности справляться с трудностями и устранении нежелательных убеждений о «голосе», которые являются эмпирически выведенными целями, способствующими дистрессу, связанному с «голосом». Эти компоненты вмешательств при когнитивно-поведенческой терапии могут затрагивать механизмы, вовлечённые в негативное «голосовое» содержание, такие как негативные схематические убеждения и повышенная бдительность по отношению к социальной угрозе, и, следовательно, воздействовать именно на негативное «голосовое» содержание.
Изучение эффективности лечения фокусировалось на общей тяжести, частоте и дистрессе «голоса» или на соблюдении «голосовых» команд, или на убеждениях о злобе и всемогуществе «голоса» в качестве интересующих нас результатов. На сегодняшний день нет исследований психологической терапии при дистрессе от «голоса», в которых содержание «голоса» рассматривали бы как основной результат. Учитывая, что негативное содержание «голоса» может быть ключевым фактором дистресса, связанного с «голосом», растёт консенсус в отношении того, что негативное содержание СГ служит важнейшим показателем успешности терапии [19]. Действительно, наш клинический опыт показывает, что клиенты часто приходят на психологическую терапию с надеждой изменить негативное содержание «голосов» [36].
Терапевтические направления, сфокусированные на сострадании или травме, могут быть перспективными вмешательствами в тех случаях, когда речь идёт о воспоминаниях о травме или повышенной бдительности к социальной угрозе [36]. Вмешательство, основанное на межличностном взаимодействии, такое как терапия отношений [37], подход «Разговор с “голосами”» [38] или AVATAR-терапия [39], показано в тех случаях, когда отношения с «голосами» отражают прошлый опыт дискриминации. Неблагоприятные жизненные события лежат в основе негативного контента СГ, и эта связь может быть опосредована такими механизмами, как социальная тревога, снижение социального ранга, стыд и самобичевание, диссоциация и нарушенная обработка эмоциональный явлений.
Концепция терапии, сфокусированной на сострадании, предполагает, что неспособность смягчить стыд либо прийти к самоуспокоению может закрепить угрозу [40]. Переживания стыда и вины могут лежать в основе негативного содержания «голоса», а работа с этими эмоциями в терапии способна привести к изменению аффективной валентности слышащих «голоса».
Метакогнитивная стратегия «не думать», «подавить мысль» и кажущиеся рациональными более мягкие разновидности супрессии ментальных событий в виде «отвлечения» в соответствии с эффектом бумеранга приводят к обратному, интенсивно поддерживая «голоса» и усиливая дистресс. Современные стратегии психологического вмешательства учитывают метакогнитивные и когнитивные факторы поддержания СГ и исходят из задачи, практически противоположной редукции или исключению опыта, поскольку такая задача и соответствующие инструменты её решения приводят к обратным эффектам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российский научный фонд (РНФ) в рамках научного проекта №22-28-01310.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Вклад авторов. Сагалакова О.А. — руководство работой, написание текста рукописи, обзор и перевод публикаций по теме статьи; Труевцев Д.В. — написание текста рукописи, редактирование текста рукописи; Жирнова О.В. — написание текста рукописи, обзор и перевод публикаций по теме статьи.
Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 22-28-01310.
Conflict of interests. The author declare no conflicts of interests.
Contribution of the authors. O.A. Sagalakova — head of work, manuscript writing, review and translation of relevant publications; D.V. Truevtsev — manuscript writing, manuscript editing; O.V. Zhirnova — manuscript writing, review and translation of relevant publications.
Об авторах
Ольга Анатольевна Сагалакова
Московский государственный психолого-педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: olgasagalakova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9975-1952
SPIN-код: 4455-7179
Scopus Author ID: 57190580782
ResearcherId: U-4959-2019
канд. психол. наук, доц., научный сотрудник
Россия, МоскваДмитрий Владимирович Труевцев
Московский государственный психолого-педагогический университет
Email: truevtsev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4246-2759
SPIN-код: 2983-0984
Scopus Author ID: 57190579221
ResearcherId: U-4998-2019
канд. психол. наук, доц., научный сотрудник
Россия, МоскваОльга Владимировна Жирнова
Московский государственный психолого-педагогический университет; Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана
Email: olga.zhirnova.2015@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6680-8286
SPIN-код: 6870-8526
Scopus Author ID: 57219055686
ResearcherId: AAU-6874-2020
мл. науч. сотрудник, медицинский психолог
Россия, Москва; БарнаулСписок литературы
- Borsboom D. A network theory of mental disorders // World Psychiatry. 2017. Vol. 16. N. 1. P. 5–13. doi: 10.1002/wps.20375.
- Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: Изд-во МГУ; 1976. 240 с.
- Рубинштейн С.Я. Экспериментальное исследование обманов слуха. В кн.: Патопсихология. Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская. М.: УРАО; 1998. с. 59–72.
- Менделевич В.Д., Гатин Ф.Ф., Хамитов Р.Р. и др. Психотические симптомы при непсихотических расстройствах: ошибки диагностики или новая реальность? // Неврологический вестник. 2022. Т. 54. Вып. 2. С. 5–12. doi: 10.17816/nb108655.
- Кандинский В.Х. К учению о галлюцинациях // Медицинское обозрение. 1880. Т. 3. С. 815–824.
- Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. М.: Медгиз; 1952. 175 с.
- Менделевич Д.М. Структурно-динамический анализ вербального галлюциноза при органических поражениях головного мозга // Казанский медицинский журнал. 1982. Т. 63. №4. C. 55–58. doi: 10.17816/kazmj62310.
- Krueger J. Schizophrenia and the scaffolded self // Topoi. 2018. Vol. 39. P. 597–609. doi: 10.1007/s11245-018-9547-3.
- Меграбян А.А. Деперсонализация. Ереван: Армянское государственное издательство; 1962. 356 с
- Brown R.J. Different types of “dissociation” have different psychological mechanisms // Journal of Trauma and Dissociation. 2006. Vol. 7. N. 4. P. 7–28. doi: 10.1300/j229v07n04_02.
- Труевцев Д.В., Сагалакова О.А., Жирнова О.В. Современная патопсихология и психопатология на этапе пересмотра классификаций психических болезней: осмысление логики взаимодействия, проблем и перспектив развития // Неврологический вестник. 2021. Т. LIII. Вып. 4. С. 78–86. doi: 10.17816/nb88000.
- Климушева Т.А. Клинико-психологические исследования больных параноидной формой шизофрении с синдромом Кандинского–Клерамбо. В кн.: Вопросы экспериментальной патопсихологии / Под ред. Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн. М.: НИИ психиатрии; 1965. с. 117–128.
- Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Психология и психопатология одиночества. М.: Книга по требованию; 2013. 336 с.
- Холмогорова А.Б., Рычкова О.В. Нарушения социального познания — новая парадигма в исследованиях центрального психологического дефицита при шизофрении. М.: Форум; 2016. 288 с.
- Журавлев И.В. Семиотико-психологические механизмы отчуждения при синдроме психического автоматизма. Дисс. … канд. психол. наук. М.; 2003. 177 c.
- Duval T.S., Wicklund R.A. Effects of objective self-awareness on attributions of causality // Journal of Experimental Social Psychology. 1973. Vol. 9. P. 17–31. doi: 10.1016/0022-1031(73)90059-0.
- Geddes G., Ehlers A., Freeman D. Hallucinations in the months after a trauma: An investigation of the role of cognitive processing of a physical assault in the occurrence of hallucinatory experiences // Psychiatry Research. 2016. Vol. 246. P. 601–605. doi: 10.1016/j.psychres.2016.10.081.
- Løberg E.-M., Gjestad R., Posserud M.-B. et al. Psychosocial characteristics differentiate non-distressing and distressing voices in 10,346 adolescents // European Child & Adolescent Psychiatry. 2019. Vol. 28. P. 1353–1363. doi: 10.1007/s00787-019-01292-x.
- Larøi F., Thomas N., Aleman A. et al. The ice in voices: Understanding negative content in auditory-verbal hallucinations // Clinical Psychology Review. 2018. Vol. 67. P. 1–10. doi: 10.1016/j.cpr.2018.11.001.
- Brand R.M., Badcock J.C., Paulik G. Changes in positive and negative voice content in cognitive-behavioural therapy for distressing voices // Psychology and Psychotherapy. 2022. Vol. 95. N. 3. P. 807–819. doi: 10.1111/papt.12399.
- Сагалакова О.А., Жирнова О.В., Труевцев Д.В. Трансформация методологических представлений о «голосах» и вариантах вмешательства специалистов при слуховых галлюцинациях // Клиническая и специальная психология. 2020. Т. 9. №2. С. 34–61. doi: 10.17759/cpse.2020090202.
- De Boer J.N., Corona Hernández H., Gerritse F. et al. Negative content in auditory verbal hallucinations: A natural language processing approach // Cognitive Neuropsychiatry. 2021. Vol. 27. N. 2–3. P. 139–149. doi: 10.1080/13546805.2021.1941831.
- Van der Gaag M., Valmaggia L.R., Smit F. The effects of individually tailored formulation-based cognitive behavioural therapy in auditory hallucinations and delusions: A meta-ana-lysis // Schizophrenia Research. 2014. Vol. 156. N. 1. P. 30–37. doi: 10.1016/j.schres.2014.03.016.
- Rosen A.L., Handley E.D., Cicchetti D. et al. The impact of patterns of trauma exposure among low income children with and without histories of child maltreatment // Child Abuse & Neglect. 2018. Vol. 80. P. 301–311. doi: 10.1016/j.chiabu.2018.04.005.
- McCarthy-Jones S., Smailes D., Corvin A. et al. Occurrence and co-occurrence of hallucinations by modality in schizophrenia-spectrum disorders // Psychiatry Research. 2017. Vol. 252. P. 154–160. doi: 10.1016/j.psychres.2017.01.102.
- Hartley S., Bucci S., Morrison A.P. Rumination and psychosis: An experimental, analogue study of the role of perseverative thought processes in voice-hearing // Psychosis. 2017. Vol. 9. N. 2. P. 184–186. doi: 10.1080/17522439.2017.1280073.
- Tully S., Wells A., Morrison A.P. Attentional avoidance increases voice hearing in an analogue task in people with psychosis: An experimental study // Psychiatry Research. 2017. Vol. 257. P. 186–192. doi: 10.1016/j.psychres.2017.07.052.
- Anderson A., Hartley S., Morrison A. et al. The effect of rumination and distraction on auditory hallucinatory experiences: An analogue experimental study // Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2020. Vol. 69. Р. 101592. doi: 10.1016/j.jbtep.2020.101592.
- Wegner D.M. Ironic processes of mental control // Psycholo-gical Review. 1994. Vol. 101. N. 1. P. 34–52. doi: 10.1037/0033-295X.101.1.34.
- Morrison A.P., Haddock G. Cognitive factors in source monitoring and auditory hallucinations // Psychological Medicine. 1997. Vol. 27. N. 3. P. 669–679. doi: 10.1017/S003329179700487X.
- Perona-Garcelán S., López-Jiménez A.M., Bellido-Zanin G. et al. The relationship with the voices as a dialogical experience: The role of self-focused attention and dissociation // Journal of Clinical Psychology. 2020. Vol. 76. N. 3. P. 549–558. doi: 10.1002/jclp.22890.
- Watkins E.R. Constructive and unconstructive repetitive thought // Psychological Bulletin. 2008. Vol. 134. N. 2. P. 163–206. doi: 10.1037/0033-2909.134.2.163.
- Teasdale J.D. Metacognition, mindfulness and the modification of mood disorders. 1999. Vol. 6. N. 2. P. 146–155. doi: 10.1002/(sici)1099-0879(199905)6:2<146::aid-cpp195>3.0.co;2-e.
- McKie A., Askew K., Dudley R. An experimental investigation into the role of ruminative and mindful self-focus in non-clinical paranoia // Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2017. Vol. 54. P. 170–177. doi: 10.1016/j.jbtep.2016.07.014.
- Brand R.M., McEnery C., Rossell S. et al. Do trauma-focussed psychological interventions have an effect on psychotic symptoms? A systematic review and meta-analysis // Schizophrenia Research. 2017. Vol. 195. P. 13–22. doi: 10.1016/j.schres.2017.08.037.
- Brand R.M., Badcock J.C., Paulik G. Changes in positive and negative voice content in cognitive-behavioural therapy for distressing voices // Psychol. Psychother. Theory Res. Pract. 2022. Vol. 95. P. 807–819. doi: 10.1111/papt.12399.
- Hayward M., Jones A.-M., Bogen-Johnston L. et al. Relating Therapy for distressing auditory hallucinations: A pilot randomi-zed controlled trial // Schizophrenia Research. 2016. Vol. 183. P. 137–142. doi: 10.1016/j.schres.2016.11.019.
- Longden E., Corstens D., Pyle M. et al. Engaging dialogically with auditory hallucinations: Design, rationale and baseline sample characteristics of the Talking With Voices pilot trial // Psychosis. 2021. Vol. 13. N. 4. P. 315–326. doi: 10.1080/17522439.2021.1884740.
- Craig T.K., Rus-Calafell M., Ward T. et al. AVATAR therapy for auditory verbal hallucinations in people with psychosis: A single-blind, randomised controlled trial // Lancet Psychiatry. 2018. Vol. 5. N. 1. P. 31–40. doi: 10.1016/S2215-0366(17)30427-3.
- Mayhew S.L., Gilbert P. Compassionate mind training with people who hear malevolent voices: A case series report // Clinical psychology and psychotherapy. 2008. Vol. 15. N. 2. P. 113–138. doi: 10.1002/cpp.566.
Дополнительные файлы