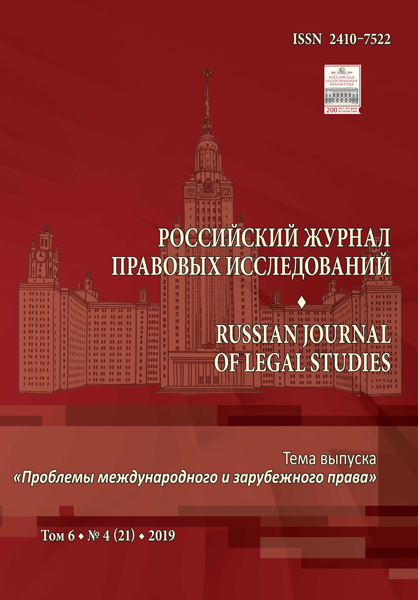Human rights politic in postmodern world
- Authors: Chestnov I.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg Law Institute (branch) of Federal Establishment of Higher Education «University of the Office of the Prosecutor of the Russian Federation»
- Issue: Vol 6, No 4 (2019)
- Pages: 66-74
- Section: Philosophy and Theory of Law
- Submitted: 16.01.2020
- Accepted: 03.03.2020
- Published: 26.05.2020
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/19087
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS19087
- ID: 19087
Cite item
Full Text
Abstract
Human Rights are a complex meta-legal phenomenon that serves to justify and legitimize the existing law and order. Human Rights are not rules of law or legal relations. They are similar with law principles. The subject of the article is a theoretical understanding of human rights in the post-modern world. The aim of the study is to conceptualize human rights in the context of post-modernity. The research methodology is determined by the post-classical research program developed by the author over the past twenty years. In relation to the topic of the article, it involves the study of the construction of human rights and their practical reproduction. Human rights from the point of view of the sociology of law is the actual legal status of a person in the relevant legal system. Human rights define and limit legal policy. At the same time, the content of human rights is determined by the legal policy. Human rights can only be justified from the standpoint of the prevailing values. However, in the modern world, values are contextual and relatable. Therefore, only pragmatism as an abstract value can be the basis of human rights in the post-modern world. The main problem of modern philosophy and theory of law is the impossibility of meaningfully and universally define the measure of human rights. Only an abstract Declaration of human rights can be universal and meaningful. Their specific content is always contextual. It is determined by the policy in the field of human rights. Human rights policy is, on the one hand, the construction of social ideas about the content of human rights. Further, it is the concretization of these representations in the appropriate forms of law. On the other hand, human rights policy is a reproduction of these ideas in discursive practices. In these types of practices, human rights are implemented in a de facto legal order.
Full Text
Права человека — сложный метаправовой феномен, служащий обоснованию и легитимации существующего правопорядка. При этом права человека, закрепленные в международно-правовых актах и конституциях всех стран мира, занимают несколько странное положение в системе права: сами по себе они не относятся ни к нормам права, ни к правоотношениям. Пожалуй, они ближе к принципам права, но в прямом смысле слова таковыми также не являются.
Права человека с позиции социологии права (в реалистической интерпретации) — это фактический правовой статус человека в соответствующей правовой системе (реальности), определяемый правовой идеологией и политикой и определяющий, в свою очередь, правовую политику. «Настало время перестать смотреть на Декларации прав, принятые с 1789 года по сегодняшний день, — пишет один из самых оригинальных философов современности Дж. Агамбен, — как на прокламации вечных метаюридических ценностей, способных связывать законодателей в отношении таких прав, и начать рассматривать их в свете их реальной функции в современном государстве» [Агамбен, 2015, с. 28].
Чтобы права человека стали нормой права — общеобязательным, формально определенным (хотя и не обязательно в нормативном правовом акте), обеспечиваемым принуждением в случае совершения правонарушения, правилом поведения, они должны быть распространенными, многократно используемыми и положительно оцениваемыми. А для этого необходима не только конкретизация идеологических формулировок в соответствующих формах права (в международных правовых конвенциях, конституции, законах, подзаконных актах и т.д.), но и наличие метаюридических факторов, обеспечивающих или обусловливающих их социальную действенность. Речь идет об исторической и социокультурной контекстуальности, о политических, экономических, социокультурных факторах, которые определяют, будет ли соответствующая формулировка прав человека претворяться на практике или останется благородной фикцией. Такого рода контекстуальность или релятивность (относительность прав человека соответствующему конкретному контексту) проблематизирует или, точнее, делает невозможной попытку дать содержательное универсальное определение прав человека.
Во многом (или даже прежде всего) это связано с тем, что эпоха постмодерна (как бы ее ни именовали) отличается перманентной неопределенностью и риском, а также фрагментарностью социальности1. Реалистический взгляд на вещи заставляет признать правоту Д. Дзоло, утверждающего, что «характерная черта любого процесса принятия политических решений заключается в отсутствии беспристрастности и произвольности, случайности морали» [Дзоло, 2010, с. 24]. Онтологическая (или онтическая) сложность или комплексность не дает возможность рассчитать последствия (особенно отдаленные) любого более или менее сложного социального решения, в том числе при конструировании, например, новых поколений прав человека. Включенность исследователя в социальные процессы2, конструируемость, а не механическое отражение социальной (и правовой) реальности, ограниченность человеческого разума — все это не позволяет свершиться претензиям «Законодательствующего Разума» (по терминологии И. Канта) на то, чтобы дать исчерпывающую, непротиворечивую и содержательную универсальную формулировку прав человека.
Двадцать лет назад я высказал мысль о невозможности универсального и одновременно содержательного определения прав человека в связи с вызовами постмодерна [Честнов, 1999, с. 73–82]. Интересно, что приблизительно в это же время, понятно, не сговариваясь со мной, канадский политик, историк и журналист Майкл Игнатьев заявил примерно то же самое, хотя и несколько с других позиций. Права человека, по его мнению, как правило, пытаются вывести из некоторых исходных оснований, предпосылок, относящихся к природе человека, например, что всем людям присуще изначально данное или естественное достоинство, все люди обладают неотчуждаемой внутренней ценностью, всякое человеческое существо священно. Однако такого рода постулаты, по его мнению, не слишком ясны и весьма противоречивы. Их неясность связана с тем, что в них реальные люди, с которыми мы сталкиваемся в жизни, подменяются идеальными мужчинами и женщинами, действующими всегда правильно, должным образом. Из того, что многие люди ведут себя соответственно формулировкам прав человека, не следует, что всем человеческим существам присуще внутреннее достоинство и ответственность в повседневном поведении. Именно из-за того, что идеи достоинства, ценности и святости человека подменяют сущее должным, они оказываются противоречивыми. Более того, они противоречивы еще и потому, что каждая версия прав человека, рассматриваемая в подобной перспективе, содержит в себе некие метафизические утверждения, касающиеся человеческой природы, что делает ее изначально спорной, так как «природа человека» в разных культурах, добавлю от себя, значительно отличается на уровне конкретного содержания, хотя исходные постулаты абстрактных ценностей, провозглашаемых различными культур-идеологическими системами, могут и совпадать. Поэтому, заключает М. Игнатьев, гораздо лучше вообще отказаться от поиска таких неоспоримых оснований прав человека и вместо этого осмыслять и практиковать права человека, исходя из реальной пользы, которую они приносят людям [Ignatieff, 2001, p. 90–91].
Проблематичность универсального и одновременно содержательного определения прав человека состоит также в том, что между их формулировкой в международных актах, конституциях на уровне принципов права и конкретизацией в конституционном и ином отраслевом законодательстве нет логической выводимости. Выдающийся финский логик, основоположник деонтической логики, Г. фон Вригт утверждал, что непротиворечивость кодекса состоит в его выполнимости, а выполнимость определяется не логикой как таковой, а критерием разумности [Вригт, 1986, с. 305]. Поэтому из одного и того же права человека, например, на образование законодательно (и на подзаконном уровне) в разных государствах формулируются и реализуются на практике значительно отличающиеся модели системы образования. Это же касается политических прав, права на медицину, здоровую благоприятную окружающую среду и, по большому счету, относится к любому праву человека.
Главная проблема прав человека — определение их границы, меры. Те, кто считают, что во Всеобщей декларации прав человека представлен исчерпывающий перечень всех желаемых целей человеческой жизни, настаивает М. Игнатьев, не понимают, что эти цели и идеалы, такие как свобода и равенство, свобода и безопасность, частная собственность и справедливость, распределения благ, противоречат друг другу, а, следовательно, вытекающие из них права тоже находятся в конфликте. Язык правовых притязаний не способствует политическим компромиссам. Так, например, активно обсуждаемая в американском обществе проблема абортов не дает возможности найти общий консенсус, даже несмотря на то, что как противники, так и сторонники абортов согласны с тем, что бесчеловечное обращение с человеческой жизнью недопустимо и что человеческая жизнь заслуживает особой правовой защиты. Стороны этих дебатов не могут прийти к согласию по поводу того, с какого момента начинается жизнь человека и чьи права приоритетны — матери или ее нерожденного ребенка. Поэтому, — заключает М. Игнатьев, — дискуссии о правах человека способны примирять несогласных только при условии, что в них каждая сторона с уважением прислушивается к другой, способна принять иную точку зрения, а это бывает не слишком часто, особенно если делиберация о правах человека выходит на уровень ценностного конфликта [Ignatieff, 2001, p. 54–55].
Даже если признать правоту изложенной точки зрения, тем не менее для философии и теории права вопрос теоретического обоснования прав человека сохраняет свою актуальность, особенно в постсовременном мире ценностного релятивизма. Очевидно, что права человека могут быть обоснованы только с позиций некоего метаоснования: религии, традиций, рациональности («законодательствующего Разума» с большой буквы, в кантианской философии) или хотя бы их практичности (прагматичности), как это делает М. Игнатьев. В любом случае в основе прав человека лежит система ценностей. Однако что это за ценности, могут ли они претендовать на статус универсальных, обладают ли они четким однозначно эксплицируемым содержанием — вот далеко не полный перечень вопросов, возникающих в связи с попытками ценностного обоснования прав человека.
Ценности, как считается в классической философии и теории права, играют принципиально важную роль в правовой системе общества. Если не ограничивать право исключительно внешними формами его проявления (не придерживаться, другими словами, позитивистского правопонимания), то можно утверждать, что именно ценности выступают основаниями права как такового и прав человека в частности. Их роль, как считается, состоит не просто в содержательном наполнении (или определении) принципов права, но также и в легитимации всей правовой системы, в ее внешнем оправдании3. Тем самым ценности мотивируют (чаще всего не прямо, а косвенно, опосредованно) людей на совершение юридически значимых действий, конечно, если законодательство им соответствует.
Признавая важность и значимость ценностей в праве, приходится констатировать, что сегодня весьма проблематично их четко содержательно эксплицировать, а тем более атрибутировать их связь с принципами права и законодательством. Во многом это связано с релятивизацией ценностей в правовой жизни вследствие роста онтической (бытийственной) неопределенности и фрагментации постсовременного социума.
Постсовременный мир, именуемый также постиндустриальным или информационным социумом, отличается «культурной логикой постмодернизма» [Джеймисон, 2019]. Последняя выступает новой онтологией и характеризуется релятивностью. Релятивность можно понимать в нескольких значениях. У. Куайн, например, постулировал онтологическую релятивность. Онтология, по его мнению, дважды релятивна: осмысленность теории возможна лишь относительно некоторой предпосылочной теории и относительно выбора способа перевода одной теории в другую [Quine, 1968, p. 212]. Для Р. Рорти релятивность — это отказ от бинарной оппозиции «сделанность»/«найденность». «Философов называют “релятивистами”, — утверждает американский мыслитель, — если они не принимают идущего от древних греков различения между вещами, как они есть сами по себе, и их отношениями к другим вещам, особенно к человеческим потребностям и интересам... Философы, которые, подобно мне, избегают такого различения, должны отказаться и от традиционного философского проекта — найти нечто столь прочное и неизменное, что могло бы служить критерием для суждений о преходящих плодах наших преходящих потребностей и интересов. Это означает, помимо всего прочего, что мы не можем использовать Кантово различение между “категорическим” и “гипотетическим” императивами. Мы должны также отказаться от мысли, что существуют некие безусловные, транскультурные моральные ценности, моральные нормы, коренящиеся в неизменной, внеисторической человеческой природе» [Pорти, 1997, с. 12].
«Мы, так называемые “релятивисты”, — продолжает Р. Рорти, — якобы утверждаем, что многое из того, что здравый смысл считает найденным или открытым, на самом деле является сделанным или придуманным… Я полагаю, что мы, обвиняемые в релятивизме, должны перестать пользоваться такими различениями (оппозициями), как “найденное” и “сделанное”, “обнаружение” и “выдумка”, “объективное” и “субъективное”… Мы надеемся заменить различение “реальное-кажущееся” различением “более полезное — менее полезное”» [Там же, с. 14, 15, 23].
В другой работе он отвергает обвинения в «самоопровергаемости» постмодернистского релятивизма со стороны Х. Патнэма тем, что отсутствие «позиции Божественного наблюдателя», на чем настаивает сам Х. Патнэм, — и есть проявление релятивизма [Rorty, 1991, p. 222]. Таким образом, релятивизм — это отказ от признания внеисторических, надчеловеческих оснований наших желаний, верований, ценностей: все они контекстуальны, соотносимы с данным конкретным сообществом, в котором вырабатываются и воспроизводятся [Ibid., p. 220]. Об этом хорошо пишет Н.С. Розов: «Поскольку нет безличного, вневременного, внекультурного всеобщего Разума (даже в любимом идеале Канта — математике), априорные суждения не могут считаться универсальными: они сами основаны на культурно-исторических мыслительных предпосылках, которые могут быть поставлены под вопрос. Вместе с тем, для каждого сообщества (индивида), определяющего моральные основания своих действий, априорный подход может быть весьма продуктивен» [Розов, 1998, с. 70]. С моей точки зрения, априорная универсальность ценностей в социуме (в том числе и в мире права) состоит в их функциональной значимости — служить самосохранению (как минимум) или процветанию (как максимум) человечества. Селективная эволюция общества «отбирает» именно те ценности, которые функциональны для выживания, в чем воплощается онтическая социальная значимость4. При этом такая функциональность не может быть содержательно универсальной: в разные исторические эпохи и в разных культурах вырабатывается несколько отличное содержание ценности жизни, здоровья, продолжения рода, как и перечень того, что в данном социуме считается ценным5. В этом состоит противоречие, диалогическая антиномия универсального и контекстуального: первое невозможно содержательно определить, но без такой «голой абстракции» (по терминологии Гегеля) невозможно выживание, а второе — контекстуальность — никогда полностью не совпадает с универсальностью. Более того, четко эксплицировать связь фактически существующих в данном социуме ценностей с из «идеальным эйдосом» можно только апостериори: если данный социум нормально функционирует (хотя критерии «нормальности» также содержательно контекстуальны), то априорные или «кардинальные» (по терминологии Н.С. Розова) ценности в нем воплощаются в то, что Н.С. Розов именует «субкардинальными» и «этосными» ценностями [Там же, с. 122–124]. Это связано с эпистемологическим релятивизмом — признанием ограниченности наших знаний, в том числе зависимостью эмпирических данных, в которых фиксируются показатели социокультурного развития какой-либо страны, от принятой теории (парадигмы) — например, как трактовать «развитие». Вышеизложенное дает основание заявить, что такая версия релятивизма не имеет ничего общего с расхожим мнением о нем как о моральной распущенности. Как раз признание того, что наши действия обусловлены сконструированными релятивными ценностями, а не «природой человека» или «природой вещей» повышает нашу ответственность за их результат.
Релятивность ценностей в праве затрудняет их четкое теоретическое определение и тем более законодательную формализацию. Ценности — сложный, многоаспектный феномен, ускользающий от «единственно верного» определения. «“Ценность”, подобно “истине”, “разуму”, “человеку”, “культуре”, — пишет Н. С. Розов, — по-видимому, никогда не будет определена исчерпывающим образом, однако понимание этого обстоятельства не должно препятствовать созданию рабочих понятийных конструкций, отвечающих необходимости решения современных проблем. <…> Итак, чем же являются ценности: платоновскими идеями или локковскими представлениями? Можно насчитать даже больше альтернативных модусов: материальные вещи, психические представления, социо-культурные образцы, идеальные объекты. Все зависит от того, сколько выделено онтологических слоев реальности (Н. Гартман) или миров (К. Поппер) …Ценности проявляются (живут, существуют) во всех указанных модусах…» [Там же, с. 113].
По мнению известного логика, активно занимающегося в последние годы аксиологией, А.А. Ивина, «…ценностью объявляется предмет некоторого интереса, желания, стремления и т. п., или, короче говоря, объект, значимый для человека или группы лиц. В более общем случае ценностью считается любой предмет любого интереса. <…> Ценность, как и истина, является не свойством, а отношением между мыслью и действительностью. <…> В случае оценочного отношения исходным является утверждение, функционирующее как стандарт, перспектива, план. Соответствие ему ситуации характеризуется в терминах понятий “хорошо”, “безразлично” и “плохо”» [Ивин, 2006, с. 8].
Интересно, что известный советский философ-логик И.С. Нарский в свое время исходил из того, что «никаких объективных ценностей в смысле “надсубъективных” или материальных “сущностей” не существует». Они не являются материальными предметами, их существование не сводится к психическому их переживанию субъектом, «их роль исполняют социальные отношения, социальные и личностные состояния и свойства», они выступают как «установки», им присущ диспозиционный и функциональный характер. «Ценности по структуре своего обнаружения напоминают значения, которые актуализируются только в соответствующих им (знаковых) ситуациях взаимодействия субъекта и объекта. Как и значения, ценности есть категории взаимодействия субъекта и объекта и обладают диспозиционным характером» [Цит. по: Микешина, 2007, с. 82]. По мнению Л.А. Микешиной — одного из немногих сторонников постмодернизма в отечественной философии, «в большинстве случаев ценность понимается как значимость для человека и общества. Предметные ценности — это положительная или отрицательная значимость вещи, ценности сознания — нормативная, предписывающая и оценивающая функции сознания (знания)» [Там же, с. 103]. Ценность для Н.С. Розова — это «часть логического отношения, другой частью которого являются люди, эту ценность принимающие» [Розов, 1998, с. 92].
Приведенные рассуждения известных философов дают основание заключить, что ценности в праве конструируются властью в диалоге с обществом (если это демократический политический режим). При этом власть (включая референтные группы — социально значимые другие, выступающие авторитетами для широких слоев социума) не может навязать какие угодно ценности по своему усмотрению. В этом смысле точка зрения, высказываемая многими «латентными постмодернистами», например Ф. Ницше, К. Шмиттом, П. Бурдье, Дж. Агамбеном и др., что любая претензия на универсальность — это маскировка локальной точки зрения конкретной социальной группы, справедлива лишь отчасти. Если сконструированные ценности (а в основе любой ценности всегда лежит акт десизии или децизии — Н.С. Розов и К. Шмитт тут солидарны6) будут противоречить онтической функциональности, что проявится в их неприемлемости населением (как поведением, так и правосознанием), то они не могут претендовать на статус ценностей и в любом случае долго не просуществуют. В то же время власть не в состоянии обеспечить максимальную эффективность и аподиктичность конструируемых ценностей в силу онтологической неопределенности, а потому непредсказуемости отдаленных последствий любого более или менее сложного социального решения. Ко всему прочему, статус содержательной общезначимости ценности, в том числе в правовой сфере, приобретают в ограниченном сообществе и потому не могут рассчитывать на универсальность. Отсюда неизбежность «столкновения цивилизаций», в основе которого лежит конкуренция содержательного наполнения ценностей в праве и правах человека: свободы и безопасности, права наций на государственное самоопределение и территориальной целостности государств и т.п. В современном мультикультурном мире «формула Радбруха» уже не работает.
Какой же возможен выход из этой сложной — если не тупиковой — ситуации? Только один — поиск путей диалога между ценностными различиями. В связи с этим представляется оправданной позиция Р. Рорти, провозгласившего главной ценностью эпохи постмодерна возможность перерешать существующее положение вещей (в словаре Р. Рорти это звучит как редeскрипция — переописание). Интересно, что эту же ценность как «право оспаривания» отстаивает сторонник несколько иной социальной философии — неореспубликанизма — Ф. Петтит, утверждающий необходимость «переосмысления демократических институтов, в результате которого понятие согласия заменяется понятием оспариваемости (contestability)» [Петтит, 2016, с. 48]. При этом философия (добавлю — и философия права) должна отказаться от поиска глобального обоснования ценностного консенсуса, в том числе в области прав человека, а заняться практическими проблемами разрешения локальных ценностных конфликтов [Rorty, 1991, p. 483–490].
Вышеизложенное дает основание признать прагматичность единственной универсальной ценностью, служащей надежным обоснованием прав человека. Их конкретное содержание всегда контекстуально и релятивно соответствующему сообществу, его культурным императивам и определяется правовой политикой.
Политика, в самом широком смысле этого слова, — это деятельность по управлению обществом, в основе которой лежит борьба, сегодня преимущественно дискурсивная7, различных социальных групп за власть. Права человека на уровне принципов права конституируют и одновременно ограничивают политику и в то же время реализуются в политике. Более того, само конституирование именно такого перечня и содержания прав человека осуществляется и определяется политикой. Политика прав человека — это, с одной стороны, конструирование знаково-символических представлений о содержании прав человека и их конкретизация в соответствующих формах права и, с другой стороны, воспроизводство этих представлений в дискурсивных практиках, включающих как поведенческий, так и ментальный, психический аспекты. Борьба за право официальной номинации, классификации и категоризации (частным случаем которой выступает юридическая квалификация) социальных явлений и событий как правовых, то есть наделение некоторых социальных явлений и событий юридической значимостью, — суть содержания политики в области прав человека. Официально назвать или признать приоритет, например, государственной безопасности над свободой слова (как в деле Д. Ассанжа) или права повстанцев (попутно обозначив определенную группу людей как повстанцев, а не государственных изменников и террористов и квалифицировав соответствующим образом их действия) над правом защиты государственного суверенитета в Сирии (а не в Курдистане) — вот примеры дискурсивного конструирования социальных правовых представлений о правах человека, убеждающих значительную часть населения западного мира.
Конструирование прав человека ограничено внешними факторами, интериоризируемыми в ценности и инкорпорируемыми в социальные представления о правах человека. Так, И. Маркова с соавторами показала, как экономическая система во взаимодействии с политической системой стимулирует либо отвергает ценностный индивидуализм и, соответственно, конструирует социальное представление о личности. Интересно, что авторами исследования социальных представлений о личности в шести странах Центральной и Западной Европы на основе опроса 1172 респондентов было выявлено инвариантное ядро таких представлений, связанное с ценностью личности как таковой. Однако были обнаружены интересные различия. Наибольший разрыв между респондентами из стран Центральной и Западной Европы наблюдается в отношении к рыночной экономике: жители Центральной Европы, как это ни странно, оценивали ее более позитивно, чем жители Западной Европы. Это можно объяснить только одним — недавним советским прошлым этих стран, которые в рыночной экономике видят средство избавления от всех бед. Еще одно расхождение в социальных представлениях респондентов из двух частей Европы обнаруживается в оценке степени важности государства для благополучия личности. Это, по мнению авторов исследования, может свидетельствовать о сохранении элементов патернализма и одновременно стремлении поставить государство на службу человеку [Маrkovа, 1998, p. 797–827].
Политика как таковая и в области прав человека в частности в постсовременном мире творится массмедиа. Сегодня парламентская демократия уступает место телекратии, утверждает Д. Дзоло [Дзоло, 2010, с. 11]. Нынче сформирован новый тип политических субъектов, и это уже не партии, а «узкий круг элитарных предпринимателей от выборных кампаний, которые вступают друг с другом в рекламную конкуренцию и обращаются к массам граждан — потребителей, предлагая им в рамках выверенной стратегии телевизионного маркетинга свои символические продукты. <…> Засилье телевидения привело к инверсии отношений между контролирующими и контролируемыми: узкий круг избранных контролирует массы избирателей, а не наоборот. <…> Таким образом, установился режим, который вполне обоснованно можно назвать постдемократической телеолигархией, где подавляющее большинство граждан не выбирает и не избирает, а остается в неведении и подчиняется» [Там же, с. 9–10]. Впрочем, сегодня — в эпоху постсовременности или сетевого общества (по терминологии М. Кастельса) — место телевидения прочно занял Интернет.
В эпоху медиакратии у политики как таковой и в области прав человека в частности сегодня не может быть содержательного онтического определения. Это связано с принципиальной неопределенностью последствий, особенно отдаленных, любого более или менее сложного политического решения. Невозможно заранее выявить выгоды или издержки, в основном для разных социальных групп, к которым такие решения, включая принятие новых нормативных правовых актов, могут привести. Поэтому наука, изучающая политику прав человека, должна перенести акцент с философских проблем сущности прав человека на то, кем, как, какими стратегиями и средствами (риторическими приемами) они — права человека, их мера или содержание — конструируются и воспроизводятся.
Так, например, сегодня очевидна невозможность содержательного определения всех угроз правам человека, особенно с учетом проводимых во всех государствах мер по предупреждению преступности (прежде всего террористических актов). Поэтому, как утверждают сторонники постструктуралистской теории секьюритизации, в частности представители Копенгагенской школы международных отношений, определение меры общественной безопасности как содержания личных прав человека есть результат борьбы за право навязывать свое представление (установить символическую гегемонию) обществу. С их точки зрения, необходимо акцентировать внимание на характере политических дискуссий по проблемам общественной безопасности, то есть почему именно она (эта угроза) оценивается таким образом [Buzan, 1998]. Другими словами, принципиально важно исследовать, как и почему некоторые ситуации квалифицируются как угрожающие общественной безопасности и как изменяется их интерпретация со временем8. Так, общественное сознание по поводу события 11 сентября 2001 г., сформированное СМИ, сподвигло власти к внедрению новых запретов и контролирующих инстанций, но эти меры тем не менее не привели к предотвращению новых терактов. Более того, медиаполитика, конструирующая социальные представления о правах человека, по мнению постмарксистов, обеспечивает новый способ легитимации мирового порядка. Это связано с тем, что «по мере того, как коммуникация все больше становится тканью производства, а языковая кооперация все более превращается в структуру производительной материальности, контроль над смыслами и значениями языка, а также над сетями коммуникации становится основным предметом политической борьбы» [Хаpдт, 2004, с. 372].
Политика прав человека, использующая медиакоммуникации, проявляется на международной арене в дискурсивной борьбе за государственный суверенитет и обоснование права на гуманитарные интервенции; внутри государства — в определении меры свободы.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать сложную диалектическую (или диалогическую) взаимообусловленность нонвариантного, универсального и контекстуального, релятивного в содержании прав человека. Универсальной может быть лишь абстрактная декларация ценности прав человека, абстрактные формулировки прав человека как общие ценности свободы, справедливости, самооопределения и т.п., а конкретное их содержание всегда контекстуально. Мера свободы, выступая содержанием прав человека, всегда контекстуальна и релятивна (относительна) историческому и социокультурному (политическому, экономическому и т.д.) устройству данного социума. Невозможно на все века и для всех народов, а тем более применительно к конкретной ситуации, закрепить объем или меру свободы слова в отношении к государственной безопасности, с кем из родителей оставлять малолетнего ребенка при их разводе, до каких пределов допустим личный досмотр при посадке в самолет, нарушает ли личную неприкосновенность поголовная дактилоскопия или, гипотетически предполагая, внедрение в мозг каждого из нас электронного чипа для предотвращения совершения преступлений? На эти и подобного рода вопросы невозможно дать универсальный и одновременно содержательный ответ. Права человека есть политика, которая приспосабливает этические ценности и идеалы к конкретным ситуациям [Ignatieff, 2001, p. 55]. Реальность прав человека — это фактический правовой статус, в котором воплощается правовая компетентность данного индивида — носителя статуса субъекта права. Права человека в их практической реализации — это диалог норм прав, в которых они конструируются и фиксируются, и их осуществление в фактическом правопорядке.
Примечания:
1 «Правда состоит в том, — пишет итальянский политический философ Д. Дзоло, — что за последние десятилетия прошлого века… на Западе совершился переход от индустриального общества и труда к обществу постиндустриальному, характеризующемуся информационно-технологической революцией, засильем международных корпораций и процессами глобальной взаимосвязи и взаимозависимости в контексте всепроникающей рыночной экономики. Международная политическая власть сосредоточилась в руках нескольких сверхдержав, а международное право стало орудием этой власти» [Дзоло, 2010, с. 11].
2 «Рефлексивная эпистемология», характеризуемая «эпистемологической сложностью», в интерпретации Д. Дзоло «указывает на когнитивные ситуации, в которых всякая возможность определенности или, по словам Поппера, “приближения” к истине исключена, потому что субъекты сами включены в среду, которую они пытаются сделать объектом своего познания. Субъекты могут принять критическое, то есть рефлексивное описание ситуации циркулярности, в которой они находятся, но не могут вытащить самих себя из собственной исторической и социальной перспективы. Не могут они и освободиться от пристрастий научного сообщества, культуры или цивилизации, к которым они принадлежат, и которые влияют на их восприятие самих себя. Они не могут знать себя объективно, но они даже не могут иметь объективные знания и о своей среде, поскольку они сами изменяют среду, проецируя на нее собственные пристрастия, когда взаимодействуют с этой средой, делая ее объектом своего познания» [Там же, с. 38].
3 Именно либеральные ценности, положенные в основание «формулы Радбруха», стали критерием оценки фашистского (точнее — национал-социалистического) законодательства федеральным Конституционным судом ФРГ после окончания Второй мировой войны.
4 «Общезначимо то, что принято взаимодействующими субъектами (индивидами или сообществами), способствует стабильности их отношений и образа жизни, взаимоприемлемому развитию» [Розов, 1998, с. 119]. В этом же — в выживании сообщества — состоит объективность ценностей: «Ценность объективна в отношении к некоторому сообществу, если сама жизнь (выживание) этого сообщества предполагает осознанное или неосознанное следование этой ценности. Выживание каждого сообщества требует в общем случае своего набора ценностей» [Там же, с. 94].
5 Справедливо утверждение Н.С. Розова, что «состав и содержание общезначимых ценностей исторически подвижны» [Там же, с. 123].
6 Н.С. Розов солидаризируется с Ф. фон Кучерой, Р. Хэром и П. Ноуэллом-Смитом в том, что «первые нормативные принципы воо6ще не могут быть обоснованы, они могут быть только результатом решения о том, что именно они будут определять форму жизни индивида или сообщества» [Розов, 1998, с. 65‒66].
7 Со времен структурализма провозглашается единство языка (речи) и действия. Поэтому борьба как таковая, несомненно, включает и поведенческий, материальный, и ментальный или психический, дискурсивный аспекты.
8 А.В. Добрынин по этому поводу пишет, что одной из форм манипулирования общественным сознанием (правосознанием) являются «постоянно возникающие в обществах состояния моральной паники. В результате подобных манипуляций современное общество оказывается дезориентировано перед лицом реальных социальных угроз и деморализовано неадекватной реакцией на явления, представляющие скорее виртуальную, нежели действительную опасность. Классическим примером такой дезориентации и деморализации можно считать ситуацию с восприятием преступного поведения в сегодняшней Литве. В публичных дискуссиях практически игнорируется тот факт, что по уровню убийств страна уже не первый год занимает первое место в Евросоюзе. Однако вместе с тем в последние полтора года не без “помощи” местных средств массовой информации практически все общество втянуто в бурное обсуждение вопросов педофилии, приоритетность которой в контексте нынешней криминогенной ситуации более чем сомнительна» [Добрынин, 2011, с. 30].
About the authors
Ilja Chestnov
St. Petersburg Law Institute (branch) of Federal Establishment of Higher Education «University of the Office of the Prosecutor of the Russian Federation»
Author for correspondence.
Email: ichestnov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-2083-5876
PhD, Full Professor, Department of Theory and History of State and Law
Russian Federation, 191014, Saint-Petersburg, Liteiny pr., 44References
- Agamben Dzh. Sredstva bez celi: Zametki o politike / Per. s ital. E. Sattarova. M.: Gileya, 2015. 148 s.
- Vrigt G. fon. Normy, istina i logika // Logiko-filosofskie issledovaniya: Izbr. tr. / Per. s angl., obshch. red. G.I. Ruzavina, V.A. Smirnova. Moscow: Progress, 1986. 600 s.
- Dzhejmison F. Postmodernizm, ili Kul’turnaya logika pozdnego kapitalizma. 2-e izd. ispr. / Per. s angl. D. Kralechkina; pod nauch. red. A. Olejnikova. Moscow: Izd-vo Instituta Gajdara, 2019. 808 s.
- Dzolo D. Demokratiya: i slozhnost’: realisticheskij podhod / Per. s angl. A.A. Kalinina, N.V. Edel’mana, M.L. Yusima. Moscow: Izd. dom Gos. un-ta Vysshej shkoly ekonomiki, 2010. 320 s.
- Dobrynin A.V. Teoreticheskie predposylki konstruirovaniya deviantnosti // Konstruirovanie deviantnosti: monografiya / Sost. Ya.I. Gilinskij. Saint Petersburg: DEAN, 2011. 224 s.
- Ivin A.A. Aksiologiya. Nauchnoe izdanie. Moscow: Vyssh. Shk., 2006. 390 s.
- Mikeshina L.A. Epistemologiya cennostej. Moscow: Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN), 2007. 439 s.
- Pettit F. Respublikanizm. Teoriya svobody i gosudarstvennogo pravleniya / Per. s angl. A. Yаkovleva; predisl. A. Pavlova. Moscow: Izd-vo Instituta Gajdara, 2016. 488 s.
- Porti R. Relyativizm: najdennoe i sdelannoe // Filosofskij pragmatizm Richarda Rorti i rossijskij kontekst / Otv. red. A.V. Rubcov. Moscow: Tradiciya, 1997. 286 s.
- Rozov N.S. Cennosti v problemnom mire: filosofskie osnovaniya i social’nye prilozheniya konstruktivnoj aksiologii. Novosibirsk: Izd-vo Novosibirskogo un-ta, 1998. 292 s.
- Hapdt M., Hegri A. Imperiya / Per. s angl., pod red. G.V. Kamenskoj, M.C. Fetisova. Moscow: Praksis, 2004. 440 s.
- Chestnov I.L. Universal’ny li prava cheloveka? (Polemicheskie razmyshleniya po povodu 50-letiya Vseobshchej Deklaracii prav cheloveka) // Izvestiya vuzov. Pravovedenie. 1999. № 1. S. 73‒82.
- Buzan B. Security: a New Framework for Analysis / Buzan B., Woewer O., Wilde J. London: Boulder, 1998. 239 р.
- Ignatieff M. Human Rights as Politics and Idolatry / Edited by Amy Gutmann, Commentaries by K. Anthony Appiah, David A. Hollinger, Thomas W. Laqueur, and Diane F. Orentlicher. Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2001. 216 р.
- Маrkovа I. Social representations of the individual: а pоst-соmmunist perspective / Маrkovа I., Moodie Е., Farr R., Dtozda-Sеnkоwskа Е., Еrоs F., Plichtova J., Gervais М., Hoffmannova J., Millerova O // European journal of social psychology. 1998. Vol. 28. № 5. Р. 797‒827.
- Quine W.V. Ontological Relativity // Journal of Philosoрhу. 1968, Vol. LXV. № 7. Р. 185‒212.
- Rorty R. Intellectuals in Politics // Dissent. 1991. Vol. 38. P. 483‒490.
- Rorty R. Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers. Vol. 1. Сambridge, Cambridge University Press, 1991. 236 р.
Supplementary files