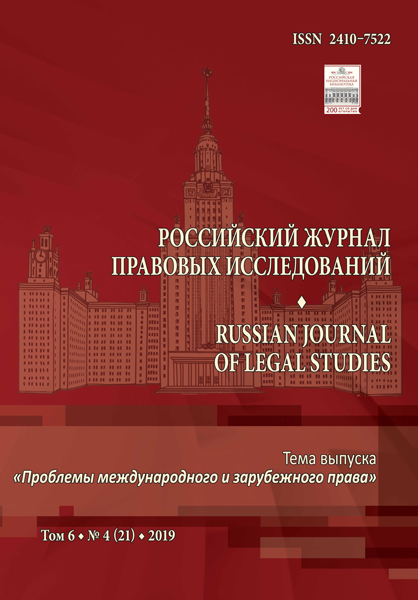Метафизика международного права (От обзора к альтернативе)
- Авторы: Каракулян Э.А.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- Выпуск: Том 6, № 4 (2019)
- Страницы: 16-26
- Раздел: Актуальная тема
- Статья получена: 01.03.2020
- Статья одобрена: 23.03.2020
- Статья опубликована: 26.05.2020
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/21254
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS21254
- ID: 21254
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение: Проблематика теологии или метафизики МП* широко представлена в литературе. Рассмотрение главных концепций в этом плане может служить основанием для выработки альтернативной теории МП.
Методы: историзма, системности, анализа и сравнительно-правовой.
Результаты: основные направления западной международно-правовой мысли являются формой политической религии.
Выводы: критика метафизической доктрины (теологического компонента) предполагает построение альтернативной доктрины в метафизическом же поле; международно-правовое содержание доктрины (правовой компонент) защищается ссылкой на исторический реализм. Предлагаются контуры национальной доктрины МП как синтез метафизических и международно-правовых оснований.
Ключевые слова
Полный текст
Политическая теология К. Шмитта и доктрина МП
Различные аспекты политической теологии представлены в целом ряде исследований [Кондуров, 2019, c. 49–78]. В частности, данной проблематике и смежной с ней посвящены работы известного правоведа-международника Марти Коскьеннеми (Martti Koskenniemi). Предлагая новые способы прочтения доктрины К. Шмитта, автор пытается систематизировать «фрагменты политической теологии» «в интересах сегодняшней политики» [Koskenniemi, 2004, p. 494].
Базовым в доктрине Шмитта является тезис — аналогичный «значению чуда для теологии» — о том, что основные «понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризованные теологические понятия» [Шмитт, 2000, с. 57], возникшие на рубеже средних веков и великих географических открытий. При движении от монархии к буржуазно-демократическим режимам, от провиденциальной доктрины суверенитета к доктрине национального государства, отказ от религиозных оснований суверенитета происходит не полностью, сохраняется аналогия предельных обоснований политической реальности. Трансформация отношений между государствами, создающими современное, светское МП, рассматривается в том же (метафизическом) плане.
Универсализм, как пространственное распространение МП, есть нигилизм «светских «ценностей», стоящих за гуманитарным интернационализмом» (для Шмитта) [Koskenniemi, 2004, p. 495]; а «по сравнению с нигилизмом анархия — еще не самое худшее» [Ibid, p. 496]; в этом смысле Шмитт высказывается против доктрины Келзена. Историчность МП выступает как конфигурация трех элементов: конкретный порядок, оккупация земли и государственность. Иными словами, МП всегда представляет собой «выражение фундаментального» и неизбежно «политического выбора, на котором основывалось единство человеческого сообщества» [Ibid]. Политический выбор предопределен сутью политического, то есть концепцией врага: «концепция государства предполагает концепцию политического, а политическое связано с противодействием между другом и врагом» [Ibid, p. 497]. Государство — не продукт сложного исторического развития политического сознания народа, а определенный результат власти, в основе которой — первоначальный захват земли, а само понятие государства — результат секуляризации монотеизма. Захват (оккупация) есть «радикальное правовое основание» [Шмитт, 2008, с. 15] того, что происходит и в глобальной системе. Европейская государственность возникает «как политическая форма, характерная для капиталистических общественных отношений» и основанная на принципиальном различии между публичной властью (суверенная юрисдикция, империум) и частной (отношения собственности, доминиум) а глобальный миропорядок, «номос», проистекает не из международной социальности, а из «политического богословия, задуманного в поддержку внутреннего абсолютизма» [Koskenniemi, 2004, p. 498].
Таким образом, МП, по происхождению европейское, а по содержанию межсуверенное, преследует двоякую цель: контроль внутреннего и внешнего порядка. Подобная форма политической теологии «структурно гомологична христианскому монотеизму» и на основе веры, а не ratio создает теорию врага, лежащую в основе политического состояния [Ibid, p. 499]. Помимо оппозиции друг/враг, определяется общая оппозиция универсализма и суверенитета. При этом основная задача для Шмитта состоит в том, чтобы отделить понимание «ложного и нигилистического универсализма» от верного. Представления о перспективах международной жизни выражаются двояким образом: либо реализм и ««вечное возвращение одного и того же», либо либерализм и «прометеанское самоубийство» из-за «роковой разницы в технологическом и моральном прогрессе человечества» [Ibid, p. 501].
По мнению М. Коскенниеми, альтернатива, предложенная Шмиттом, состоит в движении от «философско-натуралистического подхода к теологическому» с тем, чтобы «интерпретировать настоящее в свете христианской концепции истории» [Koskenniemi, 2004, p. 501; Schmitt, 1951, p. 244–249]. С другой стороны, противоречивый характер теории Шмитта отпечатывается в противоречивых оценках со стороны Коскенниеми: не убедителен полный отказ от натурфилософии, одновременно присутствуют концепты и языческого «вечного возвращения», и христианской линейности. Непоследовательный реализм в специфической форме христианского консерватизма Шмитта предполагает: (1) описание «мирского конфликта в терминах борьбы между Христом и антихристом»; (2) толкование смысла истории не через концепты «прогресса» или «единства», а через «спасение»; необходимость «фигуры катехон», понимаемой как «светский “ограничитель” пришествия антихриста» [Koskenniemi, 2004, p. 501–502]; (3) линейность исторического процесса и времени.
Альтернативы теологическому консерватизму
По мнению М. Коскенниеми, Шмитт, будучи универсалистом на свой манер, выступает как против «доминирования англо-американского универсализма», так и французского, и британского. И то, и другое для Шмитта — неверные типы изложения универсальных структур, то есть — в его системе категорий — ложные номосы земли.
Для Ж. Сселя МП нацелено на «социальную сплоченность как результат органической солидарности, основанной на биологии человеческих потребностей и неизбежно ведущей к федерализму» [Ibid, p. 503]. Так, Лига Наций представляет для него «начало политической организации государств» и, несмотря на все свои недостатки, «первые официальные очертания всеобщей федерации» [Doussis, 2013, p. 143–147; Scelle, 1925, p. 142]. Его мир состоял из «отношений между людьми, наделенных обществом “необходимыми компетенциями”» (то есть управленческий класс) и «сферой усмотрения, которая основывала их свободу», выражаемую в концептах «права на жизнь, свободу, передвижение, торговлю и экономическое образование» (то есть общество, гражданское или потребителей). В рамках этой системы воззрений «государство было просто выдумкой: в реальности существовали только отдельные лица, как субъекты свободы» [Koskenniemi, 2004, p. 503]. Поэтому, международное сообщество должно состоять не из государств и их способности принимать решения, а из лиц самого широкого социального происхождения, напрямую представленных на международном уровне [Doussis, 2013, p. 143–147]. Структуру международного сообщества, основанную на принципе «одно государство — один голос», необходимо сделать более демократичной, то есть создать Совет Советов, воплощающий объединение объединений. Демократизация означает децентрализацию и регионализацию международной жизни на основе принципа субсидиарности. Таким образом, мировое учреждение превратится в «федерацию федераций» [Ibid, p. 141], то есть в союз «мета-правительственный» и «мета-суверенный» [Ibid, p. 144]. В идеале же речь идет о международной организации на вершине иерархии правопорядков, воплощающей в себе «международную демократию» [Ibid, p. 141] при отказе от суверенитета. Международный правопорядок для Сселя состоит из трех базовых компонентов: универсальность, безопасность и этика [Ibid, p. 142], а всеобщая солидарность не гарантирует мировое единство: международное сообщество должно еще обладать самосознанием [Ibid]. Основным вопросом МП становится «догма суверенитета»: либо отказ от него ради социальной солидарности на основе правовых правил, юрисдикции и санкции, либо сохранение его для поддержания мира дипломатическими средствами. В последнем случае мир на планете — не более, чем химера, «пока есть субъекты права, ограждающие себя от права» [Ibid, p. 145]1.
Х. Лаутерпахт, также сторонник международного федерализма, видит в мире возникающую из «“общего права”, созданного международными судами и трибуналами», «всемирную федерацию», а «природу международного права определяет как “целостную систему” наравне с внутренним законодательством» [Koskenniemi, 2004, p. 503]. По мнению Г.И. Тункина, Лаутерпахт «идет дальше», чем это предписано Статутом МС ООН, утверждая, что «суд может рассматривать свои решения как выражение международного права» [Тункин, 2009, с. 161]. И в том, и в другом случае констатируется толкование МП на основе над-правовых категорий.
Лаутерпахт начинает с антипозитивистской критики МП [Lesaffer, 2005, p. 25–58]. В основе суверенитета как высшей власти находится концепция метафизической природы государства, отличная от природы частноправовых отношений и не слишком связанная с «исторической традицией» МП [Ibid]. Теория государства возникла из «аналогии государства с индивидом и переноса (естественного) права человека на государство» [Ibid, p. 28], эта аналогия распространятся и на все МП, подобное по своим принципам внутреннему (муниципальному) и, в этом смысле, свободное в своей системе от каких бы то ни было элементов неопределенности. Неполнота позитивизма дополняется и компенсируется «общими принципами права, признанными цивилизованными нациями» [Статут МС ООН, ст. 38], которые «относились к общему наследию (западных) национальных систем частного права» [Lesaffer, 2005, p. 29]. Отсюда, цивилизованными следует считать те нации, чьи правовые системы в своем развитии подверглись воздействию (рецепции) римского частного права, определившего общность различных национальных систем. Эта общность не столько исторически римского происхождения, сколько воплощение естественного права, тождественного jus gentium и которое — не простое предположение, а есть результат «обобщения правового опыта человечества» [Ibid, p. 30]. И хотя исследователи отмечают косвенный характер влияния римского права на МП, как минимум через глоссаторов и каноников [Gaurier, 2006, p. 532], а не напрямую из Римской империи, а также нет прямых ссылок со стороны МС ООН на общие принципы римского частного права, тезис о римских корнях МП служит не столько историческому пониманию, сколько формированию современного его толкования. Иными словами, постулируется неизменное ядро МП, ассоциируемое с римским, где исторические модификации ничего не меняют по сути. А суть такова, какова последовательность выстраиваемых понятий: римское право — МП — цивилизация — правовые системы Запада — опыт человечества, то есть другие истории государства и права не относятся к этому пониманию цивилизации, не наполняют своим развитием «опыт человечества». Исходя из этого, МС, в рамках такой логики, применяя и интерпретируя в своей практике «общие принципы права цивилизованных наций», имеет в виду определенные принципы и определенные нации и в этом смысле призван выполнить соответствующую метафизическую, метаправовую роль. Кроме того, тезис о МП как о результате «обобщения правового опыта [западного] человечества» говорит о человечестве как о сложившемся факте, как если бы оно уже было сформировавшимся субъектом этого «правового опыта». В действительности же человечество как понятие и историческая данность формируется вместе с накоплением и обобщением этого опыта. Таким образом, формируется рационально противоречивая метафизика МП, в основе которого усеченное и неподвижное человечество. Главными препятствиями как для Сселя, так для Лаутерпахта выступают «метафизические» или атавистские доктрины суверенитета, «которые должны быть в надлежащее время устранены международной федерацией» [Koskenniemi, 2004, p. 503]. Эти две доктрины выступают как различные варианты одной и той же «либерально-универсалистской юриспруденции». Иными словами, опровержение метафизики оппонирующих доктрин сопровождается декларированием иной метафизики МП: за нейтральным языком скрывается определенное сознание политической теологии [Ibid, p. 504]2.
Аналогичная идеология обнаруживается и современных подходах к МП: фрагментация МП «на технические “режимы”, ссылка на необходимость его “конституционализации” посредством иерархических отношений с учетом универсальных ценностей, выраженных в правах человека или общих понятиях, таких как jus cogens» [Ibid]. Политическая идеология в данном случае очевидна: гегемонизм, несмотря на то что объяснительной матрицей для такого видения является «вера в высшую доброту людей и мировую гармонию».
Реализм
Метафизика права, в рамках так называемого реалистического направления (Г. Моргентау), исходит из общих предпосылок, «что человек является злом, то есть отнюдь не беспроблемным, но опасным и динамичным существом» [Ibid]. Данная посылка строилась на идеологемах конца XIX в. «о цивилизующей силе прагматической, либеральной разумности», являясь, по сути, формой «бессознательного политического богословия», которое «интерпретирует мир через вездесущность греха» [Ibid, p. 505]. Такое сближение политико-правовых доктрин шмиттеанства и реализма позволяет квалифицировать действия США как «морально вдохновленный крестовый поход», основанный на «риторике свободы», с помощью которой США декларируют о «безусловном суверенитете над миром». Или же речь идет о «“циничной империи”, не имеющей такой веры» [Ibid]. В любом случае речь идет о политической «теологии свободы», когда «действия будут [признаваться] автоматически добродетельными независимо от того, были ли их последствия хорошими или злыми. Это логика (американского) национализма: несомненный авторитет моей (либерально-демократической) страны как единственного нормативного стандарта» [Ibid, p. 506]. Данный критицизм М. Коскьенниеми распространяет и на Европу: «европейский призыв к “правилам”» «против американской “гегемонии”» также «будет выглядеть как гегемонистский прием» [Ibid].
Таким образом, очерчиваются два типа «несопоставимых политических теологий» — «моральная империя» (США) и «международное право» (в европейской интерпретации) как разные системы категорий, нацеленные «охватить всеобщее». Желая встать над этим противостоянием, М. Коскенниеми ссылается на Хабермаса, призывающего уйти от моральных оценок и оппозиций через «нейтрализацию» и «децентрализацию» субъекта, что, в конечном счете, опять-таки возвращает к идеологии односторонних моральных требований [Ibid].3 Иными словами, и непрямой моральный режим, и нейтральность универсальных институтов не освобождает от идеологической и политической ангажированности, также предполагающей «критические», предельные, то есть метафизические точки зрения.
Если для США «ни один правовой порядок не может быть лучше их конституции», то Европа опирается, по мнению М. Коскенниеми, на позиции суверенитета, и эти точки зрения не противоречивы, если апеллировать к прагматизму, легитимности и эффективности. В конечном счете, МП интерпретируется в качестве светского проекта, способного к самокоррекции, «значение которого, тем не менее, будет дано горизонтом трансцендентности» [Koskenniemi, 2011, p. 507]. Но каким образом это возможно — допущение о самокоррекции и «горизонте трансцедентности», если не предположить, что системой международной жизни управляет некий интеллект, искусственный или естественный, к тому же обладающий трансцендентными способностями? — не разъясняется. Иными словами, в данном случае постулируется неизбежность явной или неявной теологии универсализма, который в то же время является неистребимым евроцентристским толкованием МП [Ibid, p. 152–176]. В результате, критика политической теологии предполагает иную (или «как бы иную») теологическую систему категорий.
Николя Гилхот [Guilhot, 2010, p. 224–253], исследуя формирование американского реализма и связанной с ним доктрины МП, также обнаруживает сущностное родство Шмитт-Моргентау. И того и другого объединяли «концепция политического, критика либерализма и международного права», «презрение к рационализму и… научному мышлению» [Ibid, p. 231]. Американские теоретики реалистического направления, вслед за Шмиттом, «нашли в процессе секуляризации коренную причину моральных абстракций», лежащих в основе шмиттеанского политического, которое «не было и не могло быть созданием универсального», не приводя «к тотальным войнам во имя “Человечества” или “цивилизации”», будучи действительно «оружием против прогрессивных и имперских тенденций либерализма» [Ibid, p. 247] Современное «секуляризированное государство держится на иллюзии самообоснования и действует на основе концепций, чьи богословские корни скрыты позитивистской правовой идеологией» (Эрнст Канторович), порождая «опасные политические религии» [Ibid, p. 233]. Если ранний «реализм действительно основывался на политической теологии» (до конца 50-х гг. ХХ в.), то со временем отпала необходимость в ссылке на «злую природу» человека для идеологического самообоснования: политика должна строиться так «“как будто”, он был злым и несовершенным» [Ibid, p. 247]. Политическая религия «сменяется» верой в расчет политической религии.
В этом же ключе воспринимается и концепт катехон, который делает возможной «детеологизированную форму политики» и который якобы «защищает сообщество от иллюзий абсолютного совершенства и абсолютного зла и прямо определяет политику на реалистичной почве». Между тем, как отмечает Н. Гилхот, «во многих отношениях катехон дал богословское покрытие вопросу о балансе сил после 1945 года» [Ibid, p. 235]. Иными словами, провиденциализм оказывается внутренней частью реалистической концепции баланса сил. Реализм исходит из того, что МП становится возможными лишь при сохранении общей религии, освобождая конкретные конфликты от морального содержания и оценок в рамках евроцентричного порядка, за пределами которого вопросы легитимности теряют свое первоначальное теологическое основание и соответствующее правовое измерение. Можно было бы игнорировать данные конструкты как реакционные или даже бредовые, пишет Н. Гилхот, но «Шмитт был не одинок» в вопросе о том, кто будет выполнять роль катехона в сдерживании беспорядка и генерировании нового баланс сил [Ibid, p. 236]. Американская доктрина МП впитала в себя шмиттеанские структуры мысли «о невозможности универсального международного права и о необходимости конкретного пространственного заказа» (M. Siegelberg) [Ibid, p. 231]. При этом Моргентау предполагает, что «появление двух сверхдержав лишило баланс сил его гибкости», а «само место [«держателя» баланса] больше не существует» [Ibid, p. 233]. Позднее, в 60-х, концепция катехона превратилась в «модель сдерживания или стратегического равновесия» [Ibid, p. 237]. И для Шмитта, и для Моргентау, «баланс был единственным, что осталось от идеи политики» в качестве «конкретного пространственного порядка, в отличие от абстракций международного права». Идея баланса становится способом инструментализации «интеллектуальной и моральной традиции западного мира», сформированной в процессе захвата новых пространств. Поэтому идея «расизированных и имперских сухопутных разделений» была в основании развития реализма [Ibid]. Такое «евроцентрическое понимание баланса сил было привязано к провиденциальному взгляду на историю, санкционировавшей европейское превосходство». Так, для Баттерфилда, баланс сил был не результатом человеческих действий, но Провидения [Ibid, p. 238].
Аналогично «влияние провиденциализма на классическую экономику», где «оптимальное распределение богатства эквивалентно распределению “невидимой рукой”» [Ibid]. «Стабильность и сдержанность», возникающие в процессе конфликта, напоминают «действие невидимой руки Адама Смита» [Ibid]. По Моргентау, баланс сил «“удерживается” определенным политическим субъектом или властью», когда существует «держатель» баланса, или «балансировщик». «Эта персонализация баланса является важнейшей характеристикой» [Ibid, p. 239] данной концепции, поскольку речь идет о совпадении провиденциального и исторического агента, что и предотвращает беспорядок, безвластие, или аномию. «Идея баланса сил имела трансцендентную, трансмировую точку отсчета, которая в деистическом богословии интерпретируется как функция божественного провидения. В деистическом словаре все еще есть “рука”, которая “держит” баланс» [Ibid, p. 238].
При отсутствии наднациональных стандартов морали появление нации определяет границы политического, а МП становится, скорее, инструментом, нежели препятствием для конфликтов. Демократия вкупе с универсализмом оказались в основе разрушения и старого порядка межсуверенных отношений, и самой природы модерна. В этом, отмечает Н. Голхот, позиции Шмитта и Моргентау по сути тождественны: нейтрализация государства для Шмитта, дезавуирование суверенитета для Моргентау вследствие распространения демократии и либерализма — процессы негативные в отношении суверенной политической роли государства, размывающие границы его власти [Ibid, p. 241]. Таким образом, национальное государство становится высшим проявлением легитимности, отрицая общие, то есть наднациональные, «моральные стандарты поведения». Националистический универсализм, пришедший на смену наднациональному универсализму «общих моральных правил», определяет границы политического мира. Отныне, будучи высшим проявлением морали, национальное государство «оправдано во всех своих внешних действиях, и его войны становятся тотальными войнами уничтожения, которые можно вести во имя человечества» [Ibid, p. 242]. Критикуя либеральный интернационализм, Моргентау видит выражение «великой позитивной силы, которая формирует политическое лицо нашего века: национализм» [Ibid].
В скрытом виде речь идет о претензии на универсалистское толкование американского национализма. «Секуляризм является реальной причиной превращения национализма ХIX-го века в “экспансивную религию”» [Ibid, p. 243], и долгое время реализм Моргентау ложно воспринимался как прагматический отказ от всяких идеологий. Свидетельством обратного является «почти инстинктивное осознание извечного интереса Соединенных Штатов в западном полушарии» (доктрина Монро), для защиты которого и необходима политика баланса сил. Именно таким образом понятый реализм для Моргентау совпадает со смыслом американской истории, и «любой акцент на гуманитарных ценностях и моральных идеалах» был бы ее пересмотром [Ibid, p. 244]. «Контрабанда» шмиттеанских воззрений, внутренняя противоречивость теории Моргентау, наличие нечетко определенных разных «реализмов», критика национализма и идеологий в шмиттеанской упаковке — все это выражает попытку «”американизации” богословия власти» [Ibid].
По мнению Г. Уилсона, который «сразу же осознал теологический элемент» в теории Моргентау, консерватор не защищает зло как часть природы человека, а лишь признает его наличие как постоянный фактор [Ibid, p. 244–245]. Последнее, по нашему мнению, неотделимо от культивации постоянства (зла). С другой стороны, причиной конфликтов следует считать не различия в национальных интересах, а собственно фактор взаимной «моральной претензии» наций в условиях отсутствия общей религии [Ibid, p. 244]. Этим и объясняются негативные последствия секуляризации, когда у каждого государства есть своя «универсальная мораль», открывающая путь тотальной войне.
Иными словами, при отсутствии общей религии, религией становится национальное видение мира, на основе которого происходит превращение концепции баланса сил во внутреннюю структуру политической теологии (секуляризация катехона). В эпоху же ядерного противостояния «теологизированный» баланс сил выражается в доктрине сдерживания [Ibid, p. 247]. Складывается картина, в которой любой западный светский проект МП основывается на неких постулатах неограниченной веры, будь то вера в умиротворяющую силу институтов (Ссель), решающую силу международных судов (Лаутерпахт), в истину захвата и насилия как «радикального основания» МП (Шмитт), в национальный интерес как религию сдерживания и высшее моральное самообоснование (Моргентау), в евроцентрическое МП (в форме крайнего или умеренного евроцентризма, когда и критика евроцентризма неискоренимо евроцентрична) [Koskenniemi, 2011, p. 152–176] и его правила для всех, а также вера в способность международного сообщества к самокоррекции, обозначенной «горизонтом трансцендентности» [Koskenniemi, 2004, p. 507] Во всех этих примерах мы видим метафизические основания международно-правовой доктрины, которые матрично связанны с универсалистскими и евроцентричными интенциями внутри представлений о цивилизации (в единственном числе), то есть при сохранении господства регионального проекта в том, что касается описания и объяснения сущности международной жизни, МП.
Этим доктринам, выстроенным, по сути, на различных вариантах метафизики господства, можно противопоставить иной взгляд, не менее, а может и более оправданный с точки зрения исторических, гуманистических, теоретических положений современного МП, возникшего и существующего на основе мирного сосуществования, правового интернационализма, деколонизации, суверенитета, сохранения цивилизаций (во множественном числе), прав человека, неотделимых от прав наций и государств — тот процесс, который, собственно, и конституирует МП после 9 мая 1945 г. Ложные метафизические доктрины опровергаются альтернативной доктриной в метафизическом же поле, хотя существуют и собственные исторические и теоретико-правовые аргументы ее обоснования. В любом случае критика метафизической доктрины (теологического компонента) предполагает построение альтернативной доктрины в метафизическом же поле; международно-правовое содержание доктрины (правовой компонент) защищается ссылкой на исторический реализм.
Контуры национальной доктрины МП
На основе вышеизложенного возникает два типа вопросов: (1) возможна ли внеметафизическая критика метафизики? (2) какие выводы можно сделать из обзора теологии международно-правовых доктрин?
(1) Если критика невозможна, то любые дискурсы на эту тему неизбежно порождают герметичные формы правовой мысли, состоящие из аутореферентных понятий, а политико-правовая мысль при этом становится либо инструментом, либо предметом манипулирования.
С другой стороны, рационализация метафизических оснований не означает непременно отказа от них и может выражаться в намеренном сохранении той же практики или оценок: необходимо действовать таким образом, «как если бы это было так», снимая какую бы то ни было необходимость объяснения. Абсолютность метафизических оснований меняется абсолютизацией политических действий, не связанных с необходимостью обоснования. Происходит перенос непогрешимости высших оснований на политическую реальность, предопределяющую моральную легитимность правовой легитимности. Суверенность монарха меняется суверенностью государства-нации. Светская концепция суверенитета оказывается усеченной версией богословия: речь идет лишь о власти и законе, а о других аспектах религиозного сознания нет речи. Светская версия богословия власти становится основой межсуверенных отношений (в Европе), в рамках которых формируется право властных субъектов. Чем крупнее величины этих лиц, тем уже пространство для политического маневра и тем нагляднее система баланса сил. В рамках такого видения актуальное МП производно от баланса сил, производного от светской теологии власти.
Но теология баланса сил с участием катехона — с какой бы стороны это не провозглашалось — наталкивается на одно теоретическое затруднение: кто и кем уполномочен видеть в другом носителя зла? Теология баланса сил имеет смысл при условии, что другая часть баланса нуждается в равновесии, в удерживании, в конечном счете, в политике сдерживания. Но для этого противная сторона баланса необходимо отождествляется со злом. Если этого не происходит, нет смысла обращаться к концепции катехона. Иными словами, противник должен быть десубъектирован, деперсонализирован, то есть лишен каких бы то ни было оснований — моральных, правовых, политических — своего существования. Иными словами, концепция катехона привлекается для обоснования экзистенциального противостояния в одной системе координат. Политический враг (1) становится объектом тотальной войны, когда покидает сферу не политического, а человеческого, когда объявляется таковым или действует так, как если бы он был над сферой (исторически) европейского, в конечном счете, над человечеством. Европа, отождествляемая с человечеством, лишается рациональности или последовательности в этой сфере. Теология власти (2) переносится из сферы внутренней во внешнюю. Пока совпадение политического и человеческого сохранялось, тотальная война была возможной лишь за пределами общего для европейских государств порядка4. Когда же экспансия европейского порядка МП становится невозможной, начинаются войны за колониальное наследство. Война становится преимущественно внутренним атрибутом общего порядка, когда любой субъект этой системы права может быть обоснованно или безосновательно объявлен врагом человечества, против которого нет ограничений в смысле средств воздействия. Достаточно обвинения в нарушении высших ценностей универсализма (права человека, демократия), чтобы объект тотального воздействия был определен. В самих ценностях и воплощен метафизический компонент МП, предопределяющий решение вопроса о добре и зле, друга/врага, цивилизации/варварства.
История Второй мировой войны показывает пример исторически обоснованного, а не только идеологически мотивированного сопротивления тому, кто позиционирует себя над человечеством и человечностью, когда мировая война превращается в тотальную против — не народа — а государства-агрессора, и когда союзники спешат присоединиться к этой войне, с тем чтобы война, становясь тотальной, не приблизилась к их границам, сферам влияния5. Иная картина возникает, когда нет явных оснований — в терминах данной доктрины — для тотальной войны, когда из тезиса о нейтрализации и секуляризации выводится объективная возможность и право на полное вытеснение и уничтожение. Отсюда, любая доктрина, претендующая на универсальность, может быть обоснованием (для себя миссии, для других — узурпации) права и обязанности по защите международного сообщества, человечества6. В ХХ в. две основные мессианские доктрины — коммунизм и либерализм — пришли к оформлению общемирового реального баланса сил. В рамках доктрины и системы МП восточное крыло этого равновесия утвердило принцип мирного сосуществования, западное — доктрину сдерживания. Либеральное крыло, оставшись наедине с миром после краха биполярной системы, реально и доктринально продолжило нести свою миссию, экспансию, империализм. Идеология тотальной войны выразилась не только в том, что декларировалась победа над «империей зла». Наиболее наглядно это выразилось в 1999 г., когда возникла формула: необходимость защищать права человека с помощью средств реальной политики7. Иными словами, и либерализм, и реализм, как мессианские идеологии, окончательно превратили МП в инструмент тотального, то есть не связанного с правовыми ограничениями, вытеснения иных политических центров и деперсонализации субъектов международной жизни.
Таким образом, критика метафизики МП может выйти из зоны релятивизма и в то же время не потонуть, в свою очередь, в дебрях иной (своей) метафизики, не имеющей внутренней рациональной дифференциации (политика — мораль — право). Это может быть при условии, что данная критика не связана с концептами тотальной войны на иных основаниях, нежели юридически установленные понятия преступления против человечества. В этом случае альтернативная критика метафизики МП должна обращаться к правовым принципам и нормам, больше говорить об исторически имевшем место, основывая на этом желательный образ будущего. А главное — апеллировать не к категориям господства, а к категориям общения, диалога, сотрудничества, в конечном счете, уважения к общей сфере международной интерсубъективности, где никто не стремится никого стереть с лица земли или вытеснить за рамки международной персональности (консенсус существования), оставляя за МП, как сферой возможности и легитимности, роль единственного средства формирования пересекающихся образов мира для основных действующих лиц. Таким образом МП становится пространством коллективной персонализации международного сообщества, чья правосубъектность складывается из правосубъектности миродержавных8 [Данилевский, 2015, с. 377] лиц. У РФ есть все основания — исторические, политические, международно-правовые, моральные — для такого позиционирования в мире.
(2) Второй тип вопросов касается возможностей национальной теологии МП. Обзор истории теологических аспектов МП говорит о том, что они а) являются частью истории международно-правовых учений, б) возможны в различных вариациях и, стало быть, в) ничто не мешает говорить об альтернативных им версиях в сугубо метафизических категориях.
В международно-правовом смысле для СССР и РФ как правопреемника «9 мая» символизирует превращение в одну из стран, конституирующих международную систему и сообщество в рамках ООН, в одну из пяти стран, обладающих сверхполномочиями («право вето» в СБ ООН). Иными словами, между современной РФ как субъектом МП и современным международным сообществом существуют общие базисные структуры.
1) Метафизический план строится на понимании Второй мировой войны как последней (другой войны для основания другой системы МП быть не может: речь идет о конце человечества). Отсюда, при невозможности полного отказа от ооновских структур, иной должна быть не будущая система МП, иным должно быть состояние нынешней системы.
2) Кроме этого, метафизический смысл 9 мая состоит в том, что это — дата победы над абсолютным злом того времени, закрепленной в международно-правовом плане, а также начало коренной ломки колониальной системы и реализации принципа самоопределения наций, существенный вклад в разрушение крайних евроцентрических позиций (реанимируемых в последнее время), в распространение идей о приоритете социально-экономических прав человека, принципа мирного сосуществования. По признанию М. Коскьенниеми, «по иронии судьбы, тогда, на протяжении полувека, Советский Союз мог взять на себя роль Шмиттского Катехона — ограничителя пришествия Антихриста» [Koskenniemi, 2004, p. 493]. Единственное, с чем трудно согласиться в связи с этим, что фигура катехона возникает не в силу глубинной исторической закономерности, а так, «по иронии судьбы».
3) Победа над абсолютным злом закономерна. Абсолютное зло может быть побеждено только абсолютным добром. Иное (например, в форме приравнивания фашизма и коммунизма) означает отрицание концепции абсолютного зла и его проекции в конкретно-историческом виде. За рамками концепта абсолютного зла можно говорить лишь о столкновении относительных сил зла: меньшее зло против большего. Но меньшее не может победить большее, а равно относительное — абсолютное. Непризнание того факта, что СССР защитил и сохранил основное право человека и целых народов — право на жизнь — означает, что для тех, кто стоит на позициях непризнания этого, допустима в принципе идея симбиоза внутри фашистской, нацистской системы. В истории МП концепция абсолютного зла — это и пираты, как «враги человечества», и идея десуверенизации агрессора, и уголовная ответственность за преступления против человечности.
С другой стороны, сегодня концепция абсолютного зла становится инструментом действий, направленных на десуверенизацию, деперсонализацию, то есть лишение статуса субъекта или ограничение жизненно-важных условий существования того, кто идентифицируется в качестве врага — без юридических на то оснований9.
В этом же ключе выстраиваются и суждения о «цивилизованных нациях» как о носителях высших стандартов поведения и существования. Если данный концепт, независимо от его интерпретации, заключен в Уставе ООН, то это лишнее свидетельство того, что современное МП сохраняет в себе потенции расизированного и проколониального отношения10.
Основные мировые центры (или лица) формируют свои образы мира, свои модели мироустройства. Будучи региональными по своей природе, они колеблются между наличием в себе универсалистских интенций и принципиальной невозможностью экстраполировать региональный опыт универсального измерения на весь мир, ибо часть не выражает непосредственно целого. Приобретая форму теологического описания мира, то есть являясь носителем мессианских программ, они содержат в себе фундаментальные качества непримиримости, разбивая международное сообщество на ряд отдельных международных сообществ со своими центрами притяжения (фрагментация?). В этом случае мирное состояние, как и в эпоху холодной войны, может быть опосредовано постоянной отсылкой к принципу мирного сосуществования — в качестве первого среди равных — основных принципов МП.
В отношении носителей мессианских программ, с точки зрения их субъектов, любая теология МП должна предполагать нечто целое, хотя и не определяемое рационально и идентично для всех, то есть не может быть уделом общей картины мира. Принцип мирного взаимодействия мессианских программ может быть вписан лишь в систему метафизических категорий МП, оперирующую светским языком, который, стремясь к выражению конечных формул добра и зла, друга и врага, решает для всех по-своему основные этические, политические и международно-правовые вопросы. При этом, естественно, не может быть интегральной [Каракулян, 2019, с. 146–152] метафизической системы. Теологическая интеграция абсурдна, как любое противоречие в термине11. Тем не менее в условиях, когда каждый остается при своем, существует небольшая надежда, если не условие баланса сил, оперирующая логикой консенсуальных и конвенциональных оснований МП, что на уровне международно-правовых институций минимально необходимый универсальный status quo будет сохранен в качестве основания международного мира и безопасности. Но этот status quo — часть метафизической и правовой «доктрины 9 мая». С другой стороны, оформление мессианских программ может свидетельствовать о том, что мир вступает в эпоху новых религиозных войн, а светский характер МП — лишь прикрытие, независимо от того, к чему апеллируют их адепты. Отсюда, новая система МП нуждается, по идее, в «новом Вестфале», а не только в «новой Ялте».
Конкретизацией общих теоретических, правовых, метафизических оснований МП может служить «доктрина 9 мая». Отрицание же, пренебрежение или умолчание этого со стороны РФ в практике международной или внутренней жизни подобно потере лица, то есть настоящей международной субъектности, политической и правовой. Любые способы и формы десуверенизации, деперсонализации РФ должны расцениваться в качестве угрозы не только ее суверенному состоянию, но и безопасности и сохранению всего мира. Национальная доктрина интернационального права становится особой формой персонализации мира, диалектического процесса взаимодействий между традиционной суверенностью лица и специфической правосубъектностью международного сообщества. Для реализации же этого требуется особое величие. Иными словами, речь идет о том, что, формируя мировую систему и сохраняя свои позиции, миродержавные лица должны обладать великодушием и способностью подняться над своими эгоизмами. В этом смысле политика МП на основе «доктрины 9 мая» имеет общемировое и всечеловеческое значение на всех уровнях рационализации: от истории до метафизики и от метафизики до международного права.
Примечания:
1 Предисловие Сселя к произведению: P.-E Brugière. La règle de l'unanimité des membres permanents au Conseil de Sécurité. «Droit de vetо». Paris, Pedone, 1952, p. XV. Цит. по: Doussis E.
2 М. Коскенниеми отмечает, что для Шмитта «в федералистской утопии Сселя политика исчезнет, и глобальный институт будет выглядеть как “тотальное государство”», проповедующее «тотальный “нейтралитет”», которым должны обладать экономические и социальные интересы, социология в целом, понятая как, своего рода, «эрзац-богословие», что «предоставляет лишь нейтральный научный язык для политических заявлений». Ibid, p. 504.
3 Речь идет о том, что «против непрямой моральной истины» необходимо создавать особые системы правил и учреждений. Морализация как способ «“ложного кодирования” права в соответствии с морально-политическими критериями “добра” и “зла”» противопоставляется центральному для права «требованию универсальности». В рамках такого подхода «нейтрализации» «правовые требования не являются (или не только) завуалированными моральными требованиями; это заявления, которые децентрализуют собственную позицию, что подразумевает паритет между юридическими субъектами и непредвзятой “третьей стороной”, которая будет принимать решение». Однако, с другой стороны, «любое деконструктивное разоблачение идеологически сокрытого использования универсалистских дискурсов фактически предполагает критические точки зрения, выдвигаемые этими же дискурсами» и «нет единого мнения о том, что такое правильная, “беспристрастная”, “внешняя” процедура…» [Koskenniemi, 2004, p. 506].
4 Утверждение о противоречивости доктрины Шмитта не отменяет его вклада в раскрытие колониальной, империалистической сущности исторического европейского МП.
5 Само понятие «тотальной войны» в доктрине Шмитта возникло до 1945 г.
6 Наглядный пример — доктрина гуманитарного вмешательства, обязанности по защите.
7 Об этом автору статьи говорило одно из должностных лиц (greffier) Совета Европы.
8 Термин Данилевского Н.Я.
9 Другим способом деперсонализации международных лиц — моральной или политико-правовой — становятся дискурсы о девиантном поведении или неких стандартах нормальности (правилах), в основе которых речь идет о внеюридических категориях, используемых для обоснования интенций международно-правовой и политической деперсонализации оппонента. При этом вопрос о том, кто является носителем такой нормальности, остается в тени рациональности. Данные категории не рефлексируются, как и подобает теологическим концептам; достаточно быть (неспособным к рефлексии) адептом такой религии.
10 Эта странность подчеркивается еще и тем соображением, что само словосочетание «цивилизованные нации» содержит в себе внутреннее противоречие: политическая нация — это уже продукт цивилизации, а народов, не имеющих государства, в ООН нет.
11 Основное противоречие состоит в том, что интеграция как процесс лишь стремится к суммарной идентичности, в то время как теология уже обладает своей идентичностью, от которой не может отказаться без самоотрицания в целом.
*МП — международное право.
Об авторах
Эмиль Альбертович Каракулян
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Автор, ответственный за переписку.
Email: isoforma@yahoo.fr
ORCID iD: 0000-0003-0761-6601
кандидат юридических наук, доцент кафедры европейского и международного права
Россия, г. Нижний НовгородСписок литературы
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 2015. 602 с.
- Каракулян Э.А. Методология междисциплинарных исследований и наука международного права // Legal Concept = Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 4. С. 146–152. DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.4.20 (дата обращения: 29.04.2020).
- Кондуров В.Е. Политическая теология Карла Шмитта: дискурс и метод // Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. 2019. Т. 14. № 3. С. 49–78. doi: 10.35427/2073-4522-2019-14-3-kondurov.
- Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2009. 416 с.
- Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб., 2008. 670 c.
- Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. 336 c.
- Doussis E. L’organisation politique à vocation universelle dans l’oeuvre de Georges Scelle: théorie et applications // Actualité de Georges Scelle. EUD, 2013. P. 143–147.
- Gaurier D. Histoire du droit international: Auteurs, doctrines et développement de l’Antiquité à l’aube de la période contemporaine. PUR, 2006. 532 p.
- Guilhot N. 2010. American Katechon: When Political Theology Became International Relations Theory. Constellations, 17 (2). P. 224–253. URL: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8675.2010.00586.x (дата обращения: 01.05.2020).
- Koskenniemi M. International Law as Political Theology: How to Read Nomos der Erde? Constellations, 11 (4). 2004. P. 492–511. URL: http://dx.doi.org/10.1111/j.1351-0487.2004.00391.x (дата обращения: 01.05.2020).
- Koskenniemi M. Histories of International law: Dealing with Eurocentrism. Rechtsgeschichte. Legal History. 2011(19). P. 152–176. URL: http://dx.doi.org/10.12946/rg19/152-176 (дата обращения: 01.05.2020).
- Lesaffer R. Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription. European Journal of International Law. 16 (1). 2005. P. 25–58. URL: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chi102 (дата обращения: 01.05.2020).
- Scelle G. La politique internationale. La vie publique dans la France contemporaine. 1925. P. 141‒159.
- Schmitt K. L’Unité du monde. Du politique. Légitimité et légalité et autres essais. Puiseux: Pardès, 1990. P. 244–249.
Дополнительные файлы