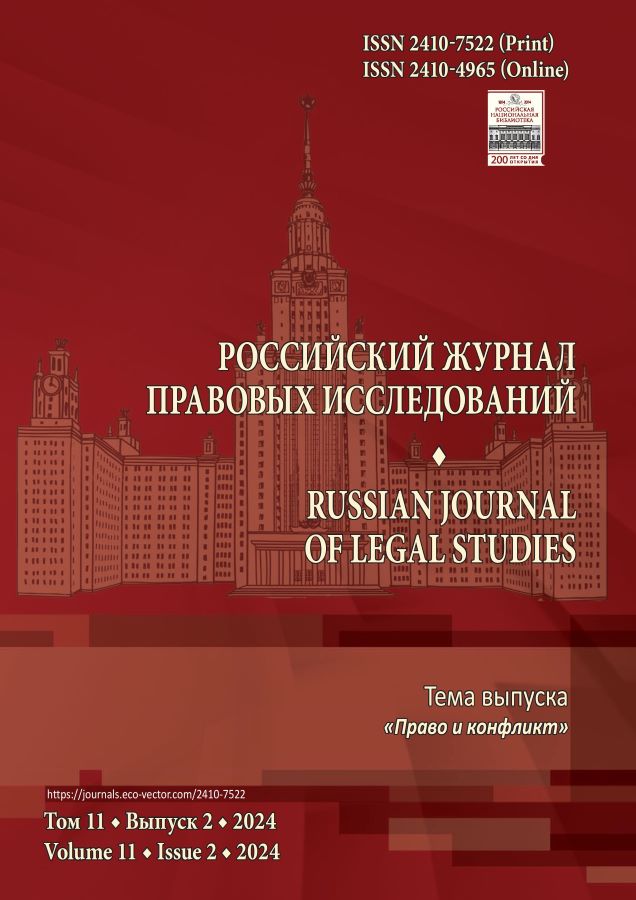Кровная месть как средство социальной защиты в древних и средневековых обществах
- Авторы: Сорокина Ю.В.1
-
Учреждения:
- Воронежский государственный университет
- Выпуск: Том 11, № 2 (2024)
- Страницы: 7-14
- Раздел: Актуальная тема
- Статья получена: 10.05.2024
- Статья одобрена: 03.06.2024
- Статья опубликована: 19.07.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/631860
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS631860
- ID: 631860
Цитировать
Аннотация
В настоящей работе рассматривается институт кровной мести, которая представляла собой форму возмездия и раннего уголовно-правового наказания. Выясняются причины и условия появления кровной мести, ее стабилизирующая функция в обществе. Также в статье раскрываются особенности процедуры кровной мести у иудеев, славян, германских народов, в частности определение того, кто имеет право совершать кровную месть, в отношении каких лиц. Наконец, проанализирован процесс ослабления кровной мести в силу установления государственной монополии на наказание.
Ключевые слова
Полный текст
Кровная месть имеет огромное значение в истории человечества. Ей посвящены литературные произведения, театральные постановки, кино, что объясняется почти мистической притягательностью, трагичностью и романтикой этого явления. В науке кровная месть тоже вызывает большой интерес. Это относится к истории, философии, культурологии, юриспруденции.
Кровная месть изначально есть реакция на агрессию, но одновременно является олицетворением возмездия и справедливости. В определенном смысле она сродни законам природы. В основе кровной мести лежит идея справедливости, о которой человек мечтает с давних пор. В этом русле формировалась система оценок и долженствований. Кровная месть — это ретрибутивная, воздающая справедливость, теория которой была сформирована Аристотелем. Это вид возмездия, воздаяние злом за зло. Как пишет Г.В. Мальцев, суть возмездия сводится к тому, что «человеку возвращается эффект действия (в натуральном или эквивалентном виде), которое он причиняет другим. Если он причинил страдания, то страдание дóлжно причинить ему» [1, c. 9]. В определенном смысле стремление к воздаянию является естественным правом. Особенно ясно это представляли себе люди догосударственного периода, где основной социальной единицей являлся род. При родовом строе «человек действует на основе принципов неотвратимости возмездия во всех случаях, когда он испытывает добро или зло, либо причиняет их другим людям и воспринимается ими как универсальный принцип для природы и сообщества» [1, c. 9]. То есть возмездие — это часть вселенской справедливости, на которой зиждется устройство мира. Справедливость и возмездие в сознании древних людей мыслились не как что-то субъективное, а как всеобщий закон поддержания баланса. Следует сказать, что проблема возмездия актуальна и в наше время, поскольку мировоззрение современного человека так же, как и в древности, включает в себя веру в добро и зло. Г.В. Мальцев справедливо указывает, что «вся человеческая культура, начиная с первых ее шагов и до современного состояния, выстроена на зыбком равновесии добрых и злых, положительных и отрицательных начал» [1, c. 9]. Кровная месть ― та реалия, где проявляется возмездие. Правда, среди ученых существует мнение, что воздаяние в первую очередь есть возвращение утраченного и лишь потом устранение источника вреда, а поскольку этим источником был человек и целая социальная группа, то подавление совершается в форме кары и наказания [1, c. 10]. Такая точка зрения весьма спорна, так как мысль о возмещении ущерба появилась значительно позже.
Кровная месть берет свое начало в чувстве справедливости, которая постепенно приняла правовую форму, а именно форму правового обычая. «Это первая в своем роде своеобразная ступень динамически развивающейся системы наказаний, следующих за правонарушением, основанная на справедливости» [2, c. 56].
Кровная месть становится возможной в условиях сплоченной социальной группы, где радость и невзгоды делятся на всех и, следовательно, объединяют социальную группу в единый коллектив. Имеет место глубокая солидарность, и каждый воспринимает проблемы сородича как свои собственные. Это было глубокое психологическое единение. Кроме такой горизонтальной сплоченности присутствовала и сплоченность по вертикали, что означало крепкую связь с умершими родственниками, предками ― покровителями рода. Культ предков, тотем, наличие постоянного места проживания, ландшафт, жертвоприношение ― все эти институты способствовали сплочению древних социальных групп. Поэтому убийство члена рода или клана воспринималось как потеря и оскорбление для всего сообщества. Месть убийце и всему роду, к которому тот принадлежал, становилась общим делом, и мщение распространялось не просто на обидчика, но и на весь род. Г.В. Мальцев считает, что в своих истоках для кровной мести была свойственна ретрибутивность ― кара, пропорциональная проступку: «Идеалом было полное тождество, причем не только количественное, но и качественное тождество. Основанная на талионе кровная месть пыталась как можно точнее выдержать тождественность намеченной жертвы убитому родственнику ― по возрасту, здоровью, охотничьей или военной сноровке, по социальному рангу. Мстителям приходилось долгое время выжидать пока в виновном роде подрастет мужчина, отвечающий требованиям тождественности» [1, c. 13]. И не важно, что убийцей был другой человек, так ответственность была коллективной. Ее нес весь род, причем не только живущие на тот момент, но и будущие поколения. Коллективная вина порождала коллективную ответственность. А.В. Чепус считает, что кровная месть в период родоплеменного строя была главным способом урегулирования конфликта1. Об этом свидетельствует тот факт, что кровная месть получила нормативное регулирование. Здесь уместно поставить вопрос: можно ли кровную месть отнести не просто к обычаям, но и к правовым явлениям? Была ли она нормативным институтом? Относилась она к праву или к морали? Думается, что это было правовое явление, так как кровная месть заключала в себе права и обязанности, корреспондирующие друг другу, а правовая норма и отличается указанием на возможное и должное поведение. Убийство члена рода порождало право мести, причем она была институализирована. Род-обидчик обязан понести наказание. Но этот институт нес в себе и мощный эмоциональный заряд, так что он относится и к сфере морали. Кроме того, здесь можно увидеть соединение права и обязанности. Кровная месть была правом, но одновременно обязанностью: отказ от мщения навлекал позор и презрение со стороны общества. Так, А.В. Чепус считает, что кровная месть ― это восстановление равновесия. Он пишет: «Проанализировав ряд исторических источников и представлений многих мыслителей современности и прошлого, отмечу, что смысл кровной мести скорее состоял в том, чтобы уравнять силы враждующих родов, так сказать не потерять равновесие вследствие убийства сородича, защищать себя от нападок другого племени и не допускать ослабление рода обидчиками»2. В кровной мести обиды и оскорбления, то есть эмоционального элемента, больше, чем элемента причинения материального, экономического ущерба. Например, когда в процессе кровной мести убивали сильного рабочего мужчину, который бы своим трудом мог бы возместить вред, в первую очередь возникал все же психологический стресс. Впоследствии с развитием экономики материальный фактор начинает иметь большее значение. Состояние кровной мести мешало развитию хозяйства, поскольку все члены клана были заняты именно ею и всегда можно было ожидать засады, внезапного столкновения с кровником. Свободно заниматься хозяйством люди не имели возможности. Эти процессы изменяют отношение к кровной мести, хотя идея баланса и равновесия была крепко внедрена в сознание древних людей. Постепенно стала формироваться система выплаты вергельда (компенсации). Но переход к компенсации и примирению был очень непрост. Кровная месть ― это плата за жизнь и страдание, и долгое время ей не было замены. Еще длительный период примирение, достигавшееся в результате выплаты вергельда, вызывало презрение со стороны сообщества.
А.Н. Конев высказал справедливую мысль, что кровная месть связана с явлениями, уходящими своими корнями в первобытное общество, а именно: 1) запрет на брачные отношения внутри своего рода; 2) формирование в сознании деления на «свой» ― «чужой» [3, c. 143]. Причем, по мнению исследователя, даже брачные союзы между родами не делали их «своими». В связи кровной мести и запрета эндогамных браков можно усомниться. Этот запрет объясняется борьбой мужчин одного рода за женщин. Поэтому с рождения женщины предназначались для замужества и оставления своего рода. Да, в этой борьбе опасности подвергались здоровые сильные мужчины ― костяк рода, да и женщины тоже. Поэтому общество отказалось от эндогамных браков. Но к кровной мести это имеет сомнительное отношение. Деление на «своих» и «чужих» было характерно для первобытнообщинного строя. Но убийство могло совершаться и внутри своего рода. Тогда «свои» становились «чужими».
Г.В. Мальцев, выделяя характеристики кровной мести, указывает, что она обрушивается на виновных в нарушении общественного равновесия, то есть это ― воздаяние злом за зло, «акт возвращения человеку или коллективу его дурных дел» [1, c. 13]. Главная цель кровной мести ― возмездие. Поэтому основной чертой кровной мести является ретрибутивизм. Это значит, что совершается карательное правосудие, а воздаяние пропорционально совершенному преступлению. Еще в кровной мести присутствуют элементы реституции и репарации, которые появляются при достижении определенного экономического развития [1, c. 14]. Реституция предполагает восстановление утраченного, например возвращение человеку его статуса. Репарация представляет собой возмещение ущерба, в частности выплату вергельда.
Таким образом кровная месть включает в себя четыре элемента: 1) удовлетворение чувства мщения, что составляет эмоциональную природу кровной мести; 2) восстановление чести, где мститель, совершая кровную месть, защищает честь всей группы, к которой он принадлежит; 3) возмещение убытков, связанных со смертью члена рода, поскольку последний терял работника и воина (кровная месть могла совмещаться с выплатой вергельда, а далее именно возмещение вышло на первый план в системе наказаний); 4) кровная месть восстанавливала природное равновесие, нарушенное преступлением.
А.В. Чепус выделяет следующие черты кровной мести: 1) оскорбленный род выбирал жертву «сообразно со статусом и достоинством покойного, поэтому, как ранее говорилось, возможная жертва не была виновна в убийстве, но ответственность ложилась на весь род»3; 2) первоначально круг мстителей и жертв был очень широким: это были и мужчины и женщины и даже дети, ― но постепенно кровная месть становится исключительно мужским делом; 3) право на кровную месть возникало лишь при убийстве, другие преступления не влекли за собой мщения; 4) кровная месть передавалась из поколения в поколение, имела затяжной характер (бывали случаи, когда враждующие забывали, что изначально послужило поводом для кровной мести, причем мстители могли выйти за пределы эквивалента, и тогда род, в отношении которого совершалась кровная месть, сам становился мстителем); 5) возможны были случаи, когда кровная месть прекращалась в результате примирения4. К этому следует добавить, что к одной из целей кровной мести относилось недопущение ослабления рода. Но ни эта цель, ни цель достижения равновесия не достигались, поскольку кровная месть порождала ответное мщение. Кровопролитие было вечным, убийство приводило к убийству и все к новым и новым виткам кровной мести. Результатом вечной вражды было не просто ослабление, но даже истребление всего рода [4, c. 46].
Как уже говорилось, кровная месть довольно рано стала нормативным институтом и должна была совершаться в соответствии с определенными правилами. На эту процедуру кровной мести могла влиять степень вины убийцы. Г.В. Мальцев пишет: «Первая и, по-видимому, самая простая классификация убийств возникла в связи с институтом примирения. Люди стали делить убийство на две категории: те, которые просто ограничивались мерами по восстановлению ущерба» и «непростительные убийства, за которыми следовала кровная месть» [5, c. 152]. Умышленные ― «дерзкие, вероломные, жестокие тайные5» и неумышленные ― без злого умысла, совершенные вследствие случайных обстоятельств. В частности, в скандинавских мифах неумышленное убийство получало оправдание. Так бог Хёд, будучи слепым, убил юного бога Бальдара. Встретившись со своим убийцей в новом мире, Бальдар прощает Хёда и признает его невиновным в убийстве. Убийству подлежал также вор, которого застигли на месте преступления.
Русский ученый А.С. Малиновский связывает кровную месть со смертной казнью. В древности, когда смертной казни в современном смысле не существовало, она осуществлялась руками потерпевшего в форме кровной мести [6, c. 1].
Одним из древнейших источников, хранящих тексты о кровной мести, является Библия. По Библии месть является и правом, и обязанностью мстителя, возложенной на него Богом. В данном случае месть ― священное право и религиозная обязанность. Это связано с тем, что человек является образом и подобием Бога, а потому жизнь его священна и неприкосновенна. Так, после потопа Бог сказал Ною и его сыновьям: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека» [7, Быт., 9:6]. Позже Моисей повторяет эти слова: «Кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровью пролившего ее» [7, Числа, 35:31-33]. При этом замена кровной мести выкупом не поощряется, но даже запрещается Моисеем: «Не берите выкупа за душу убийцы, который повинен в смерти, но его должно придать смерти» [7, Числа, 35:33–38]. Поскольку кровная месть ― это религиозный ритуал, то мститель просил Бога о помощи. Об этом, в частности, говорится в 93-м псалме: «Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви Себя, восстань Судия земли, воздай возмездие гордым» [7, Пс. 93:1–2]. Моисеево право в нормативном порядке закрепило процедуру осуществления кровной мести. При совершении убийства суд назначал мстителя за кровь, и тому предоставлялось право вершить отмщение. Мстителю предписывалось выбрать города-убежища: «Выбирайте города для убежищ, которые были бы у вас сии городами-убежищами от мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший прежде, чем он предстанет перед общество на суд» [7, Числа, 35:11–12]. Если убийца убегал из города-убежища и в это время его настигал мститель за кровь, то последний мог убить его, «ибо тот должен жить в городе до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен возвратиться убийца в землю владения своего» [7, Числа, 35:26–28]. Моисей различал умышленное и неумышленное убийство. Это последнее не каралось смертью, хотя и здесь назывались города-убежища, где члены клана-мстителя не могли расправиться с убийцей. По Моисееву праву мстителями за кровь могли быть только мужчины. Примечательно, что принять смерть от руки женщины считалось унизительным. Так, например, в рассказе о смерти царя Авимелеха говорится, что Бог отомстил Авимелеху, убившему семьдесят своих братьев. Женщина проломила ему череп осколком жернова, и тогда Авимелех велел телохранителю пронзить его мечом, чтобы не быть убитым женщиной. Здесь мстителем выступает сам Бог. Этот рассказ заканчивается словами: «Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив семьдесят братьев своих» [7, Суд. 9:56].
В Древней Греции мы тоже можем почерпнуть сведения о кровной мести, покровителями которой были боги, не любившие беззаконных дел. Так, в пантеоне греков существовали богини мести Эринии. Например, в «Одиссее» Орест отомстил Эгисту, соблазнившему его мать и убившему отца. Месть беззаконному убийце оценивалась как доблестный, всеми одобряемый поступок [8, Одиссея, III, 195-205]. Еще один пример ― уже из «Илиады». Царь Агамемнон обидел Ахиллеса, и мать Ахиллеса молит Зевса о мщении:
Исполни одно мне моленье
Сына отмсти мне, Зевс
Отмсти его ты, промыслитель небесный Кронион.
Мольбы Фетиды возымели действие, и «Зевс волнуется заботными думами как Ахиллеса честь отомстить» [8, Илиада, I, 504–508]. Здесь же присутствует рассказ о мести Ахиллеса за Патрокла. Ахиллес мстит Гектору, убившему его друга. В «Одиссее», когда герой убивает женихов Пенелопы, родственники молят об отмщении:
Братья, молю вас ― пока из Итаки не скрылся он
в Пилосе
Или не спасся в Элиду, священную землю эпеян ―
Выйти со мной на губителя; иначе стыд нас покроет
Мы о себе и потомству оставим поносную память
Если за ближних своих, за родных сыновей их убийцам
Здесь не отмстим… [8, Одиссея, XXIV, 430–435].
Справедливости ради надо отметить, что отношение к кровной мести уже в гомеровской эпохе было неоднозначным. Хотя месть еще присутствует, но она уже не всегда рассматривается как героическое дело. Так, Г.В. Мальцев пишет: «Ярость мстителя не вызывает восхищения, а наоборот, не одобряется. Реальной альтернативой убийства врага является принятие платы за кровь» [5]. У Софокла, уже в V в до н.э. кровная месть рассматривается как нарушение воли богов, как преступление. То есть появляется представление о ценности человеческой жизни, которое постепенно проникает во все слои общества [2].
У славян кровная месть существовала с глубокой древности и к X в. была уже устоявшимся ритуалом, нацеленным на разрешение социальных конфликтов. Есть даже легенда: у Руса был сын, которому в схватке разбили голову. Отец приказал ему убить обидчика, что тот и сделал. Русы не успокаивались пока не осуществляли мщение. Отказ от нее означал позор, изгнание из рода.
Говоря о кровной мести, следует сказать, что она носила характер первого уголовного наказания. Такое мнение высказывает М.Ф. Владимирский-Буданов. Он считает, что кровная месть есть наказание за убийство, которое расценивалось как крайне тяжкое преступление. Наказание за это совершается самим потерпевшим. Ученый выдвигает следующие доказательства. Во-первых, кровная месть предусмотрена законом ― свидетельство тому та же Тора, та же Русская Правда, краткая редакция. Во-вторых, месть ― это вид правосудия, а не произвол. Потерпевший обращается в суд, который назначает мстителя за кровь. М.Ф. Владимирский-Буданов пишет: «Месть соединяется с судом, то есть требует решения суда, либо последующей санкции суда» [9, с. 120]. Потерпевший обращается в суд, он должен доказать свои обвинения и только после этого может приступать к отмщению. Владимирский-Буданов описывает следующую ситуацию, ссылаясь на летопись 1071 г.: «Воевода княжий Ян, схватив ярославских волхвов, судил их за убийства многих женщин и наказал так: выдав их родственникам убитых и сказал мстите за своих. Родственники предали виновных смерти» [9, с. 120]. Закон определяет круг субъектов кровной мести и ситуации, когда такое право возникает. Это доказывается нормами, содержащимися в Договоре с греками 911 г., первой статье Русской Правды, где закреплено, что мстителем за кровь могут выступать отец, сын, брат, дядя, племянник. Правда, по мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, в Русской Правде обозначен неполный круг мстителей, в частности, не указывались мстители за мать, жену, сестру, дочь. Конечно, это право существовало, как говорится в летописи, и русский ученый видит здесь простой недостаток, а именно недостаток обобщений в древних памятниках, которые вместо этого стараются перечислить частные подробности и не всегда удачно [9, с. 121]. Можно еще предположить, что в Русской Правде четкий перечень мстителей не обозначился, так как подразумевался естественным образом. В-третьих, месть определялась за убийство, увечье, посягательство на здоровье и честь. Также имела место «мнимая месть» ― убийство вора, застигнутого на месте преступления. Правда, здесь скорее всего присутствует не месть, а убийство в состоянии необходимой обороны. И наконец, в чем состояла месть и в каждом ли случае виновный передавался на произвол мстителя [9, с. 121]? Нет, это не так, поскольку закон определяет, что право убийства возникает за убийство. Нельзя было убивать за личные оскорбления. Оскорбленный мог побить обидчика, то есть осуществить телесное наказание.
В целом, соглашаясь с М.Ф. Владимирским-Будановым, следует сказать, что кровную месть можно считать наказанием не только потому, что она закреплялась в законе. Такое закрепление констатировало факт существования кровной мести и имело место тогда, когда кровная месть уже отмирала. Кроме того, закон как раз имел цель ее ограничить. Расцвет кровной мести приходился на то время, когда государства и законов не существовало и все строилось на обычаях и древнем судопроизводстве. Профессионального суда еще не было, а судьями могли быть старейшины, вожди, жрецы, просто уважаемые люди. Они определяли круг мстителей за кровь и процессуальный порядок осуществления кровной мести, который, правда, далеко не всегда соблюдался, что приводило к ответной мести.
Обратимся к обычаям кровной мести у европейских и славянских народов. Так, у германцев кровная месть выполняла все те функции и имела все черты, о которых говорилось выше: кара, восстановление равновесия, социальная защита. Она была легитимна в обществе. Чувство расположения к другим племенам передавалось из рода в род, но такие же обыкновения были характерны и для вражды, которая длилась в течение жизни нескольких поколений. Так же, как у других народов, кровная месть могла завершиться примирением, следующим за выплатой вергельда. Примирение, как правило, сопровождалось совместной трапезой [10, с. 46]. Объявление кровной мести так же, как и примирение, осуществлялось публично. Тацит пишет: «По большей части на пиршествах они толкуют о примирении между враждующими, о заключении браков, выборах вождей <…> разделить ненависть отца и их сородичей к их врагам и приязнь к тем, кто с ними в дружбе непреложное правило. Они не закостеневают в непримиримости: ведь даже человекоубийство искупается у них определенным количеством быков и овец, и возмещение получает весь род, что идет на пользу всей общине, так как при безграничной свободе междоусобицы пагубны» [11, с. 349].
Поводом для кровной мести было посягательство на жизнь, имущество, достоинство, насмешка над внешним видом, физической неполноценностью. Оскорблением считалось назвать человека ленивым, недостаточно скорым на расправу с врагами, медлительным в проявлении воинской доблести, также если один человек давал другому оскорбительное прозвище. Оскорбительно было называть женщину колдуньей [10, с. 49]. Основанием для кровной мести являлось оскорбление женщины, осквернение могил, применение насилия.
К слову, женщины могли мстить так же, как мужчины, и тот, кто отказывался от мести, подвергался всеобщему осуждению, ему давали унизительные прозвища. Но отказ от кровной мести случался крайне редко. И мужчины, и женщины неукоснительно выполняли свой кровавый долг. Как уже говорилось, месть была одновременно и правом и обязанностью. Кровная месть ― файда (faida) объявлялась публично.
Как и у других народов, кровная месть у германцев осуществлялась по определенным правилам. Убийство виновного совершалось также публично, на глазах у всей общины, и оно считалось справедливым, самосуд принимался обществом. Характерен в этом отношении германский эпос «Песнь о нибелунгах», где у главной героини Кримхильды коварным способом убивают мужа Зигфрида. Она много лет готовит месть и в конце концов мстит, убивая своего врага, после чего погибает сама. Из исландского эпоса известно о мщении королевы Гудрун. Она мстит за убийство братьев тем, что убивает своих сыновей от конунга Атли. После чего она приказывает сделать из их черепов чаши и подает их на пиру своему мужу. Кроме того, она приготовила блюда из сердец своих сыновей и после обо всем рассказала. В итоге подожгла дом, где погибли от пожара и сам конунг и его дружина [12, строфа 50].
В германо-скандинавской мифологии боги тоже практиковали файду. Так, боги-асы враждовали с богами ванами (боги плодородия), ётунами (великанами), двергами (карликами). Сама история этих богов предстает как бесконечная файда.
Хотя кровная месть имела цель социальной защиты, она, как уже говорилось, приводила к затяжной вражде между семьями и родами. На основе кровной мести складывалось правило талиона: равным за равное. Несомненно, кровная месть является предшественницей смертной казни. Постепенно она все чаще заменялась выплатой вергельда. Так, Салическая правда (Lex Salica) содержит сведения о размере вергельда: «если кто лишит жизни человека, или уведет чужую жену от живого мужа, то присуждается к выплате ― 200 солидов» [13, глава XV, 1]; «если кто лишит жизни мальчика, присуждается к выплате – 600 солидов» [13, глава XXIV, 1]; «если кто лишит жизни свободную женщину, присуждает к уплате ― 600 солидов» [13, глава XXIV, 2]. Как видно, в то время, когда появилась Салическая правда, кровная месть изживала себя, а государство активно с ней боролось. Выплата вергельда знаменовала прекращение кровной мести. Часть суммы шла в казну, что было выгодно властям, часть ― потерпевшей стороне. Выплата вергельда давала определенные гарантии мира, и его нарушение считалось тяжким преступлением.
Какое-то время одновременно уживались и вергельд, и кровная месть. Так, в ряде средневековых норвежских областных законов фиксировались положения, по которым пострадавшая сторона имела полное право на возмездие: либо удовлетворение кровью, либо объявление виновного вне закона [14, с. 103–104].
Как уже говорилось, переход к выплате вергельда происходил отнюдь не просто. Первые возможности выкупа влекли всеобщее презрение. Принимать деньги за кровь долгое время считалось позором.
Постепенно право защиты и осуществление принуждения переходило к властным органам ― королю и конунгу, а файда стала приравниваться к самосуду и произволу, что влекло наказание со стороны властей. Определенную роль сыграло христианство, которое также боролось с кровной местью.
Но законодательная отмена кровной мести не означала ее исчезновение. Есть сведения, что она существовала и в Средние века. М.М. Блок пишет про обычай во Фризии подвешивать покойника за ноги до того дня, когда совершалась файда. Только после этого его можно было хоронить [15, с. 127].
Интересен случай с флорентийцем ди Буонкристиано (1316 г.). Он завещал часть имущества тому, кто будет мстить за его смерть. Судя по всему, он ожидал смерти. Мститель нашелся чрез двадцать четыре года [15, с. 127]. В 1260 г. во Франции племянник одного человека совершил убийство, и этого человека привлекли к суду. Он в свою защиту говорил, что не в ответе за племянника, но это не было принято во внимание. К слову, в странах Европы существовал обычай: прежде чем начинать файду, должно было пройти сорок дней, необходимых для извещения враждующего клана. Таким образом, возникнув как средство защиты, кровная месть надолго пережила свою эпоху. Если раньше она имела правовой характер, то потом превратилась в неправовой обычай, но при этом продолжала носить священный характер. «Она перестала быть привязанной к конкретным условиям жизни людей и стала передаваться как священный завет будущим поколениям, несмотря на вредность, общественную опасность и противоправность» [16, с. 35].
В Средние века имела место смертельная вражда между дворянскими родами, особенно в Италии. Борьбу с ней вела Церковь, которая проповедовала мирную жизнь. Были установлены дни «божьего мира», в которые запрещено было под угрозой отлучения вести какие-либо военные действия в частных войнах. Но кровная месть не исчезала и более того культивировалась в обществе. Она являлась частью общей морали и признавалась обществом справедливой. Как уже говорилось, государственная власть пыталась защитить невиновных, преследовать мстителей. Так, Вильгельм Завоеватель выпустил ордонанс, где указывалось, что мстить можно было только отцу за сына и сыну за отца [16, с. 37]. По мере укрепления государственная власть сама осуществляла карательные функции и даже имели место случаи принуждения к перемирию на условиях договора, составленного судом. Но все же власть так и не могла искоренить этот кровавый обычай. В 1232 г. была издана муниципальная хартия (г. Артца), в соответствии с которой сеньору отдавалось имущество виновного, а семье потерпевшего сам виновный, которого они могли убить. Право приносить жалобы получали только родственники потерпевшего. Еще в XIII в. убийца не мог быть помилован судом без согласия потерпевшего. Кроме того, выплата вергельда осуществлялась только после публичного покаяния. Наконец, если сеньор убил человека, то кровная месть распространялась и на его вассалов [16, с. 37].
Таким образом, обычай кровной мести пережил не только первобытно-общинный строй, но и Средние века. И в современный период, несмотря на уголовные преследования, кровная месть все еще не изжила себя. Как итог, вспомним слова дона Корлеоне в романе «Сицилиец»: «Что творилось бы на земле, если бы люди вопреки доводам рассудка только и знали, что сводили бы друг с другом счеты? Это проклятье Сицилии, где мужчины так заняты кровной местью, что им некогда зарабатывать хлеб для семьи». Возникнув как социальная необходимость, как средство защиты, кровная месть никак не может отпустить людей.
1 Чепус А.В. Институт кровной мести как первичный элемент формирования ответственности в древности. URL: ttps://izron.ru/articles/osnovnye-problemy-i-tendentsii-razvitiya-v-sovremennoy-yurisprudentsii-sbornik-nauchnykh-trudov-po-i/sektsiya-1-teoriya-i- -istoriya-prava (дата обращения: 22.10.2022).
2 Чепус А.В. Институт кровной мести как первичный элемент формирования ответственности в древности. URL: ttps://izron.ru/articles/osnovnye-problemy-i-tendentsii-razvitiya-v-sovremennoy-yurisprudentsii-sbornik-nauchnykh-trudov-po-i/sektsiya-1-teoriya-i- -istoriya-prava (дата обращения: 22.10.2022).
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
Об авторах
Юлия Владимировна Сорокина
Воронежский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: yulia_sor@mail.ru
ORCID iD: 0009-0009-4669-737X
доктор юридических наук, профессор
Россия, ВоронежСписок литературы
- Мальцев Г.В. Справедливость, возмездие и воздаяние: ретрибутивный подход // Социология власти. 2012. № 2. C. 5–19. EDN: PBQCSR
- Чутченко А.А. От кровной мести до смертной казни // Наука и образование: хозяйство, экономика, предпринимательство, право и управление. 2019. № 1(104). C. 55–59. EDN: VQCGBK
- Конев А.Н. Идеология разрешения конфликта по Закону русскому (IX–X вв.) // Труды академии управления МВД России. 2019. № 1(49). C. 142–148. EDN: HAIGTM
- Пилецкий С.Г. Месть и возмездие: социальная эволюция с обратной связью // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 2(15). C. 29–37. EDN: OKKYSN
- Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. Москва: Инфа-М, 2015. EDN: SDQSOP
- Малиновский А.С. Кровная месть и смертные казни. Вып. 1. Томск: Типо-литография товарищества Сибирского печатного дела, 1908.
- Библия. Москва, 2005.
- Гомер. Илиада. Одиссея. Москва, 2021.
- Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Москва: Территория будущего, 2005. EDN: QWPEON
- Дворецкая И.А., Залюбовина Т.Г., Шервуд Е.А. Кровная месть у древних греков и германцев. Москва: Прометей, 1995.
- Тацит. О происхождении германцев, местоположении германцев // Тацит. Сочинения в 2 т. Санкт-Петербург: Наука, 1993.
- Младшая Эдда. Москва: Наука, 1970.
- Салическая правда. Казань: Маркелов и Шаронов, 1913.
- Никольский С.А. Наследование и кровная месть. По материалам Древней Скандинавии. В кн.: Восточная Европа в исторической ретроспективе. К 80-ти летию В.Т. Пашуто. Москва: Языки русской культуры, 1999. EDN: RDSWBX
- Блок М.М. Феодальное общество. Москва: Издательство им. Сабашниковых, 2003.
- Медведев В.Г. Превращение мести из правового обычая в убийство и переквалификация ее в преступление // Вектор науки ТГУ. Серия юридические науки. 2013. № 2(131). С. 32–36. EDN: RASPUT
Дополнительные файлы