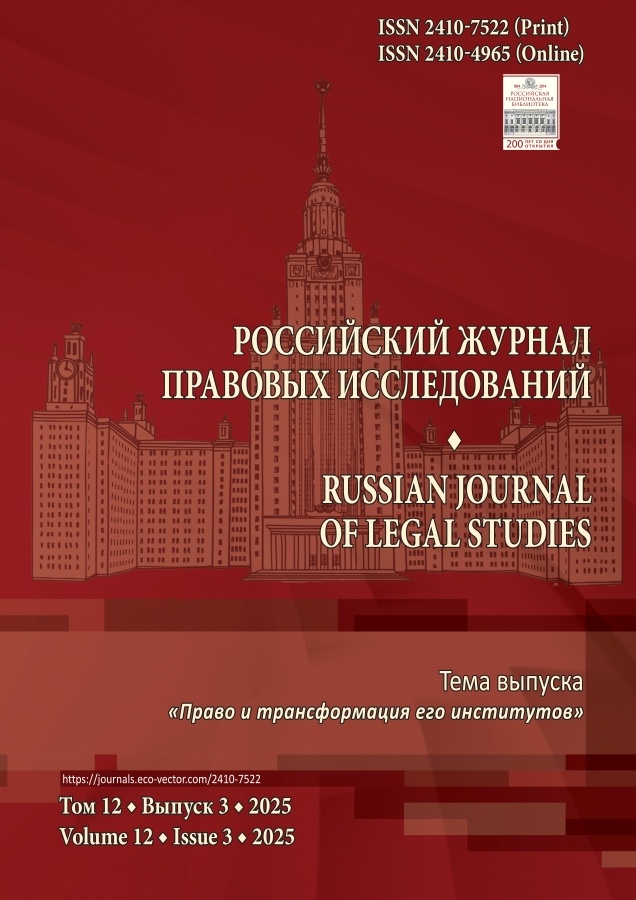Достижение истины в уголовном судопроизводстве как критерий ретроактивности норм процессуального законодательства
- Авторы: Запотылько П.С.1
-
Учреждения:
- Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
- Выпуск: Том 12, № 3 (2025)
- Страницы: 73-80
- Раздел: Уголовно-правовые науки
- Статья получена: 08.09.2025
- Статья одобрена: 10.09.2025
- Статья опубликована: 29.09.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/690120
- DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS690120
- EDN: https://elibrary.ru/TVWWAG
- ID: 690120
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье исследуется проблематика сопряжения ретроактивного действия норм процессуального законодательства с объективной или формальной истиной в рамках уголовно-процессуальных правоотношений. В условиях все возрастающей динамики внесения изменений в законодательный массив проблема действия уголовно-процессуальных норм во времени представляет особую актуальность. Несмотря на существование общего правила о немедленном действии уголовно-процессуального закона, вопрос о придании ему обратной силы остается дискуссионным. На основе анализа отечественных источников права, правоприменительной практики и позиций доктрины делается вывод, что решение вопроса о ретроактивности норм напрямую зависит от момента производства по уголовному делу. Согласно представленному тезису была разработана классификация, разделяющая обратную силу процессуального закона на два вида: имманентную (применяемую до вступления судебного решения в законную силу) и трансцендентную (действующую на стадиях кассационного и надзорного обжалования). В статье доказывается, что применение имманентной ретроактивности является допустимым вне зависимости от того, какая концепция истины (объективная или формальная) принята в качестве задачи уголовного судопроизводства, при условии соблюдения конституционного принципа о недопустимости обратной силы закона, ухудшающего положение граждан. В то же время возможность применения трансцендентной ретроактивности ставится в прямую зависимость от признания объективной истины задачей судопроизводства. Если же процесс нацелен лишь на достижение формальной истины, то после вступления решения суда в силу основания для пересмотра дела в свете нового закона отсутствуют.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Возвращение российского уголовного судопроизводства на рубеже XX и XXI в. к состязательным началам обусловило формирование вектора развития отечественного законодательства и доктрины, направленного на отказ от института объективной истины. Изложенное оказало ключевое влияние на становление концепции Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 г. (далее ― УПК РФ) в части определения назначения современного отечественного судопроизводства [1–3]. Однако по ряду теоретических, практических и нормотворческих причин, как, например, неопределенность положений УПК РФ относительно понимания истины [4, с. 63], заимствование опыта стран англосаксонской правовой семьи [5, с. 223] и др., вопрос определения наиболее эффективного для российского процесса подхода к пониманию указанной категории на современном этапе продолжает оставаться неразрешенным, а фактическое современное состояние уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики в обозначенной части вызывает противоречивые оценки.
Одной из проблем, находящихся в прямой зависимости от избрания конкретного подхода к разрешению рассматриваемых вопросов, выступает проблема ретроактивности норм уголовно-процессуального законодательства. Разумеется, что тема придания обратной силы новым нормам носит межотраслевой характер, однако ее процессуальный аспект видится более комплексным с учетом характерной для него специфики, выражающейся в том, что судопроизводство являет собой не точку на временной прямой, а цепь взаимосвязанных событий. Особенно актуальными поднимаемые в связи с этим вопросы становятся в условиях уголовного процесса, что, разумеется, обуславливается спецификой рассматриваемых в его рамках дел, возбуждаемых в связи с потенциальным совершением преступления, а также характером возможных неблагоприятных последствий для отдельных участников уголовного судопроизводства.
Вышеизложенные факторы в совокупности с все возрастающей с течением десятилетий динамикой внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты создают условия, в которых движение производства по конкретному делу сосуществует с постоянно меняющимся массивом процессуального законодательства. Это ставит вопрос о том, каким образом данные трансформации, носящие локальный или системный характер, должны влиять на оценку процессуальных действий и решений, совершенных или принятых на предшествующих стадиях и этапах судопроизводства, и как ретроактивный порядок действия норм процессуального законодательства соотносится с объективной или формальной истиной.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Ограниченный объем правоприменительной практики в совокупности с некоторой неоднозначностью положений современного российского уголовно-процессуального законодательства привели к отсутствию научного консенсуса в отечественной доктрине не только по вопросам специфики придания обратной силы рассматриваемой группе норм, но и в целом по вопросу объективной возможности существования подобного порядка их действия [6]. В значительной степени представленные обстоятельства вынуждают обратиться к аспекту понимания истины в отечественном уголовном судопроизводстве, что обуславливается комплексом вопросов доказывания, для которых проблематика истинности приобретает концептуальное значение, и которые также выступают одним из перспективных направлений для рассмотрения возможности придания обратной силы нормам уголовно-процессуального законодательства [6].
Истина как краеугольная основа проблематики гносеологии закономерно обуславливает многочисленные споры относительно понимания своей природы, своего смыслового наполнения в различных аспектах, своих функций, своего соотношения с объективной реальностью и реальностью субъективной. Классический подход к установлению сущности истины, восходящий еще к периоду античности, предполагает ее понимание как соответствие мыслей действительности [7, с. 162]. Многочисленные исследования, осуществлявшиеся философами Древнего мира, Средних веков, Нового времени и Новейшего времени и являвшиеся логичным развитием представленного классического взгляда на рассматриваемую категорию, обусловили формирование целого ряда подходов как к пониманию самой истины, так и к ее многочисленным аспектам: когерентная теория, прагматическая теория, консенсусная теория, перформативная теория, семантическая теория, релятивистская теория и др. Основываясь на области научного знания или сфере человеческой деятельности, истина может классифицироваться и обретать специфические особенности при своем определении в зависимости от характера отражаемого (познаваемого) объекта, степени полноты освоения объекта и ряда иных факторов. Справедливо это и для уголовного судопроизводства, в рамках которого вопрос истины и ее сущностного характера применительно к назначению, целям и/или задачам процесса приобретает краеугольное значение.
Проблематика понимания объективной или формальной истины и выбор одной из них для интересов достижения задач уголовного процесса стали неотъемлемой частью российского уголовного судопроизводства задолго до определения в Конституции РСФСР в 1992 г. в ст. 168 состязательности как основного начала отечественного правосудия1.
Так, категория истины в различных ее вариациях появляется еще в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.2. В рамках данного документа она представляла собой своеобразную временную цель, к которой должна была быть устремлена деятельность отдельных участников процесса, как например: судебного следователя (ст. 294, 406); сведущих людей (врачи и специалисты, ст. 333); председателя суда (ст. 613) и т. д.
Последующее развитие законодательных подходов к регламентации целей и задач судопроизводства уже в рамках советского уголовного процесса привело к формированию в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 г. (далее ― УПК РСФСР) института объективной истины3.
В частности, положениями данного правового акта определялось, что задачами советского уголовного судопроизводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. В свою очередь, суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его вину обстоятельства.
В УПК РСФСР находила свое буквальное отражение и сама категория истины, которая, что отличает ее от Устава уголовного судопроизводства 1864 г., стала представлять из себя не временную цель деятельности отдельных участников судопроизводства, а своеобразную задачу всего уголовного процесса.
Принятие в 2001 г. современного УПК РФ привело к формальному отказу от института объективной истины в отечественном судопроизводстве, что породило лишь разрастание дискуссий в доктрине относительно понимания сущности уголовного процесса и его задач в части проблематики объективной истины и истины формальной.
С теоретической точки зрения уголовно-процессуальная специфика сущности истины основывается на фундаментальной проблеме ее сопряжения как философской категории с плоскостью уголовного судопроизводства. Взгляды исследователей на разрешение представленного вопроса условно разделяются на две основные группы: сторонников возможности подобного сопряжения и, соответственно, противников этого. Ученые, представляющие первый подход, основывают свое понимание истины, обозначаемой ими в качестве истины объективной, на упомянутом ранее корреспондентном (классическом) подходе к определению данного термина, т. е. как соответствия выводов по делу объективной действительности [1; 8, с. 29–30; 9, с. 310–311; 10, с. 25–27]. Сторонники второго подхода основывают свою позицию на объективно существующих трудностях, с которыми сталкивается юридическое познание, вроде его ретроспективного характера, и формулируют концепцию т. н. формальной истины, понимая под ней соответствие выводов по уголовному делу различным формальным условиям [2; 9, с. 310–311; 11]. Если в рамках первого подхода объективная истина выступает философской категорией, предлагаемой к прямому использованию в качестве цели доказывания, задачи уголовного судопроизводства и др., то формальная истина позиционируется в юридической науке как попытка адаптировать эту философскую категорию к реалиям уголовного процесса и юридического познания [9, с. 310–311; 11; 12; 13].
Однако в данном случае следует обратить внимание, что в своей сущности концепция формальной истины фактически представляет собой не стремление избежать философского наполнения данной категории как таковой, а попытку уйти от корреспондентного (классического) взгляда на нее. Ведь помимо того, что работа с понятием формальной истины неизбежно вынуждает обращаться к положениями философии, так и само ее смысловое наполнение в зависимости от позиции конкретного исследователя концептуально всегда продолжает оставаться в рамках положений других теорий истин, в том числе включать в себя элементы когерентной теории истины, конвенциональной теории истины, прагматической теории истины и др.
Не меньшее значение в контексте поднятой проблематики приобретает вопрос о том, что сама по себе объективная истина и истина формальная без привязки к иным аспектам уголовного судопроизводства представляют из себя идеализированную модель в изоляции. Изложенное обуславливает необходимость привязки установления истины к какому-либо аспекту уголовного судопроизводства, в этом качестве чаще всего выступает: задача уголовного судопроизводства [14], цель уголовного судопроизводства [1], принцип уголовного судопроизводства [15, с. 45].
Обобщая изложенное и выражая авторскую позицию по поднятым вопросам, для целей настоящей работы следует указать на следующее.
Более обоснованной на современном этапе научной дискуссии и развития уголовно-процессуального законодательства представляется позиция исследователей, указывающих, что в настоящее время в российском уголовном судопроизводстве сосуществуют одновременно две формы истины: истина объективная и истина формальная [16, с. 20; 17, с. 143; 18]. Основными предпосылками к подобному выводу служат: объективная неопределенность положений УПК РФ, допускающих в рамках ряда толкований выделение объективной истины [19]; существование в российском процессе дознания в сокращенной форме, особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением или при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве [20]; объективно существующая невозможность в отдельных случаях для суда достигнуть объективной истины, что вынуждает обращаться к истине формальной [17, с. 143].
Касательно же привязки объективной или формальной истины к одному из аспектов судопроизводства следует указать, что в большей степени интересам и самой сущности уголовного процесса будет соответствовать их отнесение к его задачам.
Избрание термина «задача» для описания сущностной основы одного из желаемых результатов уголовного судопроизводства в данном случае обуславливается тем, что по сути своей достижение формальной или объективной истины не представляет собой некую самоцель, к которой устремлен уголовный процесс, призванный решить комплекс проблем, возникающих в связи с совершением запрещенного уголовным законом деяния.
Таким образом, установление истины при производстве по уголовному делу выступает в представленной плоскости лишь одной из задач уголовного судопроизводства наравне с задачами по защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Их синергия, выражающаяся, в частности, в применении отдельных компромиссов, не дающих одной из задач возобладать по своему значению над другой и создать тем самым угрозу ее недостижения, и обеспечивает реализацию назначения уголовного судопроизводства.
Специфика сопряжения изложенных тезисов и проблематики ретроактивного действия уголовно-процессуальных норм, в свою очередь, выражается в следующем.
Первоначально следует обратить внимание на то, что она является неоднородной в зависимости от того, применительно к какому моменту производства по уголовному делу решается вопрос о ретроактивности. Для демонстрации этого ретроактивность уголовно-процессуальных норм можно классифицировать на ретроактивность имманентную (лат. immanens ― «пребывающий внутри», «остающийся в пределах»), применяющуюся до вступления решения суда в силу, и ретроактивность трансцендентную (лат. transcendentis ― «переступающий», «превосходящий», «выходящий за пределы»), применяющуюся после вступления решения в силу и вплоть до исчерпания возможностей по кассационному и надзорному обжалованию.
Применение имманентной формы ретроактивности как в плоскости объективной истины, так и в плоскости истины формальной представляется допустимым в обоих случаях, что обуславливается самим характером изменений, вносимых законодателем.
В данном случае имеется ввиду, что в соответствии с принципами законодательного процесса предполагается, но не утверждается абсолютно, что какие-либо изменения, предпринимаемые в нормативном массиве, в своей концептуальной основе носят положительный характер для системы правового регулирования [21, с. 151–152, 400]. В частности, к ним относится принцип законности, принцип правовой определенности, принцип приоритета и верховенства прав и свобод человека и гражданина и др. [22].
В рамках уголовного судопроизводства и плоскости объективной или формальной истины это, в частности, предполагает, что вносимые изменения в той или иной степени способствуют достижению формальной или объективной истины по результатам производства по уголовному делу или как минимум они не препятствуют этому, а направлены на достижение иных задач уголовного судопроизводства, вроде защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и т.д. Так, например, позиции, отмечающие необходимость прямого указания на объективную истину в положениях уголовно-процессуального законодательства, высказываемые на уровне отечественной доктрины [19] или уже непосредственно в законотворческом процессе4, обосновываются тем, что принятие подобных изменений не будет посягать на основополагающий принцип состязательности судопроизводства.
Одновременно с изложенным важно также, однако, иметь в виду, что объективно не во всех случаях предпринимаемые законодателем изменения в нормативном массиве однозначно положительным образом влияют на систему правового регулирования или их эффект вовсе можно в какой-то степени считать положительным. Но в контексте проблематики ретроактивного действия принципиальное значение для нас имеет лишь вопрос ухудшения положения лица, участвующего в производстве по уголовному делу, по результатам принятия какого-либо закона.
В плоскости истин объективной и формальной как задач уголовного судопроизводства данный вывод обуславливается тем фактом, что в соответствии с уже упомянутым ранее фундаментальным конституционным принципом ухудшающий положение граждан закон обратной силы не имеет. Из этого следует, что данному конституционному положению не будет соответствовать придание обратной силы нормам, влекущим отрицательные смещения в рамках баланса состязательности уголовного судопроизводства или влекущим необоснованное чинение препятствий к достижению истины в его рамках, что объективно следует расценивать как явления, ухудшающие положение граждан.
В целях же снижения риска нарушения прав, свобод и законных интересов участников судопроизводства по результатам придания обратной силы положениям уголовно-процессуального законодательства видится разумным предположить, что правило о подобном порядке их действия должно носить не общий, а специальный характер, т. е. применяться лишь в случае прямого усмотрения законодателя в отношении конкретных норм. Важно при этом обратить внимание, что, как было упомянуто ранее, текущая редакция ст. 4 УПК РФ уже допускает подобное истолкование.
При этом также необходимо понимать, что возможна и в определенной степени обратная ситуация, а именно: когда закон, в какой-либо большей степени обеспечивающий реализацию принципов состязательности уголовного судопроизводства или обеспечивающий в подобной степени достижение истины по результатам разбирательства, не может иметь обратную силу в связи с тем, что он ухудшает положение отдельных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. В данном случае, однако, необходимо обратить внимание на то, что как задача по достижению объективной истины, так и задача по достижению истины формальной, на что уже указывалось нами ранее, работают в синергии с другими задачами уголовного судопроизводства, что в некоторых случаях требует принятия компромиссных решений для обеспечения достижения общей цели правосудия.
Одновременно следует обратить внимание, что вплоть до удовлетворения т. н. «права сторон на две инстанции», рассматриваемого как граница возможностей применения имманентной ретроактивности, у участников уголовного судопроизводства при придании по решению законодателя обратной силы нормам уголовно-процессуального законодательства имеются все необходимые возможности для обеспечения наиболее эффективной реализации принципов разумного срока уголовного судопроизводства и состязательности сторон.
Представленное выше совпадение интересов истины объективной и истины формальной при решении вопросов имманентной ретроактивности отсутствует в случае с другой формой обратной силы процессуальных норм ― трансцендентной, ― в рамках которой вопрос об истине объективной или формальной как одной из задач уголовного судопроизводства приобретает принципиальное значение.
Обуславливается это тем, что с точки зрения рассмотренной ранее специфики формальной истины с вступлением в законную силу судебного решения и, соответственно, исчерпанием ординарных возможностей на апелляционное рассмотрение, лишенное цели по установлению истины уголовное судопроизводство считается выполнившим свою задачу. Какие-либо основания для придания обратной силы уголовно-процессуальным нормам при этом отсутствуют.
Принципиально по иному к решению данного вопроса следует подойти в случае, если одной из задач уголовного судопроизводства выступает достижение объективной истины по результатам производства по делу. Разумеется, что этот подход не предполагает вечного стремления к установлению абсолютной истины при производстве по конкретному делу, что противоречило бы фундаментальным основам принципа res judicata, иным задачам уголовного судопроизводства и т. д. Именно по этой причине при определении того, что из себя представляет трансцендентная форма ретроактивности, нами было исключено указание на возобновление производства в связи с новыми и вновь открывшимися обстоятельствами, т. к. в противном случае подобный подход существенным образом создал бы угрозу недостижения иных задач уголовного судопроизводства.
Однако вплоть до момента исчерпания возможностей по кассационной и надзорной формам обжалования, т. е. уже существующих процессуальных механизмов, направленных на достижение задач уголовного судопроизводства, что касается и достижения истины, видится разумным допустить возможность реализации трансцендентной формы ретроактивности, если применение новых норм уголовно-процессуального законодательства может существенным образом повлиять на результаты уголовного судопроизводства. В пользу этого тезиса указывает также и сама сущность кассационного и подобных ему форм пересмотра, в рамках которых исследуются вопросы законности вступивших в силу судебных решений, а сами подобные процессы не нарушают в связи с устоявшимися положениями доктрины основы принципа res judicata, т. к. представляют собой продолжение того же судебного процесса по мере продвижения дела в судах различных инстанций.
Заключение
Обобщая результаты, полученные в ходе настоящего исследования, видится необходимым обратить внимание на следующее. Современный этап развития отечественного уголовного процесса характеризуется в части определения своего назначения сосуществованием формальной и объективной истины как адаптивной задачи судопроизводства, определенность наполнения которой зависит от особенностей процессуальной формы.
Специфика сопряжения проблематики этих разновидностей истины с плоскостью ретроактивности уголовно-процессуального закона при этом заключается в следующем. С условием соблюдения конституционного принципа недопустимости обратной силы закона, ухудшающего положение граждан, и в совокупности со специальным характером правила о придании обратной силы уголовно-процессуальным нормам реализация имманентной ретроактивности будет прямо или косвенно обеспечивать достижение как объективной, так и формальной истин по итогам производства по уголовному делу. Иной исход при разрешении обозначенного вопроса имеет место в случае с трансцендентной формой ретроактивности, необходимость применения которой с точки зрения формальной истины отсутствует, а объективной истины ― допускается, если учет трансформаций законодательного массива может оказать значимое влияние на результаты производства по уголовному делу и их оценку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад автора. П.С. Запотылько — определение концепции, сбор, анализ и обобщение литературы, написание черновика, пересмотр и редактирование рукописи. Автор одобрил рукопись (версию для публикации), а также согласился нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Автор заявляет об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы автор не использовал ранее опубликованные сведения.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента.
ADDITIONAL INFO
Author contribution: P.S. Zapotylko: conceptualization; investigation; writing—original draft, writing—review & editing. The author approved the version of the manuscript to be published and agrees to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding source: No funding.
Disclosure of interests: The author has no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: The author did not use previously published information to create this paper.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two internal reviewers participated in the review.
1 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа http://pravo.gov.ru/ Дата обращения: 04.09.2025.
2 Свод законов Российской Империи // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire_iframe&bpas=303 Дата обращения: 04.09.2025.
3 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102010093&rdk=&backlink=1 Дата обращения: 04.09.2025.
4 Законопроект № 440058-6 // Система обеспечения законодательной деятельности. Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/440058-6 Дата обращения: 04.09.2025.
Об авторах
Павел Сергеевич Запотылько
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Автор, ответственный за переписку.
Email: zapotylkops@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0006-9430-5340
SPIN-код: 4007-2782
Россия, 117218, Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 34
Список литературы
- Ishchenko EP. What kind of truth is needed in criminal proceedings? Ugolovnoye sudoproizvodstvo. 2008;(1):23–31. (In Russ.) EDN: KWRFEB
- Balugina T, Belokhortov I, Vorob'ev P. On the disappearance of truth in Russian justice. Mirovoy sud'ya. 2009;(10):2–6. (In Russ.) EDN: JWHVFW
- Dolya YeA. Does a dispute over truth in criminal proceedings have any sense or can truth exist in the form of assumption? Zakonnost'. 2014;(8):44–52. EDN: QRDIBV
- Ashirbekova MT. The effect of the principle of publicity in proving in criminal cases. In: Budnikov VL, editor. Evidence in the administration of justice in criminal cases. Volgograd: Volgograd State University; 2002. P. 55–70. (In Russ.)
- Musaelyan LA. Revisited the problem of the introduction of the institute of the establishing objective truth on the case in the criminal proceedings. Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskiye nauki. 2014;(2):218–228. EDN: SGEYEX
- Zapotylko PS. On the retroactive effect of the norms of criminal procedure legislation. In: Gladysheva OV, editor. Ensuring the rights of participants in pre-trial stages of criminal proceedings. Krasnodar: Kuban State University; 2025. P. 135–141. EDN: NVTKQV
- Aristotle. Metaphysics. Moscow; Leningrad: OGIZ; 1934. 346 p. (In Russ.)
- Poznyshev SV. Elementary textbook of the Russian criminal process. Moscow: G.A. Leman; 1913. 329 p. (In Russ.)
- Strogovich MS. Course of the Soviet criminal process. Vol. 1: Basic provisions of the science of the Soviet criminal process. Moscow: Nauka; 1968. 470 p. (In Russ.)
- Zinatullin ZZ. How many truths (and which ones) should be established in one criminal case? Ugolovnoye sudoproizvodstvo. 2011;(2):25–27. (In Russ.) EDN: NXAYDV
- Vedishchev NP. Future of «objective truth» in the current criminal proceedings in Russia. Advokat. 2014;(6):5–10. EDN: SFASQR
- Borulenkov YuP. On the question of the need to develop a modern concept of truth in legal cognition. Ugolovnoye sudoproizvodstvo. 2012;(3):14–19. (In Russ.) EDN: PFGNYL
- Maslov IV. Objective truth in the criminal process. Ugolovnoye pravo. 2015;(2):126–130. EDN: TQAGAN
- Kruglikov AP. On the question of truth in criminal proceedings. Rossiyskaya yustitsiya. 2013;(1):42–46. (In Russ.) EDN: TEZCTZ
- Strogovich MS. The doctrine of material truth in the criminal process. Moscow: USSR Academy of Sciences; 1947. 276 p. (In Russ.)
- Mikhailovskaya IB. Judge's handbook on evidence in criminal proceedings. Moscow: Prospekt; 2006. 192 p. (In Russ.) EDN: QXAIJX
- Sviridov MK. Establishing the truth at the preliminary investigation and in the trial. In: Sviridov MK, Yakimovich YuK, Andreeva OI, et al, editors. Legal strengthening of Russian statehood. Tomsk: Tomsk State National Research University; 2014. P. 142–147. (In Russ.)
- Ashirbekova MT. On the presumption of the legal reliability of formal truth in the criminal process. In: Kalinovskiy KB, Zashlyapin LA, editors. Legal truth in criminal law and procedure. Saint Petersburg: Petropolis; 2018. P. 54–58. EDN: YRVDOH
- Bastrykin AI. On the objective truth in criminal proceedings: history and modernity. Herald of the Russian Law Academy. 2023;(1):18–29. EDN: AOAEYC doi: 10.33874/2072-9936-2023-0-1-18-29
- Shadrin VS. Objective and legal (formal) truths and the means of achieving them in the criminal process. In: Kalinovskiy KB, Zashlyapin LA, editors. Legal truth in criminal law and procedure. Saint Petersburg: Petropolis; 2018. P. 218–228. (In Russ.) EDN: YRVDVR
- Plato. Laws, epinomis, letters. Saint Petersburg: Nauka; 2014. 520 p.
- Zenin SS. The concept and principles of digitalization of the legislative process: theoretical and legal transformation. Rossiyskaya yustitsiya. 2019;(8):4–9 EDN: TGFJBR
Дополнительные файлы