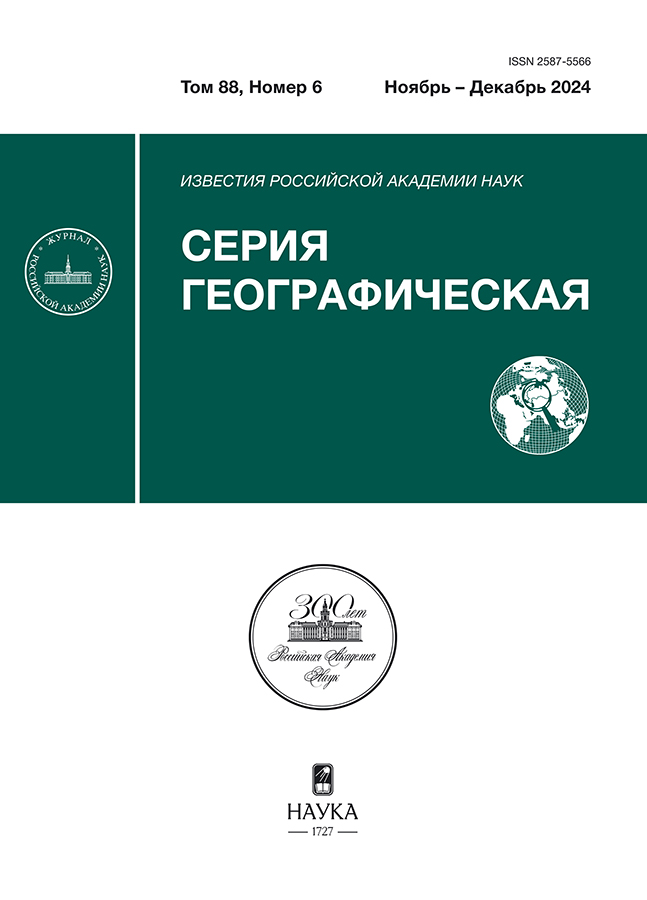Assessment of economic damage caused by negative impact of water on the raw material potential of forests on the coasts of Lake Baikal and the Irkutsk Reservoir
- Авторлар: Makarenko E.L.1
-
Мекемелер:
- V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS
- Шығарылым: Том 88, № 6 (2024)
- Беттер: 934-948
- Бөлім: NATURAL RESOURCE USE AND GEOECOLOGY
- URL: https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/683165
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2587556624060075
- EDN: https://elibrary.ru/AJLAOR
- ID: 683165
Дәйексөз келтіру
Аннотация
The purpose of the study is to analyze the current state of forest vegetation on the shores of the Irkutsk Reservoir and Lake Baikal, to calculate the direct economic damage as a result of possible direct losses of forests due to the negative impact of water on flooded and abrasion areas. The relevance of the study is determined by the need to minimize the damage to the coastal forests when water levels in the reservoirs change by introducing changes in the rules for the use of water resources, land use, forest management, etc. The main research methods were: geobotanical, forest taxation, geoinformation, expert, etc. The damage was determined in relation to the forest vegetation actually growing in 2022–2023, it is of a potential nature and does not reflect the damage from its death or damage in previous years. The calculation of damage was made in relation to wood resources, tree greens, bark, forest litter, mushrooms, berries, nuts, birch sap, medicinal plants, etc. To calculate it, standard payment rates per unit volume of forest resources were used. In turn, the determination of the volume of forest resources was based on indicators of biological productivity calculated using regional methods. The study made it possible to determine and map the distribution of forested areas within land categories and individual land uses, the qualitative characteristics of forests, and the economic damage by forest resource types at potential water rise levels. Among the municipalities, the highest values of economic damage were noted in the Irkutsk district due to the high taxation characteristics of forests, mostly located on the abrasion banks of the Irkutsk Reservoir. The quantitative parameters of the trend toward an increase in forest area and economic damage were determined depending on the increase in the absolute altitude of the terrain. This trend is especially pronounced for the coasts of the Irkutsk Reservoir, where from an altitude of 457.0 m to 457.85 cm, for every 10 cm of relief cross-section height, the forest area increases by 5603.1–7344.7 m2, and the economic damage increases by RUB 85879.2–125512.1. For the shores of Lake Baikal, the trend of a steady increase in these indicators is disrupted after the 457.4 m mark, which is associated with the peculiarities of the geomorphological structure of the lake shores and the specific development of steppe (Olkhon region) and swampy forest vegetation complexes.
Толық мәтін
Авторлар туралы
E. Makarenko
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: elmakarenko@bk.ru
Ресей, Irkutsk
Әдебиет тізімі
- Armstrong W., Brandle R., Jackson M.B. Mechanisms of flood tolerance in plants. Acta Bot. Neerl., 1994, vol. 43, pp. 307–358. https://doi.org/10.1111/j.1438–8677.1994.tb00756.x
- Bakhtenko E.Yu. Autoecological approach to the physiological response of vegetation to flooding and drought (regulatory aspects). Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation. Vologda, 2001. 38 p.
- Baikal. Atlas [Baikal. Atlas]. Moscow: Fed. Sluzhba Geodezii i Kartografii Rossii, 1993, 160 p.
- de Bello F., Mudrak O. Plant traits as indicators: Loss or gain of information? Appl. Veg. Sci., 2013, no. 16, pp. 353–354. https://doi.org/10.1111/avsc.12035
- Bolgov M.V., Buber A.L., Korobkina E.A. Water resources of Lake Baikal and possible strategies for managing its level regime. Vodn. Khoz. Rossii, 2017, no. 3, pp. 89–102. (In Russ.). https://doi.org/35567/1999-4508-2017-3-6
- Bulko N.I., Moskalenko N.V., Shabaleva M.A. Mashkov I.A. The influence of excessive soil moisture on the photosynthetic component of the assimilation apparatus of woody plants. Tr. Belorus. Gos. Tekhnol. Univ., 2013, no. 1, pp. 64–66. (In Russ.).
- Chepinoga V.V. Vegetation diversity of the Irkutsk region from the position of floristic classification: A preliminary review of classes. Izv. Irkuts. Gos. Univ., Ser. Biol. Ekol., 2015, vol. 12, pp. 2–19. (In Russ.).
- Cheverdin Yu.I., Akhtyamov A.G., Sautkina M.Yu. Influence of groundwater level regime on the bioproductivity of tree species in the forest belts of the Kamennaya Steppe. Zhiv. Biokos. Sist., 2018, no. 24. (In Russ.). https://doi.org/10.18522/2308-9709-2018-24-3
- Ecosystem Services of Russia: Prototype of the National Report. Т. 1. Terrestrial ecosystem services. Bukvareva E.N., Zamolodchikov D.G., Eds. Moscow: Izd-vo Tsentra Okhrany Dikoi Prirody, 2016. 148 p. https://doi.org/10.31857/S0044459620060068
- Filkin T.G. The state of the soil and vegetation cover in the zone of flooding by the Kama reservoir. Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation. Perm, 2011. 24 p.
- Gagarinova O.V., Zabortseva T.I. A Study of the Lake Baikal level fluctuations on coastal territories). Vodn. Resur., 2022, no. 6, pp. 59–69. (In Russ.). https://doi.org/10.35567/19994508_2022_6_4
- Garmayev E.Zh., Tsyrenov B.Z. Level regime of Lake Baikal: state and prospects in the new conditions of regulation. Vestn. Buryat. Gos. Univ.: Biol. Geogr., 2019, no. 4, pp. 37–43. (In Russ.).
- Garssen A.G., Baattrup-Pedersen A., Riis T., Raven B.M., Hoffman C.Ch., Verhoeven J.T. A., Soons M.B. Effects of increased flooding on riparian vegetation: Field experiments simulating climate change along five European lowland streams. Glob. Change Biol., 2017, vol. 23, no. 8, pp. 3052–3063. https://doi.org/10.1111/gcb.13687
- Garssen A.G., Baattrup-Pedersen A., Voesenek L.A., Verhoeven, J. T., Soons M.B. Riparian plant community responses to increased flooding: A meta-analysis. Glob. Change Biol., 2015, vol. 21, no. 8, pp. 2881–2890. https://doi.org/10.1111/gcb.12921
- Gidroenergetika i Baykal. Ch. 1: Otsenki ekonomicheskikh ushcherbov v svyazi s izmeneniem urovnya ozera Baikal [Hydropower and Baikal. Part 1: Estimates of Economic Damage due to Changes in the Level of Lake Baikal]. Tulokhonov A.K., Ed. Ulan-Ude: Baykal. Inst. Ratsional’. Prirodopol’zov., 1996. 55 p.
- Gorbachev V.N., Babintseva R.M. Karpenko L.V., Karpenko V.D. Negative impact of large reservoirs on the environment. Ul’yanov. Mediko-Biol. Zh., 2012, no. 2, pp. 7–16. (In Russ.).
- Denisov A.K., Nezabudkin G.N., Smirnov V.N. On the influence of flooding on the condition of forest plantations. In Sb. tr. Povolzhsk. lesotekhn. in-ta. Vyp. 53 [Collection of Works of the Volga State University. Vol. 53], 1958. 19 p. (In Russ.).
- Dyakonov K.N. Vliyanie krupnykh ravninnykh vodokhranilishch na lesa pribrezhnoi zony [The Influence of Large Lowland Reservoirs on the Forests of the Coastal Zone]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1975. 128 p.
- Dyakonov K.N., Reteyum A.Yu. The influence of the Kama Reservoir on forests in the coastal zone. Izv. Akad. Nauk, Ser. Geogr., 1967, no. 4, pp. 67–75. (In Russ.).
- Kasimov D.V., Kasimov V.D. Nekotorye podkhody k otsenke ekosistemnykh funktsii (uslug) lesnykh nasazhdenii v praktike prirodopol’zovaniya [Some Approaches to Assessing Ecosystem Functions (Services) of Forest Plantations in Environmental Management Practice]. Moscow: Mir nauki Publ., 2015. 91 p.
- Kozyreva E.A., Kadetova A.V., Rybchenko A.A., Pellinen V.A., Svetlakov A.A. Typification and the current state of Baikal Lake shore. Water Resour., 2020, vol. 47, pp. 651–662. https://doi.org/10.1134/S0097807820040077
- Kratkii slovar’ osnovnykh lesovodstvenno-ekonomicheskikh terminov [A Brief Dictionary of Basic Forestry and Economic Terms]. Ostroshenko V.V., Ed. Ussuriysk: Izd-vo Primor. Gos. Sel’skokhoz. Akad., 2005. 161 p.
- Lesokhozyaistvennyi reglament Irkutskogo lesnichestva Irkutskoi oblasti. Vyp. 120 [Forestry Regulations of the Irkutsk Forestry of the Irkutsk Region. Vol. 120]. Irkutsk: Oblastnaya Publ., 2018.
- Lesokhozyaistvennyi reglament Tashtypskogo lesnichestva Respubliki Khakasiya [Forestry Regulations of the Tashtyp Forestry of the Republic of Khakassia]. Krasnoyarsk, 2013. 180 p.
- Metodika otsenki veroyatnostnogo ushcherba ot vrednogo vozdeistviya vod i otsenki effektivnosti osushchestvleniya preventivnykh vodokhozyaistvennykh meropriyatii [Methodology for Assessing the Probable Damage from the harmful Effects of Water and Assessing the Effectiveness of the Implementation of Preventive Water Management Measures]. Moscow: FGUP “VIEMS”, 2006. 97 p.
- Millennium ecosystem assessment. Ecosystems and human well-being. In Synthesis Report. Washington: Island Press, 2005. 160 p.
- Orlov I.I., Ryabchuk V.P. Berezovyi sok [Birch Sap]. Moscow: Lesnaya promyshlennost’. Publ., 1982. 566 p.
- Osnovnye polozheniya organizatsii i razvitiya lesnogo khozyaistva Irkutskoi oblasti [Basic Provisions for the Organization and Development of Forestry in the Irkutsk Region]. Irkutsk: Pribaikal. Lesoustroitel’noe Predpr., 1980. 506 p.
- Ponomarev A.V. Ecological and cenotic confinement and productivity of the pine bracken fern Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill in the south of the Yenisei Siberia. Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation. Krasnoyarsk, 2013. 21 p.
- Potemkina T.G. Lithodynamics of the coastal zone of Lake Baikal. Extended Abstract of Cand. Sci. (Geogr.) Dissertation: 11.00.04. Irkutsk, 2000. 17 p.
- Priroda. Tekhnika. Geotekhnicheskie sistemy [Nature. Technique. Geotechnical Systems]. Preobrazhenskii V.S., Ed. Moscow: Nauka Publ., 1975. 146 p.
- Rastitel’nost’ yuga Vostochnoi Sibiri (karta masshtaba 1:500000) [Vegetation of the South of Eastern Siberia (Scale 1:500000)]. Moscow: GUGK, 1972. 4 p.
- Reshetnikova T.V. Formation of soil organic matter in the cultures of the main forest-forming species of Siberia. Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation. Krasnoyarsk, 2015. 16 p.
- Shevtsova N.E. Honey resources of Western Transbaikalia and prospects for their use. In Rastitel’nye resursy Zabaikal’ya i ikh ispol’zovanie [Plant Resources of Transbaikalia and Their Use]. Ulan-Ude: BFSO AN SSSR, 1987, pp. 62–82. (In Russ.).
- Sizykh A.P. Transformation and restoration of vegetation in the Baikal region. Izv. Irkut. Univ., Ser. Nauki Zemle, 2021, vol. 37, pp. 86–102. (In Russ.).
- Ström L., Jansson R., Nilsson C., Mats E.J., Xiong S. Hydrologic effects on riparian vegetation in a boreal River: An experiment testing climate change predictions. Glob. Change Biol., 2011, vol. 17, pp. 254–267. https://doi.org/10.1111/j.1365–2486.2010.02230.x
- Stupin V.P., Plastinin L.A., Olzoev B.N. Morphodynamic study and geoinformation mapping of the zone of influence of the Irkutsk reservoir. In Interekspo “GEO-Sibir’”. No. 1 [Interekspo “GEO-Siberia”. No. 1]. Irkutsk, 2018, pp. 221–229. (In Russ.).
- Suleimanova Zh.R., Spitsyna N.T. Influence of the construction of hydraulic structures on forest ecosystems. Vestn. KrasGAU., Ser. Ekol., 2012, no. 3, pp. 114–119. (In Russ.).
- Taksatsionnyi spravochnik po lesnym resursam Rossii (za isklyucheniyem drevesiny) [Taxation Reference Book on Forest Resources of Russia (Except for Wood)]. Kurlovich L.E., Kositsyn V.N., Eds. Pushkino: VNIILM, 2018. 281 p.
- Ugryumov B.I., Danilenko O.K. Forecast of changes in tree vegetation under the influence of flooding of the bed of the Boguchansky reservoir. Lesn. Vestn., 2007, no. 4, pp. 32–37. (In Russ.).
- Violle C., Bonis A., Plantegenest M., Cudennec C., Damgaard C., Marion B., Bouzillé J.B. Plant functional traits capture species richness variations along a flooding gradient. Oikos, 2011, vol. 120, pp. 389–398. https://doi.org/10.1111/j.1600–0706.2010.18525.x
Қосымша файлдар