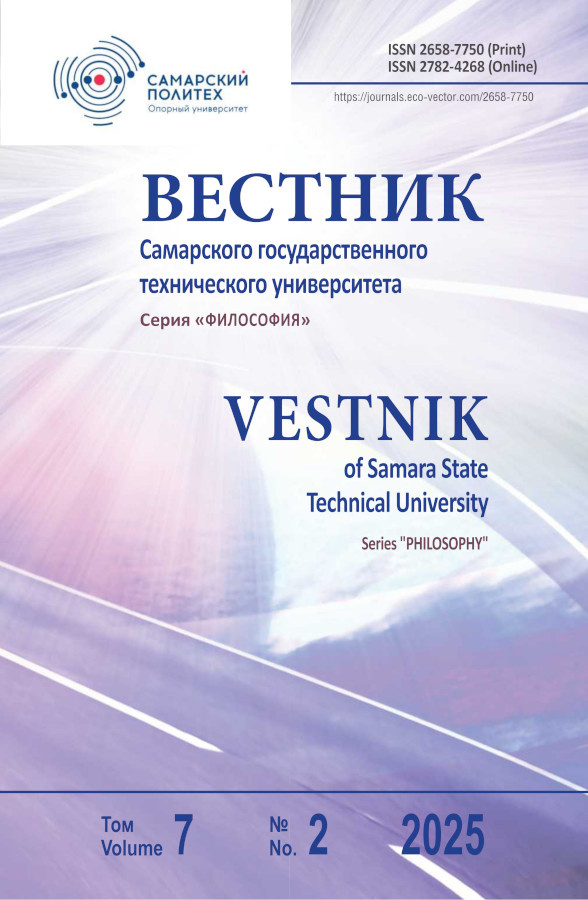Knowledge, truth, interpretations
- Authors: Kostetsky V.V.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg State Academic Institute of painting, sculpture and architecture named after I.E. Repin at the Russian Academy of arts
- Issue: Vol 7, No 2 (2025)
- Pages: 40-54
- Section: ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692889
- ID: 692889
Cite item
Full Text
Abstract
The article proposes a new approach to ontological concepts of the phenomenon of "knowledge". Traditionally, knowledge is perceived together with codification in language and in a packaged form: books, numbers, records, images, reflexes, signals. In philosophy, the question of the source of knowledge (Plato, Descartes, Locke, Kant) is considered. In the methodology of science, traditional interest in knowledge is due to the differences between scientific knowledge and its other types. In medicine and related psychology, the question of knowledge is reduced, as in The Age of Enlightenment, "to the brain". In technical sciences, knowledge is equated with information and the corresponding "carriers". The article attempts to raise the philosophical question of knowledge beyond epistemology. In ontology, knowledge is analyzed in the context of an "exhibition": the world is not a warehouse, but an exhibition.
Keywords
Full Text
«В мировом спектакле мы являем собой зрелище… Мир всевидящ».
Ж. Лакан
«Жизнь Вселенной – это вечный тысячеустный разговор»
Новалис
После того как я окончил обучение на факультете океанологии ленинградского вуза, ко мне подошёл профессор с кафедры прикладной математики с предложением поступить в аспирантуру и заниматься научно-исследовательской деятельностью под его руководством. Даже обозначил тему, как сейчас помню, связанную с «теорией погрешностей». Тема показалась незначительной, но спустя годы стала привлекать внимание, причем не в аспекте математики. Вынужденная ошибка («погрешность») в математических расчетах – и не только в математических – при ближайшем рассмотрении оказывается довольно странной вещью. Она может накапливаться, а может вдруг исчезать, может требовать постоянных поправок, а может изменять направление исследований. Ошибка существует в знании как в собственной среде обитания. И ведет себя подобно паразиту: заставляет хозяина работать на себя. Когда ошибка в знании и само знание достигают стадии синкретизма, возникает «интерпретация». Интерпретации обусловлены не субъективностью личного восприятия, а синкретизмом знания с ошибкой, что позволяют себе «интерпретаторы».
Ученическое представление об ошибке как причине снижения учительской оценки в школьном дневнике мало соответствует её когнитивной значимости. Ошибку часто допускают в знание вполне сознательно, просто иначе её обозначая. Когда, например, И. Ньютон утверждает, что тело, предоставленное самому себе, будет либо находиться в покое, либо двигаться равномерно и прямолинейно до бесконечности, он вполне допускает возможность «погрешности» в этом утверждении. Поэтому оговаривает, что пространство есть пустота, а время течет равномерно в одном направлении. Все ошибки мировосприятия И. Ньютон сознательно включает в знание (физики) ради упрощения вычислений в самой физике. Преднамеренные ошибки И. Ньютон назовёт «мои принципы», благодаря которым в самих вычислениях не будет ошибок. Точно так же было с системой Птолемея: можно делать точные вычисления, полагая, что именно Солнце вращается вокруг Земли. Читатели «Математических начал натуральной философии» авторские принципы Исаака Ньютона будут называть «законы Ньютона», «законы физики» – в благодарность за успешные вычисления в статике, механике, динамике.
Как известно из формальной логики, из ложных посылок вполне возможны истинные выводы. История науки изобилует примерами такого рода, не говоря уже об искусстве, политике или образовании. В философии включенность возможной ошибки в ключевой тезис – тоже обычное явление. У Дж. Локка это лозунг «нет ничего в знании, чего ранее не было бы в ощущении». Отсюда «поправка» от Г. Лейбница: «кроме самого знания». В методологии науки «право на ошибку» маскируется понятием «гипотеза»; если ошибка не препятствует вычислениям, гипотезу объявляют теорией. В гуманитарном познании (в герменевтике) в аналогичных случаях заводят разговоры об интерпретациях, коих возможно множество.
Что касается знания, то по своей онтологии знание не есть интерпретация. Более того, ни к ошибкам, ни к информации знание непосредственного отношения по факту своего существования не имеет, как не имеет оно отношения и к человеку. Кибернетики придали информации объективный характер как «меры упорядоченности» в противоположность «мере неупорядоченности» (энтропии). Тем не менее исходное значение термина «информация» имеет отношение не к кибернетике или физике, а исключительно к библиотеке: это знание, «разложенное по полочкам», складированное в удобном порядке. Информация – термин технический, имеющий прямое отношение к складированию (к количеству перестановок), а не к знанию. Знание, между прочим, тоже имеет отношение к складированию, только в ином отношении, чем информация.
В экономике термины «склад», «склады», «складирование» имеют, казалось бы, довольно банальное значение «хранилища товаров». Конечно, специалистам ясно, что правильное складирование требует своего рода научных знаний и даже искусства. Складирование без информации о том, где какая вещь хранится и как до неё добраться, включая логистику всех перестановок, превращает склад в подобие выгребной ямы, мусоросборник. Напротив, полная информация о местоположении вещей и логистике доступа к ним создаёт уважаемый феномен под названием «склад» – материальное хранилище товаров. Идеальный склад может даже напоминать выставку: настолько всё доступно, красиво, организовано, понятно. Как ни странно, склад при всей своей материальности имеет прямое отношение к таким понятиям, как «знание» и «информация». При этом информация при более детальном анализе сводится к логистике и каталогам, а знание тяготеет к тому, что можно обозначить в качестве выставки.
Выставка, по сути дела, тоже склад. Это с одной стороны. Но с другой – выставка есть нечто большее, чем склад. Если выставка обращается в склад, она перестаёт быть собственно выставкой. Для выставки угроза «не быть» означает обращение в склад. Чтобы быть выставкой, а не складом, должны выполняться определенные условия. Например, выставка требует зрителя, и в присутствии зрителя вещи с выставки уже не просто вещи, а экспонаты, а сама выставка являет собой «зрелище». Как ни странно, вся природа демонстративно зрелищна. Расцветки птиц, рыб, кораллов, цветов, ландшафты и сезоны, рассветы и закаты – все в природе зрелищно во всех спектрах и диапазонах. Самые невообразимые сочетания оттенков и форм не оскорбляют хорошего художественного вкуса даже при разгуле стихий. Гроза, метель, шторм, извержение вулкана поражают грозной красотой. Г. Зиммель даже ввёл понятие «очарование руин»: в старых вещах яркость цветов блекнет, а соразмерное единение цветов нарастает. «Руина же означает, – писал он, – что в исчезнувшее и разрушенное произведение искусства вросли другие силы и формы, силы и формы природы…» [1, с. 228]. Зрелищность – это не эстетическая категория, а онтологическая ипостась «существования».
В свою очередь знание представляет собой эпифеномен той же зрелищности. О зрелищности можно сказать, что она «читаема» – переводима в знание. Например, оскал тигра зрелищен и одновременно читаем – переводим в знание (опасности). Точно так же гроза – зрелищна и читаема. Чтение, собственно, есть процесс обращения зрелища в знание, а самые значимые элементы зрелища при переводе в знание будут восприниматься как «знаки». По своей сути знаки соотносимы с чтением и ни с чем иным. Даже первобытный охотник читает следы животных (не только разглядывает их), и этот процесс чтения не имеет никакого отношения ни к письменности, ни к грамотности [2]. Выделение знаков в процессе чтения (переводе зрелища в знание) позволяет кодифицировать знание, создавая склад знаков для дальнейшего манипулирования ими в интересах той или иной «выставки». Любая выставка «говорит» – каждый экспонат несет свою информацию. М. Хайдеггер так и заявлял: «Дорога говорит… она жила и очеловечилась» [3, c. XII]. Дорога «говорит» не потому, что она живая, а потому, что она – выставка, и всё на ней и вдоль неё – экспонаты.
В философии, как известно, есть специальный раздел, посвященный познанию. В России он носит название «гносеология», на Западе – «эпистемология». Странно, но за сотни лет сенсуализма, рационализма, априоризма и прочих гносеологий понятие «знание» не пытались подвергать существенному анализу. Даже в энциклопедических изданиях ограничиваются банальными пояснениями типа «знание – результат познания»; знание противопоставляется мнению, знание подразделяется на научное и обыденное. В свою очередь познание определяется как «процесс получения знаний». Знание нетрудно подвергнуть классификации: научное, обыденное, достоверное, вероятностное, истинное, ложное, вербальное, невербальное, опытное, внеопытное, априорное и прочее. Понятно, что от перечисления видов знания понятие «знание» не возникает. Тем более, когда знание «определяют» результатом познания, а познание – процессом обретения знаний. В итоге всех тавтологий философия знания обращается в ноль.
Главный философский вопрос о знании – это не вопрос о видах знания и даже не вопрос об источнике знаний у человечества, а вопрос о том, в какой реальности существует знание. Знание – это не вещи, не язык, не «информационное поле», не «ноосфера», не зеркало с абстрактным «отражением мира», а что? При ответе на этот вопрос как раз и уместно использовать метафору «выставки» для представления самого способа существования знания в форме демонстрации. Феномен «знание» возможен исключительно в силу того обстоятельства, что мир не есть склад, даже самый организованный и сколь угодно системный. Европейская наука Нового времени за пятьсот лет приучила образованное общество воспринимать мир как склад молекул, атомов, белков, галактик, породив эпоху «системного подхода». Дескать, порядок, система и структура объясняют всё. Однако прав О. Шпенглер: время систематики проходит, теснимое «физиогномикой». И с этим следует согласиться. «Систематический способ рассмотрения достиг на Западе своей вершины и перешагнул ее. Физиогномическому еще предстоит пережить своё великое время», – пророчески писал он [4, с. 257].
В методе физиогномики появляются в качестве собственных терминов такие понятия, как «лицо» и «картина». Можно говорить, например, о лице города, лице войны, лице событий; точно так же можно говорить о картине эпохи, картине мира, картине языка. Гердер, отстаивая метод физиогномики, писал: «Почему я не могу назвать труд, который исполнил бы мечту Бэкона, Лейбница… о создании всеобщей физиогномической характеристики народов по их языкам… В своё время новый Лейбниц найдёт его» [5, с. 239]. С претензией на «нового Лейбница» позднее выступил М. Хайдеггер, который действительно предпринял фундаментальные шаги в этом направлении. Во-первых, Хайдеггер вывел язык за пределы лингвистики; во-вторых, Хайдеггер понятию «субъект» придал онтологическое значение. М. Хайдеггер писал в статье «Время картины мира»: «Это метафизическое понятие субъекта не имеет ближайшим образом никакого подчеркнутого отношения к человеку и тем более к Я» [3, с. 48].
Развивая подход Хайдеггера, необходимо в субъекте выделить три доминанты, которые в своём единстве и образуют «субъекта» в его метафизическом содержании: это способность видеть своё окружение, господствовать над видимым; это требование любви к себе от всего и всех. Субъект представляет собой довольно агрессивный феномен. Если принять во внимание, что мир в своем микро- и макрокосмосе субъектен от мала до велика, то становится ясной его энергетика. Именно в этой реальности агрессивных демонстраций появляется феномен «знание». Кстати, исходный смысл слова «энергия» тоже имеет отношение к феномену демонстрации: это её сфера действия. Например, в животном мире принято демонстрировать себя, помечая территорию; помеченная территория «заряжена» соответствующим субъектом. М. Хайдеггер не случайно настаивает на том, что вещи выставляют себя напоказ. Всё выставленное напоказ обладает энергией: женщины этим пользуются.
Демонстрация («выставленное напоказ») есть онтологическая основа феномена под названием «знание» (логос). В философском смысле «существование» без демонстрации не бывает; любое существование само по себе демонстративно. В истории философии эта мысль впервые не только появилась у Аристотеля, но и была реализована во всем объёме его творчества. Онтология Аристотеля исходит из того, что мир – не склад, а выставка. Поэтому «философия начинается с удивления». Действительно, если пришел на выставку и ничему не удивляешься, то закономерен вопрос: «Зачем пришёл?»
Демонстрация есть событие, в котором есть три риторические части, выделенные еще Аристотелем в его «Риторике». Это «автор» во всей его «самости»; это «зритель» со всеми его предпочтениями; и это собственно «произведение» как то, в чём «самости» автора и зрителей переплетаются. Соответственно речь оратора наиболее удачна тогда, когда автор демонстрирует себя «интересным человеком», он не «остаётся за кадром». Напротив, полезно уже во введении сообщить нечто о себе, достойное удивления, уважения, симпатии; полезно банально «набить себе цену» умом, юмором, приверженностью к нравственности. Вместе с тем автор должен учесть ожидания и предпочтения публики, определить её потаённые интересы. Речь по своей тематике может не иметь никакого отношения ни к автору, ни к публике, тем не менее она должна быть интересной и даже захватывающей именно благодаря единению самости автора с потаёнными интересами публики. Та же самая феноменология «ораторского искусства» присутствует в любой демонстрации; она из неё выведена. Демонстрация событийна уже потому, что зритель в ней «учтён»; зритель уже в демонстрации, даже если сам не ведает о том: демонстрация под него задействована, энергирована. Зритель уже в «поле демонстрации», в её энергетике.
Физикам с некоторых пор полюбилось понятие «поле»: электрическое, магнитное, гравитационное. Между тем образ «поля» исключительно демонстрационный по своей сути. Физикам нравятся «поля», демонстрирующие некие натуральные «взаимодействия». Однако демонстрация обладает собственной энергией и силами принуждения, без обращения к телесности. Так, например, сигнал светофора останавливает или, напротив, приводит в движение потоки машин простой демонстрацией себя. Человек с атомной бомбой останавливает вражеские армии одной демонстрацией бомбы. Демонстрация реальна. Демонстрация есть сила. Демонстрация событийна. А то, что называют «знанием», есть оборотная сторона той же демонстрации. «Знать» означает пребывать участником некоей демонстрации.
Событийность демонстрации имеет ту особенность, что за «незнание» – при вовлеченности в демонстрацию – следует наказание. Демонстрация властна, категорична и целенаправленна. Не понимаешь сигнала светофора – будешь наказан. Не понимаешь оскала хищника – будешь наказан. Не понимаешь, что «шутки с водой плохи», – будешь наказан. Демонстрация не предполагает «интерпретации»; она требует адекватности. Адекватная реакция на демонстрацию не исключает вариативности. Например, не понимаешь сигналов светофора – не садись за руль или не живи в городе. Есть разные варианты того, как избежать нежелательной демонстрации. Но если демонстрация неизбежна, то неизбежно и «знание», с которым не считаться невозможно. Знание обязывает; за невыполнение обязанностей следует наказание. Вещи «платят друг другу взыскание и пени за своё бесчинство», – так об этом говорится в сохранившемся фрагменте Анаксимандра [6, с. 29].
Связь демонстрации с наказанием рано или поздно приводит к постановке вопроса об истине. Распространённый тезис «практика – критерий истины» касается не соотношения знания с действительностью, как обычно его трактуют, а касается состояния разума – в медицинском смысле. Если «рассеянный с улицы Бассейновой» не понимает демонстрацию штанов в плане того, как их надевать, то «практика» сама демонстрирует его психическое состояние. Внимательный человек способен воспринять демонстрацию вещами самих себя; и штаны, если их повертеть из стороны в сторону, демонстрируют способ их ношения в качестве одежды. Неподверженность демонстрации вещами самих себя для человека имеет непосредственное отношение к состоянию его разума. В известной басне И.А. Крылова «Мартышка и очки» мартышка «понимает» (поддаётся демонстрации), что очки надо надевать, но не понимает «на что?» и «зачем?». Демонстрация оправы очков мартышкой усвоена, демонстрация линз осталась без внимания. С человеческим познанием происходит то же самое. Даже реальность того, что есть демонстрация, остаётся без внимания, а вместе с тем и способ существования знания до его кодификации в языке.
В философии сложилась порочная практика избегать неудобных вопросов, связанных с онтологией знания, сознания, языка, сновидений, гипноза. По сложившимся нарративам предполагается, что знание существует в сознании, сознание в познании, познание в приобретении знаний, – подобный способ объяснения давно стал традиционным в философии. Главный вопрос исследований сводится лишь к тому, что такое «научное знание» и чем оно отличается от «донаучного», «паранаучного», «квазинаучного» или религиозного, художественного, обыденного с прочим перебором вариантов ради сравнения. Но метод сравнения недаром относится к элементарным методам эмпирического или логического анализа. Путем сравнения разных видов знания, установления разных критериев знания и формирования разных классификаций задача изучения онтологии знания даже не ставится и только скрывается за «многознанием, уму не научающим» (Гераклит). Довольно наивно звучит признание покойного профессора МГУ, специализировавшегося на методологии науки: «Как мне представляется, только философия науки и опирающаяся на неё эпистемология способны сегодня дать внятный ответ на вопрос о том, что такое знание» [7, с. 61]. И где же этот ответ? Дальше разговоров о сравнительных особенностях «научного знания» так называемая философия науки за десятки лет «конгрессов» не ступила и шага. Даже академическая «История математики» вязнет в вопросе о том, являются ли, например, методы вычисления древних египтян научным знанием. Древние математики производили сложные вычисления, делили многозначные числа на многозначные очень странными способами, пользовались «формулами» вычислений площадей и объёмов. Однако без вывода правил, без доказательств, без авторства и даже без намёка на источник своих эффективных знаний и вычислений. Как утверждается в академическом издании по истории математики, «метод получения правила неизвестен» [8, с. 31].
Помпезные всемирные конгрессы по логике, методологии и философии науки не только не пролили свет на источники знания в древних цивилизациях, но даже не внесли изменения в ошибочные представления об истории западноевропейской науки. Например, в начале ХХ века А. Уайтхед писал: «Момент, который я хочу подчеркнуть, состоит в том, что данное преобладание идеи функциональности в абстрактной математической сфере вылилось в математически выражаемые законы природы… Вне этого прогресса математики были бы невозможными достижения науки XVII века. Математика обеспечила основу для интеллектуального воображения, с помощью которого люди науки взялись за наблюдение природы. Галилей вывел формулы, Декарт вывел формулы, Гюйгенс вывел формулы, вывел формулы Ньютон» [9, с. 88]. Уважаемого автора почему-то не смущает, что все формулы перечисленных авторов, включая И. Ньютона, имеют исключительно вид пропорции, а «преобладание идеи функциональности в абстрактной математической сфере» и вовсе появилось только после того, как Г. Лейбниц ввел понятие «функция» (эквивалентное «флюэнте» И. Ньютона»). Что же касается «пропорций» первых физиков, то практика вычисления пропорций берет начало не из математики, а из архитектуры, живописи и скульптуры. Искать пропорции за пределами изобразительных искусств первым стал призывать Леонардо да Винчи: «Пропорция обретается не только в числах и мерах, но также в звуках, в тяжестях, временах и положениях и в любой силе, какая бы она ни была» [10, с. 72–73]. Первые физики сознательно искали пропорций по примеру художников, поэтому все формулы физики более столетия сводились к пропорциям, не имея к развитию математики никакого отношения. Как ни странно, наука до сих пор не имеет серьёзного интереса ни к истории знаний (в науке, религии, искусстве), ни к источникам знаний за пределами четко очерченных наблюдений и экспериментов, якобы исчерпывающих собой «опыт». Вопрос о внеопытных источниках знания наукой игнорируется как «ненаучный».
Между тем научный вид знания – это частный вид знания как такового. Очень частный, оговоренный многими условиями. Прежде всего научное знание либо существует в формулировках, либо стремится к ним. Это означает, что оно опосредованно существует в языке, да еще с переводом на язык математики. Кроме того, научное знание кодифицировано по разным направлениям, «разложено по полочкам» в виде книг, статей, «информации». Реальная история науки из формулировок науки изымается: остаётся «голая информация». Научное знание без истории его появления приводит к известному феномену «полуобразованности» даже среди ученых, чаще всего не знающих ни истории появления «формул» и всех принятых допущений, ни пределов действительности и недействительности этих формул.
Главная специфика западноевропейского типа «научного сознания» связана не с математикой «в абстрактной математической сфере», а с конкретным понятием «прибор», благодаря показаниям которого чувственный опыт переводится в числа, а числа уже вводятся в формулы, самыми простыми из которых являются пропорции. Обратной стороной «приборного опыта» является утрата непосредственности знания. Например, термометр не говорит «тепло» или «холодно»: ощущения объективированы, выражены в цифрах. Вся субъективная часть опыта, которая может быть вполне значимой для опытного врача, опущена. Не случайно опытный врач, взглянув на термометр, не преминет рукой коснуться лба пациента. Тактильные ощущения по объему разного типа знаний могут превосходить показания датчиков температуры.
Может ли наука при опоре на приборный опыт завести медицину в тупик? Вопрос риторический. С помощью науки и при её посредстве можно завести в тупики доктринёрства и медицину, и образование, а также политику, право, мораль. Статистика и тестирование в погоне за «объективностью» создают свой вариант опосредованного приборами знания. Но феномен знания как таковой к приборам не имеет отношения. Наука может отождествить с приборами глаз, ухо в качестве органов восприятия, но не слушание и видение. Еще Цицерон, опираясь на Аристотеля, писал: «А ведь мы воспринимаем видимое не глазами… видит и слышит именно душа, а не части тела, которые служат ей как бы окошками, но которыми ничего нельзя чувствовать без присутствия и участия ума» [11, с. 223].
Феномен знания не сводится не только к науке (хотя именно в науке он ценится превыше всего), но и к сознанию, познанию и даже к человеку. Согласно онтологическому представлению, знание есть прежде всего феномен природы. Речь, конечно, не идет о наличии знаний у животных или насекомых либо научных знаний у совершающих дальние перелёты птиц и пчёл. Человеческие знания существуют у человека, – никто не собирается наделять ими «собак Павлова». Речь о том, что феномен знания не обусловлен частной формой телесности (люди, птицы, насекомые, атомы), а заключён в самый способ существования, в «бытие». Нельзя разделять «знание» и «бытие»: они существуют друг через друга и благодаря друг другу. Эта мысль присутствует в декартовском выражении «cogito ergo sum», причем в качестве частного случая.
Единство знания и бытия в философии фиксируется, но порой под разной терминологией. Например, у М. Хайдеггера это «бытие как присутствие» (Dasain вместо Sain); у Г. Гегеля это «дух вещей» (Geist), у Аристотеля «энтелехия», у стоиков «логос». Все подобного рода примеры, смею утверждать, сводятся к аналогии мира с выставкой и её эффектом «зрелищности». Но европейская наука в поисках «объективности» посредством «приборного опыта» провела аналогию природы со складом, отрицая всяческое отношение природы к феномену «выставки». Как следствие, онтологическое представление о знании просто потерялось. «Герменевтический горизонт» феномена знания, во-первых, сузился до сферы человека в пределах ментальности, а во-вторых, в знании отказали телесности человека в её организменной систематике. Для врачей становится нелепым, например, вопрос: «Знает ли сердце человека что-либо о самом человеке, его персоне?». Конечно, вопрос будет казаться нелепым, если официально проводится аналогия сердца с насосом. Метафора «насоса» закрывает все народные и литературные представления о любви «всем сердцем», «о сердечности отношений», о «бессердечности» к пасынкам или сиротам. Но по отношению к сердцу возможны другие метафоры, кроме «насоса»: сердце – «слуга в барском доме»; оно многое знает о человеке подобно тому, как многое знает преданный слуга о своём господине. Как ни странно, человек может меньше знать о своей печени, чем она о нём, – особенно после праздничных дней. Медицине с её приборными идеалами не приходится задумываться о том, что органы тела человека многое знают о нем и способны между собой конфликтовать на этой основе.
Аналогия природы с выставкой является, конечно, специфичной. Распространено выражение «аналогия – не доказательство». Однако на деле вся система человеческих знаний держится на аналогиях: так устроен язык. Общее аналогично единичному, единичное аналогично общему. Человек аналогичен птице – как живое существо; птица аналогична самолету в качестве «летательного аппарата». Человек в пределах языка мыслит исключительно интерпретациями на основе структурированных аналогий. В системе языковых формулировок истина не может не быть конвенциальной. Если бы человек утратил способность воспринимать мир как выставку, все знания пошли бы по замкнутому кругу «парадигмы». Как свидетельствует история, именно так чаще всего и происходит в реальном мире людей.
Истина, по большому счёту, существует не в языке, а в «очевидности» того, как вещи вещают о себе, подобно тому, как это имеет место на выставке. М. Хайдеггер переводил греческое слово «истина» («алетейя») как «несокрытость», «в несокрытости бытийствует открытость» и производит эффект неизреченного. Вещи «вещают о себе»; в этом демонстративном заявлении наличествует знание, а в этом знании уже присутствует истина. Истина-в-вещании не имеет никакого отношения к словам в их соответствии или несоответствии реальности. Истина, как и знание, онтологична настолько, насколько мир не сводится к складу. В потаённой феноменологии выставки скрывается много таинственных явлений физического мира, на что и физика когда-нибудь раскроет глаза. Как писал Г. Гегель в диссертации «Об орбитах планет», «только в том случае, если философия даст идеи, а опыт – данные, мы сможем, наконец, получить большую физику, которую я предвижу в будущем. Современное состояние физики, по-видимому, не может удовлетворить творческий дух...» [12, с. 211]. Но философия как-то не торопится с новыми идеями, особенно относительно онтологического представления таких явлений, как знание, видение, взгляд. Более того, когда новые философские идеи всё-таки появляются, они зависают в воздухе без всякого к ним внимания. Например, Г. Гегель пишет в «Философии природы»: «…субъективное видение, выброшенное вовне, является солнцем…» [13, с. 42]. Физики вообще не понимают, в какой логике высказана эта мысль. Современные философы тоже стремятся перевернуть страницу со странным высказыванием. А мысль та же самая, что проводится в этой статье, только обращенная к частному случаю космического масштаба.
Тезис о том, что «мир – это большая выставка», воспринимается как метафора, аналогия, некий художественный приём. Отчасти это верно, но лишь отчасти. Дело в том, что этот тезис отметает другой тезис, который признаётся без оговорок: «мир состоит из атомов, молекул, электронов, бозонов и далее по списку». Основоположник атомистики Демокрит гордился тем, что изобрел идею складирования сложного из простого: камень на камень, кирпич на кирпич – и дом готов. Платон не без оснований приходил в ярость от таких мыслей: чтобы построить дом, его надо видеть еще до начала строительства. Для Платона «видение» определяется конечной целью, и всё «складирование» подчинено ей. Так появляется у Платона жесткий рационализм. Но «видение» существует на любом этапе условного «складирования», так что конечная цель может не только корректироваться, но и меняться коренным образом.
С.С. Аверинцев ввел интересный термин «эзотерика безыскусственности». Например, ребёнок может лепить из глины не то, что задумал, а то, что получается. Хотел слепить медведя, а получилась белка: ну пусть будет белка, надо только добавить большой пушистый хвост. В «эзотерике безыскусственности» искусство обретает необходимый минимум свободы. Творец и материал содействуют друг другу, видят друг друга и тем обязывают к определенным действиям. Художник выставляет себя напоказ материалу, в ответ материал выставляет себя напоказ художнику. В этом диалоге проявляется творчество. Взгляд художника эзотеричен, это не взгляд потребителя товаров. Аристотель, в отличие от Платона, прекрасно понимал эзотерику творчества, почему и вводил странное эзотеричное понятие «энтелехия». Специфика энтелехии состоит в том, что вещь настойчиво «кажет себя», демонстрирует свою значительность. Греческое слово «энергия» изначально означало именно «значительность», не имея никакого отношения ни к кинематике, ни к динамике. Мир энергетически заряжен не посредством теплоты и других проявлений «движения», а посредством всеобщей демонстрации себя при агрессивном проявлении субъектности.
Эзотерика субъектности совершенно бесполезна при вычислениях, поэтому И. Ньютон от неё принципиально отказался. Вычисления требуют замеров, а это значит – часов, линейки и весов. Три прибора положены И. Ньютоном в основание науки физики, через них «физическая картина мира» выражается метафорой «склад атомов». Метафора, максимально удобная для вычислений. Реальная физика самого И. Ньютона не интересовала: у бухгалтеров иной взгляд на производство, чем у технологов.
Проведение параллели между миром, природой и выставкой для науки является не банальным сравнением, аналогией, а скорее новой научной программой при замене парадигмы «склада», которой европейская наука придерживалась пятьсот лет. «Мир всевидящ»; соответственно у слепых и зрячих формы взаимодействия различны. Современной науке до сих пор неизвестно, в чем состоит «видение», почему взгляд ощущаем и почему взглядом производится действие, эквивалентное ощупыванию. Онтология взгляда открывает в науке новую страницу в «книге природы» [14].
В истории философии тема онтологии взгляда разве что едва обозначена. На Западе об этом писали М. Мерло-Понти, О. Шпенглер, М. Хайдеггер; в России П. Флоренский. В целом ясно, что феномен взгляда не имеет отношения к приборам типа радара или эхолота: физика совершенно другая. В феноменологии взгляда способ существования иной: тот, кто видит, выходит из себя. Во взгляде человек, если речь идёт о человеке, не остаётся в себе: он в том, что видит; более того, он то, что видит. Как писал М. Мерло-Понти, «видение – это не один из модусов мышления или наличного бытия «для себя»: это данная мне способность быть вне самого себя» [15, с. 51]. Почти теми же словами выражал ту же мысль П.А. Флоренский: «Познание есть реальное выхождение познающего из себя, или, то же самое, реальное вхождение познаваемого в познающего, – реальное единение познающего и познаваемого. Это основное и характерное положение всей русской и, вообще, восточной философии» [16, с. 78]. Очевидно, что в западной философии это тоже известно (немногим), – неизвестно западной науке.
В вопросе об истине существуют два контекста, которые благодаря школярским усилиям разучились различать. Первый сводится к оценке «правильно-неправильно», второй связан с евангельским повествованием, в котором на вопрос «Что есть истина?» Христос отвечает «Я есть Истина». В обывательском представлении первый контекст – «научный» (правильный), второй – религиозный (неправильный). В первом случае истина сводится к адекватности знания реальности; во втором случае возникает недоумение: как человек (вещь) может быть истиной (знанием)? Между тем вопрос о «правильности-неправильности» исторически появился не в рамках философии, а в рамках софистики. Софизмы, собственно, и есть неправильное знание, с подменой истины. Евангельский ответ Христа «Я есть истина» в текстах Нового Завета прошел не разовую цензуру апологетов, которые были не рыбаками и плотниками, а преподавателями риторики и действующими профессиональными юристами. Апологеты точно знали, что высказывание «Я есть Истина» выдержит философскую проверку временем. Спустя почти двадцать веков подтверждением этой мысли могут служить философские работы М. Хайдеггера, в том числе посвященные теме истины.
Традиционное представление об истине как мере соответствия знания действительности (с сопутствующими раздумьями об абсолютности и относительности) основаны на априорном признании того, что всякое знание есть интерпретация. Но знание не есть интерпретация. Скорее, интерпретация есть некий рассказ (нарратив), в котором помимо всего прочего есть и «знание». Любой школьник понимает, например, что «морская вода» есть вид «воды» (а не наоборот), хотя географически морской воды много больше, чем пресной, а «чистая вода» как химическое соединение (без растворенных солей и газов) в природе вовсе отсутствует. Химики получают «чистую воду» из морской или пресной воды, тем не менее логически «вода» – родовое понятие, а «морская вода» – видовое. Точно так же обстоят дела с истиной: не истина – вид знания (наряду с мнением, бредом, фантазиями), а знание – вид истины. Истина предшествует знанию. «Знать» в собственном смысле означает «знать истину»; если истины нет, «знание» невозможно – вместо него «мнение». Опять-таки мнение не есть вид знания, а есть его подмена, заменитель. Так, например, если человек присел на пенёк, пенёк от этого не становится видом мебели. Хотя софистические рассуждения напрашиваются сами собой: дескать, пенёк – это дизайнерское решение стула, кресла, табурета. Софистика, собственно, и возникла с вопроса о знании и истине. Основной софизм, софизм всех софизмов, состоял в неявной формулировке двух тезисов. Во-первых, знание существует только у человека – сакраментальное «это все знают». Во-вторых, людям свойственно ошибаться; соответственно знание может содержать ошибки, оставаясь, тем не менее, знанием. В Средневековье такая теория «двойственной истины» устраивала и богословов, и представителей зарождавшейся науки: у одних одни допущения (ошибки), у других – другие. Университетское образование сохранило эту традицию до настоящего времени.
В отличие от софистики философия изначально заняла другую позицию. Уже у Парменида появляется разделение на «путь истины» и «путь мнения». Поэма «О природе» вводит в качестве откровения от богини Дике новый термин «бытие». «Бытие» – это видение богами плотского мира, причем – и это главное – одновременно как настоящее, прошлое и будущее. В отличие от богов люди видят мир «в просвете бытия» (М. Хайдеггер) в качестве мгновения между прошлым и настоящим, настоящим и будущим. Для богов, как следует из откровения, мир предстаёт как картина в трёх временах одновременно. Образно говоря, боги одним поворотом головы объемлют рождение человека, его жизнь и смерть. Для богов мир не прикрыт мельканием времен, поэтому появляется термин «алетейя» – до Леты («реки забвения») и после Леты. Для богов плотский мир выглядит иначе, чем для людей: для богов мир есть картина наподобие привычного живописного полотна, уже без процессов, историй, развития, эволюции. В качестве «картины» бытие есть «неприкрытое знание» – истина. Так и выстраивается логика: знание – эпифеномен картины (бытие есть картина – для богов), а истина – феномен очевидности знания. Люди тоже способны встать на точку зрения богов и увидеть мир как картину и, следовательно, увидеть истину. Например, что есть истина для рыцаря? Его меч. Что есть истина для еврея? Его деньги. Что есть истина для русского? Его родина. Что есть истина для христианина? Христос. Смотрите, слушайте, следуйте… В элевсинских мистериях неофиту после всех испытаний показывали проросшее зерно, чтобы увидеть Истину всего мира. В этих примерах конкретные вещи надо видеть в их зрелищном вещании в развернутом виде настоящего, прошлого и будущего. Они не фетиш, не идея, а переход на другую точку зрения (присущую богам). Людей, не способных взглянуть на мир с точки зрения истины, Парменид называет «пустоголовым племенем».
Поэма Парменида произвела сильное впечатление на Платона, который в итоге стал автором концепции «двоемирия», востребованной позднее христианством. У Платона «идея» структурирована подобно кентавру: «бытие» и «истина» объединены в единое целое. «Идея» – придуманный Платоном концепт соединения «видимого и невидимого», в основе которого зрелищность: идея видима – умозрительно («спекулятивно»). В философии Аристотеля тема видимости идеи оказалась на первом месте, только приняла другой характер: если идея видима, а вещь понимается как воплощение идеи, то, соответственно, идея должна быть видимой и в вещи. Кем видимой? Ответ Аристотеля однозначен: не человеком; вещи видимы всеми; быть видимым – особенность самих вещей; «быть» и «быть видимым» – одно и то же. Человек, естественно, не исключение и способен воспринимать зрелищность вещей, причем помимо языка. В логике Аристотеля форма суждения исходит из зрелищности вещей, именно поэтому предикат на первом месте, а субъект на втором: «Человек – сказывается о Сократе». Кем сказывается? По Аристотелю, всем: одеждой, речью, жестами, запахами. Даже животным доступно знание того, что Сократ не рыба, птица, овощ, камень. Вещь вещает о себе, вещает своё «бытие». Это «вещание» и есть истина.
В аристотелевской терминологии мысль о вещании вещью о самой себе представлена термином «энтелехия», что можно перевести как «нацеленность» (у греческих стоиков это «тонос», у римских «интенция», у первых ученых христиан – «логос»). Когда М. Хайдеггер, читая лекции о философии Аристотеля, начал погружаться в смыслы его терминологии, тогда стали появляться размышления о субъектности вещей и обороты речи по типу «вещь кажет себя», «вещь подставляет себя взгляду». Не встречая в текстах Аристотеля понятия «выставка», которое многое бы прояснило, М. Хайдеггер в своих рассуждениях об истине начинает завораживающе блуждать по пути «артистичной герменевтики» (Т. Васильева). «Артистичная герменевтика» в философии уместна, конечно, но в ограниченных пределах и не в качестве самоцели. Её назначение определяется поиском новых аналогий и определением границ аналогичности, а не поэтизацией собственных ментальных ощущений. По большому счёту, аналогия знания с «выставкой» и «вещанием» имеет фундаментальный характер и не может быть обойдена молчанием.
About the authors
Victor V. Kostetsky
St. Petersburg State Academic Institute of painting, sculpture and architecture named after I.E. Repin at the Russian Academy of arts
Author for correspondence.
Email: kostavictor@yandex.ru
SPIN-code: 5878-8598
Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Simmel G. Favorites. T. 2. Contemplation of life. Moscow: Lawyer, 1996. 607 p. (In Russ.)
- Kostetsky V.V. Hidden pages of the history of Western philosophy. St. Petersburg: Aleteya, 2024. 424 p. (In Russ.)
- Heidegger M. Phenomenology, hermeneutics, philosophy of language. Moscow: Gnosis, 1993. 464 p. (In Russ.)
- Spengler O. The Decline of Europe. Vol. 1. Moscow, 1993. 672 p. (In Russ.)
- Herder I.-G. Ideas for the philosophy of human history. Moscow: Nauka, 1977. 703 p. (In Russ.)
- Heidegger M. Conversation on a country road. Moscow: Higher School, 1991. 192 p. (In Russ.)
- Nikiforov A.L. Analysis of the concept of "knowledge": approaches and problems. Epistemology and philosophy of science. 2009;3:61-73. (In Russ.)
- History of mathematics. Vol. 1. From ancient times to the beginning of modern times. Ed. by A.P. Yushkevich. Moscow: Nauka, 1970. 354 p. (In Russ.)
- Whitehead A. Selected Works on the Philosophy of Science. Moscow: Progress, 1990. 720 p. (In Russ.)
- Da Vinci L. Selected Works. Moscow-Leningrad: Russian State Library, 1935. Vol. 1. 359 p. (In Russ.)
- Cicero M. Selected works. Moscow: Fiction, 1975. 456 p. (In Russ.)
- Hegel G. Works of different years. Vol. 1. Moscow: Thought, 1972. 669 p. (In Russ.)
- Hegel G. Philosophy of nature. Moscow: Thought, 1975. 695 p. (In Russ.)
- Kostetsky V.V. Ontology of view – the path to a new ontology of the world. Pa-radigma. Essays on philosophy and cultural theory. Ed. by M.S. Uvarova. Issue 7. St. Petersburg, 2007. Pp. 130–139. (In Russ.)
- Merleau-Ponty M. Eye and Spirit. Moscow: Art, 1992. 63 p. (In Russ.)
- Florensky P.A. Pillar and statement of truth. Vol. 1. Moscow: Truth, 1990. 496 p. (In Russ.)
Supplementary files