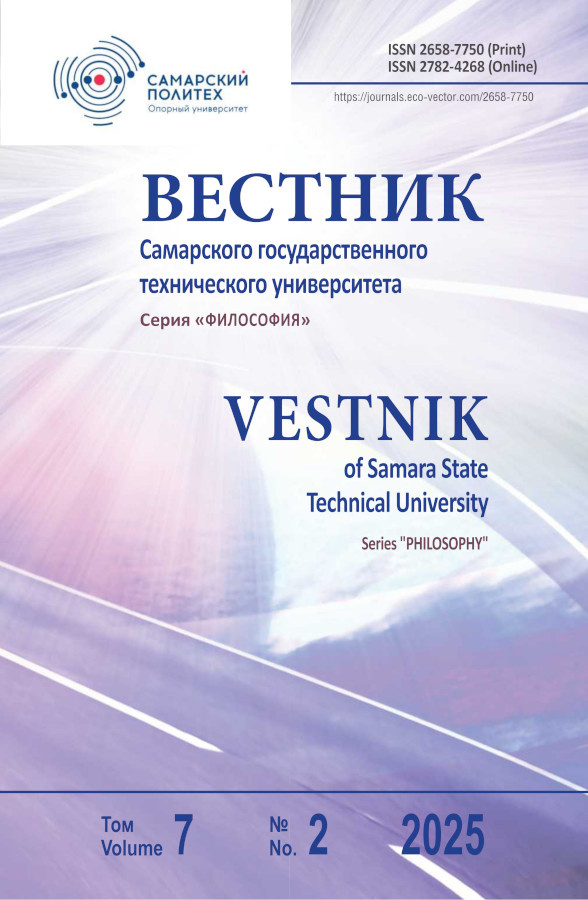Ontognoseological significance of the norm of stage exposition in philosophy
- Authors: Ognev A.N.1
-
Affiliations:
- Samara National Research University
- Issue: Vol 7, No 2 (2025)
- Pages: 55-65
- Section: ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692890
- ID: 692890
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the standards of stage exposition in the context of ontognoseology as a doctrine of the essential unity of being and thinking. The logic of the problematic status of the standard of stagedness is substantiated, the essential features of expositional stages are revealed and their content is characterized. The specificity of differentiation of the assets of staged exposition is shown in connection with the reversal of the order of explication of the essential forces of human subjectivity. The main conceptual aberrations of each staged exposition are revealed. The standards of the essential assumption of reasonable reality are indicated.
Full Text
Развитие философской мысли как процесс рационального присвоения предметности характеризуется двойственностью онтологической и гносеологической диспозиции по меркам актуального для нее системного консенсуса, задающего норму системной репрезентации условного единства бытия и мышления означающего и означаемого, интуиции и рефлексии. Постулат о взаимно однозначном соответствии между бытием и мышлением вытекает из допущения актуального единства разумной действительности, доступной для понимания человека. Со стороны онтологии предъявляется оппозиция содержания и формы, каноническим образцом которой можно считать принцип аристотелевского гилеморфизма, тогда как со стороны теории познания речь идет о субъектно-объектной оппозиции. Разумная действительность раскрывает себя в понятии при условии, что для множества факторов бытия и актов сознания существует область их взаимно однозначного соответствия, где выполнима теорема Цермело, согласно которой собственным признаком множества является его упорядоченность. То обстоятельство, что не все факты бытия и не все акты сознания соответствуют строгому критерию разумной действительности, отражается уже в дифференциации типов истинности, ибо ум человеческий может постигать в том числе и то, для чего может не быть реального онтологического эквивалента, а также сталкиваться с фактами, для которых не создана готовая система родо-видовых отношений, что предполагает их некаталогизируемость по известным логическим нормативам, хотя эмпирически они протоколируются как некие предметные данности.
Экспликация философской мысли происходит, однако, не в эфире «чистого разума», а в реалиях конкретной коммуникативной формации, которые несут на себе отпечаток стихийного становления языкового дискурса, что вполне соответствует принципу конкретного историзма. Мысль не замкнута исключительно сама на себя, а потому она не свободна от следовой фактографии своего реального генезиса. Разумеется, активность мысли как субъектной конфигурации познавательных установок предполагает ее интенциональную мобилизацию, посредством которой она достигает истины своего «идентифицирующего состояния», но сама способность мысли быть живым откликом на реальность требует от нее жизненности. Мысль только тогда чего-то стоит, когда она «одной крови» с жизнью. Мысль принимает уже существующую жизнеформу, чтобы одухотворить ее изнутри и предстать вовне в образе, который совместим с общим гештальтом существующего жизненного мира. Только тогда в ней заявит о себе пафос репрезентируемой ей субъективности, который объективируется в эйдетике канонических форм логоса существующего жизненного мира.
В лосевской ономатической диалектике разрыв между мыслью и жизнью был концептуально преодолен в учении о канонических формах эйдетической предметности, образующих регулятивный форматив мысли, от которого нельзя требовать конститутивности с точки зрения расширения фактографической базы опыта, поскольку за него отвечает не канон, а органон познания, следуя кантовскому критицизму. Лосевские канонические формы эйдетической предметности были выведены им догматически, что предполагало наличие онтологических допущений, но не исключало возможности их последующей элиминации и предоставления критического вывода в рамках диалектики коммуникативной формы. В ономатической диалектике их пять: 1) схема, 2) топос, 3) эйдос, 4) символ, 5) миф. Диалектика коммуникативной формы идет дальше, видя в них категориальные локусы, задающие опыт границы, который, однако, по-разному преломляется на предпосылочном базисе античной, средневековой и новоевропейской коммуникативной формации. Абстрагируясь от этих различий, следует найти их эквиваленты на уровне сущностных сил человеческой субъективности, поскольку было бы ошибкой приписывать им потустороннее или внечеловеческое происхождение.
Между каноническими формами эйдетической предметности и сущностными силами человеческой субъективности обнаруживается взаимно однозначное соответствие: 1) схема раскрывается в чувственности, 2) топос являет волевую установку, 3) эйдос фокусирует интенцию интеллектуальных сил, 4) символ задает вектор имагинации, а 5) миф обобщает данности жизненного мира мемориально. Но коль скоро этот порядок релевантен с точки зрения сущностных сил человеческой субъективности, на уровне предметной объективации он аподиктическим образом инвертируется, предпосылкой чего является закон обратной зависимости между объектом и содержанием понятия в логике, имеющий нормативный статус. Философия, таким образом, экспонирует разумную действительность в обратном порядке, начиная с мифа, а заканчивая чувственным материалом предметного опыта. В этом состоит фатум жизненного осуществления мысли, раскрывающийся в ее экспозитивных стадиях. Если мысль соответствует логической норме, то все пять стадий будут в ней эксплицированы с подобающими признаками теоретической полноты, практической воплотимости на уровне предметного опосредования в пределе аксиологически осмысленного целеполагания.
Стадиальная экспозиция, будучи логическим конструктом, запечатлевает философское отображение разумной действительности посредством нормативов, отсылающих не к предметному содержанию опыта, а к форме актуального единства бытия и мышления в границах соответствующей коммуникативной формации. Поэтому для рассмотрения стадиальных экспозиций в их внутренней логике имеет смысл обращаться к новоевропейской, а не к средневековой или античной коммуникативной формации, поскольку их жизненный мир несовместим с мыслеобразом известной нам по факту переживания разумной действительности. В ней мысль: 1) сначала постулирует интуицию, отсылающую к мемориальному тропу мифа о единстве бытия и мышления, экспонирующую себя медитативно, затем разделяет эту интуицию на понятия рефлексии по поводу своей символики в 2) контемплятивной экспозиции, затем соединяет фрагменты в общей эйдетике, экспонируя общелогическую совместимость в 3) академическом экспозитивном концепте, находя для него волюнтативные основания в топологии жизненного мира в 4) популярной экспозиции на уровне обыденного сознания, и, наконец, 5) воплощается в предметность чувственного опыта в схематизме прикладного узуса. Проходя эти стадии, мысль изживает конечные факторы собственного генезиса, но обретает предметное содержание, востребованное образом жизненного мира.
Философия обретает только ту разумную действительность, которая обладает мыслеобразом, совместимым с формационной конкретикой существующего жизненного мира. В идеале утраченная мыслью рассудочная однозначность должна компенсироваться благоприобретенным предметным содержанием, но зачастую в разумной действительности наличествует лишь отвлеченный знак такого символического обмена, свидетельствующий об отрицательном сальдо, указывающем на проблему отчуждения сущностных сил человеческой субъективности от форматива предметного содержания. Сказанное позволяет понять, почему некоторые философские доктрины не проходят всего жизненного цикла: их осуществление может оборваться на одной из промежуточных стадий, в которой под воздействием сил отчуждения они целиком растрачивают свой обобщающий потенциал, размениваясь на бессодержательные мировоззренческие компенсации, лишенные сущностной предметности. Итак, следует рассмотреть последовательно перечисленные стадиальные экспозиции, в которых философская мысль позволяет составить непротиворечивое представление о сущностном аспекте разумной действительности в адекватных логических нормативах, гарантирующих ей теоретическую ретранслируемость на общезначимых основаниях.
- Медитативная стадия разумной действительности характеризуется наличием сущностной интуиции, базирующейся на анамнезисе некой «врожденной идеи» относительно мифологизированной целостности жизненного мира. Эта интуиция предстает как тематизируемый мыслеобраз, отдельные аспекты которого образуют «элементы», «стихии» и «логические» первоначала разумной действительности. Эти элементарные интуиции образуют мемориальный код «врожденной идеи», под которую создается тот или иной миф об анамнезисе предметного единства сущего. Всякое первоначало, таким образом, всегда абстрактно, а потому ему свойственна мифологическая отрешенность, о которой Мейстер Экхарт писал: «Отрешённость же настолько близка к “ничто”, настолько тонка, что не найти в нём места для себя – только для Бога» [1, с. 54]. Отрешенность требует для всякой абстракции топологической вненаходимости, делающей интуицию универсальной, коль скоро она не привязана детерминативным способом ни к одному из локусов своего обнаружения в конкретной фактографии опыта. Интуиция сущностного единства бытия и мышления не привносится в разумную действительность извне, но составляет ее умопостигаемый фокус. Итак, на медитативной стадии определяется существо исходной интуиции, предрешающее характер последующего видения той целостности, в которой она предметно воплощается. На медитативной стадии истина интуируется в ауре мифологической сакральности как нечто такое, что не подлежит забвению, на что указывает и греческая этимология самого слова «истина». Истина распознается через норматив самотождественной и непрофанируемой интуиции, которая охватывает не только сущностные аспекты, но и моменты, предусматривающие иррациональный генезис самого мифа.
- Контемплятивная стадия разумной действительности ознаменована рефлексией, которая сводит к понятийному единству все то, что открыла интуиция на предшествующей медитативной стадии. Следует признать, что нет такой интуиции, которая была бы применима ко всему, вследствие чего рефлексия домысливает те связи, которые для медитативной интуиции неочевидны. Например, интуиция треугольника позволяет конституировать универсальные закономерности для всех треугольных объектов, но не для круглых. Аналогичным образом действовали интуиции метафизических символов в античной натурфилософии: они абсолютизировали некий абстрактный момент действительности, сводя её к стихийному содержанию метафизического символа. Рефлексия конституирует план отражения. Однако речь не идёт пока об отражении собственно предметных связей, а только об отражении символических референций имагинации. Отсюда проистекает символический характер имагинаций, которые рефлексия преподносит системно связанными на понятийном уровне. На контемплятивной стадии рефлексия возмещает избытком обратных связей то, что непосредственно не дано видеть человеческому уму. Возникает понятийная целостность, дающая мыслителю иллюзию всеведения, характерную для великих метафизических систем. Предполагается, что примеры, которые не подтверждают этого убеждения, обусловлены только ограниченностью человеческого опыта. Если же встать на универсальную понятийную точку зрения рефлексии, то погрешности элиминируются в общем порядке разумной действительности и можно будет принять за фактическую истину то, что только должно мыслиться таковой в теории на основании вечных истин разума.
Кантовский критицизм обнаруживает, что процесс познания вещи не тождествен самой вещи, перенося центр тяжести внутрь субъекта, что позволяет трактовать кантовскую «вещь-в-себе» (Ding an sich) как невротическое образование, возникающее в ходе применения критического метода в процессе познания. В итоге Шеллинг на контемплятивной стадии приходит к заключению, что принцип знания «должен заключаться внутри самого знания» [2, с. 32]. Гегелевская разумная действительность предполагает с той же категоричностью, что вне знания никакого бытия попросту нет. Итак, исследователи на контемплятивной стадии сводят действительность к тому проявлению разумности, которое способно само себя логически освидетельствовать. Трагизм в том, что при этом не достигается логическая непротиворечивость, а вскрывается некое сущностное противоречие. Контемплятивная стадия заканчивается, когда наступает историзация самой рефлексии.
- На академической стадии самоопределения мысли разумная действительность развертывается как континуум понятийной рефлексии в материале предметной эйдетики. Логика выявляет инвариантные сущностные связи на понятийном уровне, высвобождая их из символических референций предшествующей контемплятивной фазы. На этой стадии мысль предстает в виде детерминированного предметного содержания, отражаемого интеллектуальными силами человеческой субъективности. Для академической фазы в целом характерно противопоставление разума и рассудка, приводящее к закреплению за философией интегративно-мировоззренческой функции, возвышающей ее над прагматикой регионально значимых эпистемических комплексов. Предполагается, что рассудочная формальная логика вполне достаточна для частнопредметного регионального узуса, тогда как диалектика обладает привилегией объединить и легитимировать достижения позитивного знания, создав, таким образом, единый эпистемологический комплекс, в составе системных закономерностей которого раскрывается их подлинный смысл, недоступный для частнопредметной рассудочной рефлексии. Предполагается, что философия дает позитивному знанию единое разумное обоснование. Это воззрение проявилось еще в гегельянстве, но в дальнейшем закрепилось в марксистском представлении о роли философии и значении диалектического метода в научном познании. На деле речь идет совсем о другом: философская мысль приобретает значимость релевантного образовательного фактора, который конституирует методологические приоритеты с точки зрения историчности приобретенного позитивного знания. Поэтому именно в академической фазе выявляется различие между номотетикой и идеографией, на которое обратили внимание представители Баденской школы неокантианства. Г. Риккерт утверждает: «Естественнонаучная точка зрения скорее подчинена исторической и культурно-научной, так как последняя значительно шире первой» [3, с. 127]. Руководствуясь этим представлением, академизм стремится историзовать различные по своему генезису философские концепции, уложив их в единую фабулу, обеспечивающую для философии исполнимость ее интегративно-мировоззренческой функции.
- Популярная опция мыслительной экспозиции разумной действительности предполагает вступление в права субъекта, усвоившего картину мира, созданную на академической стадии, а также обладающего волей к реализации своей историчности на практике. Волюнтативные силы человеческой субъективности воплощают тот или иной модус оптимизации отношения между бытием и мышлением в специфических действенных ценностных обобщениях, создавая как продуктивные прецеденты, выступающие в качестве тематического базиса для мировоззренческого консенсуса, так и инциденты фальсификации принятой к опосредствованию картины мира. В популярной опции мысль приобретает историческую сюжетность, материализуясь в коммуникативных стратегиях, ценностных инициативах и антропологических проектах. На стадии популяризации разумная действительность обнаруживается в потенциале социализации, которым обладает мысль в жизненном мире. Чем богаче этот потенциал и разнообразнее спектр вытекающих из мысли следствий, тем убедительнее степень ее исторической сюжетности, позволяющей ей задавать новую презумпцию аутентичности для опыта границы в творимых реалиях жизненного мира. Популярная опция заключает в себе испытание субъектности мысли, порождающее целый ряд мировоззренческих искушений, специфицируемых в религиозно-мифологических и идеологических контаминациях. Способность мысли стать чем-то большим, нежели просто «фактом сознания», свидетельствует о ее зрелости в плане содержания. Признавая это, М.А. Лифшиц писал: «Испытание зрелости – это необходимое выражение того факта, что своевременность определенного достижения, достоверность того, что мое действие есть именно то, что является его программой, а не попросту потугой, пленной мысли раздражением, водой на чужую мельницу или удобрением почвы, – есть именно дело испытания, а не рассудочно-предвидимый факт» [4, с. 59]. Мысль может, таким образом, считаться зрелой с точки зрения сюжетного запроса, если на ее основе может быть сформирован социализируемый номос уместности, гарантирующий нормальную историчность для единства бытия, признанного в границах определенной духовно-исторической общности.
- Прикладная стадия экспозиции мысли складывается в условиях размена потребностного вектора человеческой субъектности на конечные предметные эквиваленты, в которых мысль опредмечивается и материализуется. Мысль оказывается изъятой из своего аутентичного теоретического содержания, получая взамен компенсаторный генезис своего материально-предметного форматива в системе производительных сил социума. Если на популярной стадии сохранялось ипостасное единство субъекта с его потребностными аттитюдами, то на прикладной для них находятся предметные эквиваленты в опыте. Субъект разменивается на отчужденные предметные объективации, встраиваясь в контекст существующей ситуации отчуждения. На прикладной стадии происходит отмирание «непрофильных» с точки зрения потребностного запроса функций мысли, вследствие чего она низводится до уровня средства, обращаясь в предмет общего пользования. У мысли остается операциональный функционал и наращиваются признаки, вызванные ситуацией транслируемости в актах семиотического обмена. В прикладном качестве мысль предстает в виде социальной эпистемы, ценность которой не зависит от ее истинности. На первый план выходят ее адаптивные и прагматические характеристики, значимые с точки зрения плебисцитарного узуса, который занимает место «закона» в его абстрактно-метафизическом смысле. Мысль оказывается частным случаем закономерности, проявляющейся в имеющихся социальных эпистемах.
Характеризуя диалектику взаимопроникновения методологических установок в научном познании, В.Т. Салосин писал: «Закон, определяя способ протекания явлений, непременно устанавливает для них границы, рамки, выступает как мера этих явлений. И именно то, что происходит в силу закона, в меру закона, является закономерным, независимо от того, идет ли речь о связи, отношении, тенденции или отдельном явлении» [5, с. 41]. На прикладной стадии мысль предстает в виде закономерности, отражающей характер семиотических обменов, совершаемых на кортеже допустимых по показаниям методологического консенсуса операциональных состояний. В этом пункте разумная действительность предстает в виде некоего предметного обстояния, требующего для себя нормативной концепции детерминизма, обладающей в методологическом плане внятным прескриптивным потенциалом. В прикладной экспозиции условное единство бытия и мышления овеществляется в фактическом материале, приобретая устойчивую чувственно-предметную форму, посредством которой знание экспонируется в контексте материального единства мира.
Порядок экспозитивных стадий осуществления разумной действительности инвариантен: он не допускает пропуска или фазовых альтернаций. В каждой новой стадиальной экспозиции мысль теряет признаки своей умопостигаемой свободы, которой она обладала в чистом эфире самосознания, но приобретает взамен устойчивое предметное содержание с опциональными прагматическими санкциями. Если баланс этих семиотических обменов приводит мысль к исчерпанию ее обобщающего потенциала, то она низводится до частного случая, представляющего собой эпифеномен какой-то более основательной детерминации, вследствие чего она утрачивает идеируемую субсистентность. В такой ситуации мысль не проходит полного стадиального цикла. Если же достигается приращение определенности, то мысль на каждой новой стадии обогащается новыми опциональными возможностями и приобретает статус неотчуждаемого аквизита самосознания, посредством которого она становится силой, формирующей действительность. Понятие «аквизита» ввёл в обиход марксистской мысли философ И. Дицген, что не встретило возражений со стороны классиков марксизма и ведущих теоретиков Второго Интернационала. И. Дицген не считал нужным прибегать к схоластической дефиниции, довольствуясь латинскими дифференциациями значения этого термина: «завоевание», «достижение», «приобретение». Примечательно, что термин «аквизит» в соответствии с указанными значениями употреблялся в схоластической традиции как латинский аналог значений греческого слова «ересь». В этой связи характерен и ход мысли С.Н. Булгакова, намеревавшегося с позиций религиозного фидеизма представить всю историю европейского разума в ересиологическом ключе. Важен и системный аспект: аквизит можно рассматривать как прямую антитезу «реквизита» в лейбнице-вольфовской метафизике, в которой «реквизиты» употребляются в значении объектных характеристик. Аквизит возникает в поле активности субъекта. Это возможно только при условии «положительного сальдо» на момент совершения очередного фазового перехода от одной стадиальной экспозиции к другой. В этой связи особую значимость приобретает диалектика необратимости познавательного процесса, требующая учета возникающих теоретических декомпенсаций, ведущих на последующих стадиях к понятийным аберрациям. Это понятие допускает свободный общенаучный узус, предполагающий «закономерное искажение», вызванное воздействием средовых эффектов (например, аберрации в оптической астрономии, вызванные конструктивными различиями телескопов).
Декомпенсированная разумная действительность объективирует условности мыслительного процесса, преподнося их в качестве детерминаций самого порядка вещей. Возникает иллюзия, при которой, согласно Ф. Розенцвейгу, «нельзя избежать того, что понятие металогического мира может слиться, например, с понятием природы» [6, с. 47]. В контексте этой иллюзии возникают системные аберрации, приводящие к метафизическим рецидивам. К их числу принадлежит упрощенное видение единства исторического и логического, взятых вне акта суждения в качестве двух континуумов, которым искусственно придается прескриптивное взаимно однозначное соответствие. В равной мере несостоятельны в своей метафизичности как попытки историзовать логику, выводя ее из материальных оснований, так и спиритуалистическая установка на то, чтобы «образумить» историю, подогнав ее под некий логически непротиворечивый метафизический смысловой интроект. На эту опасность указывал Б. Кроче, подчеркивая дискретное единство дефинитивного и индивидуального исторического аспектов только в акте суждения, но не безотносительно к нему: «Тщетна любая попытка устранить логическое, осмыслить индивидуальное или чувственное как предшествующее, неосвещенное светом универсального. Если мы не можем допустить дуальности логических форм, еще менее допустима алогичность индивидуального суждения» [7, с. 46]. В крочеанстве провозглашается возможность дискретного единства исторического и логического в акте отдельно взятого суждения, но решительно отвергается возможность единства этих аспектов вне акта суждения.
Аналогичным образом в критической онтологии Н. Гартмана материализм и спиритуализм рассматриваются как метафизические рецидивы, игнорирующие различия между слоями бытия. Гегельянский спиритуализм предполагает истолкование нижних слоев по «закону свободы», которому в них нет места, а марксизм абсолютизирует «закон силы», сводя детерминации верхних слоев к более простым детерминациям, характерным для нижних слоев. Метафизические рецидивы наиболее заметно проявляются в ситуации сакрализации «сверхценных идей», выступающих в роли онтологических гарантов разумной действительности. Сведение всего многообразного опыта к методологическим процедурным моментам приводит к редукционизму, наиболее ярким образцом которого можно считать структурализм. Эту редукционистскую аберрацию подверг критике А.Ф. Лосев: «В этом смысле человек только обладает структурой, владеет разными структурами, но никак не сводим только к одним структурным отношениям» [8, с. 93]. Искусственное сохранение редукционистской структурной аберрации приводит в дальнейшем к методологической деформации мысли, в ходе которой модельная ситуация теоретизирования возводится в ранг канона. Так возникает методологический фетишизм, требующий канонизации рабочей модели при дефицитарном аксиоматическом фонде.
М. Вартофский указывает на то, что рабочие модели «являются отнюдь не базовыми, простыми, а необычайно сложными вариантами репрезентации» [9, с. 37], поскольку наряду с аксиоматическими пропозициями включают в себя и гипотетические моменты с диверсифицированным и зачастую некогерентным функционалом. Последовательный методологический фетишизм приводит к трансцендентальной подтасовке с последующей онтологизацией полученного результата. Находясь между Сциллой идеологического официоза и Харибдой критического ревизионизма, основоположник онтогносеологии в советской философии М.А. Лифшиц учил: «Лишать материю смысла – плохо, это идеализм. Приписывать вещам объективный смысл, не проходящий через сознание, – тоже плохо. Это шеллингианство. Нужно понять, что именно сознание является тем органоном космоса, благодаря которому он получает смысл для самого себя» [10, с. 452]. Только так можно избежать: 1) метафизических рецидивов, 2) сакрализации «сверхценных идей», 3) редукционизма, 4) методологического фетишизма и 5) трансцендентальной подтасовки онтологических оснований. Перечисленные понятийные аберрации возникают из декомпенсаций стадиальных экспозиций разумной действительности. Они симптоматичны для перечисленных фаз экспонирования условного единства бытия и мышления, а потому доступны для критики, что делает возможной терапию непродуктивных в теоретическом смысле эпистем.
Подводя итог рассмотрению стадиальной экспозиции разумной действительности, следует обратить внимание на принцип фазового гистерезиса, который с онтогносеологических позиций можно противопоставить догматике идеалистического анамнезиса. На различие этих двух принципов указывает М.А. Лифшиц. В его концепции «гистерезис» получает статус материального a priori. Различия между идеалистическим анамнезисом и реалистическим гистерезисом релевантны в контексте противопоставления «сильной» и «слабой» версии антропного принципа. Предшествующая фаза мысли образует реальный предпосылочный базис для того, что идеируется в последующей. Общая закономерность стадиальных экспозиций такова:
- Медитативная стадия являет мемориальные силы человеческой субъективности. Ее аквизит составляет интуиция, а аберрацию – метафизический рецидив. Норматив: миф как троп идиографической мнемотехники.
- Контемплятивная стадия являет имагинативные силы человеческой субъективности. Ее аквизит составляет рефлексия, а аберрацию – сакрализация «сверхценных идей». Норматив: когерентность символических референций в акте рефлексии.
- Академическая стадия являет интеллектуальные силы человеческой субъективности. Ее аквизит составляет концептуальная детерминация, а аберрацию – редукционизм. Норматив: общая фабула идеации факторов генезиса мысли.
- Популярная стадия являет волюнтативные силы человеческой субъективности. Ее аквизит составляет интенция целеполагания, а аберрацию – методологический фетишизм. Норматив: транслируемый номос уместности эпистем.
- Прикладная стадия являет чувственные силы человеческой субъективности. Ее аквизит составляет реификация, а аберрацию – трансцендентальная подтасовка. Норматив: схема опредмечивания материального единства мира на уровне плана содержания.
Итак, онтогносеологическая значимость норматива стадиальной экспозиции разумной действительности задает характер понятийных границ, вектор обобщения и индекс проблемной релевантности философской мысли. Обращение к принципу стадиальности позволяет преодолеть гегельянскую иллюзию тематического монизма историко-философского процесса, противопоставив ей дискретное крочеанское видение условного единства бытия и мышления в акте суждения. На этой основе достигается презумпция аутентичности теории, приводящая к позиционированию онтогносеологической нормы взаимно однозначного соответствия бытия и мышления. Дифференциация стадиальных экспозиций представляет собой методологическое исполнение постулата конкретного историзма в теоретическом мышлении, что способствует утверждению реалистического подхода к анализу актуального проблемного содержания философской мысли, задающей параметры как для методологии научного познания, так и для продуктивных ценностно-мировоззренческих обобщений.
About the authors
Alexander N. Ognev
Samara National Research University
Author for correspondence.
Email: ognev.ssau@mail.ru
SPIN-code: 2565-0660
Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy
Russian Federation, SamaraReferences
- Eckhart М. Spiritual sermons and discourses. Moscow: Politizdat, 1991. 192 p. (In Russ.)
- Schelling F.W.J. The system of transcendental idealism. Leningrad: OGIZ-SOCEKGIZ, 1936. 480 p. (In Russ.)
- Rickert H. Natural sciences and cultural sciences. Moscow: Respublika, 1998. 413 p. (In Russ.)
- Lifshits M.A. Varia. Moscow: Gryundrisse, 2010. 172 p. (In Russ.)
- Salosin V.T. Dialectics of interpenetration of natural sciences. Volgograd: Mosty kul'tury – Gesharim, 1972. 256 p. (In Russ.)
- Rosenzweig F. Star of Deliverance. Moscow-Jerusalem: Mosty kul'tury – Gesharim, 2017. 544 p. (In Russ.)
- Croce B. Anthology of works on philosophy. Saint Petersburg: Pneuma, 1999. 480 p. (In Russ.)
- Losev A.F. Sign. Symbol. Myth. Works on linguistics. Moscow: Izdatel`stvo Moskovskogo universiteta, 1982. 480 p. (In Russ.)
- Wartofsky Marx W. Models. Representation and Scientific Understanding. Moscow: Progress, 1988. 507 p. (In Russ.)
- Lifshits M.A. What is classics? Ontognoseology. The meaning of the world. «The true Middle». Moscow: Iskusstvo – XXI vek, 2004. 512 p. (In Russ.)
Supplementary files