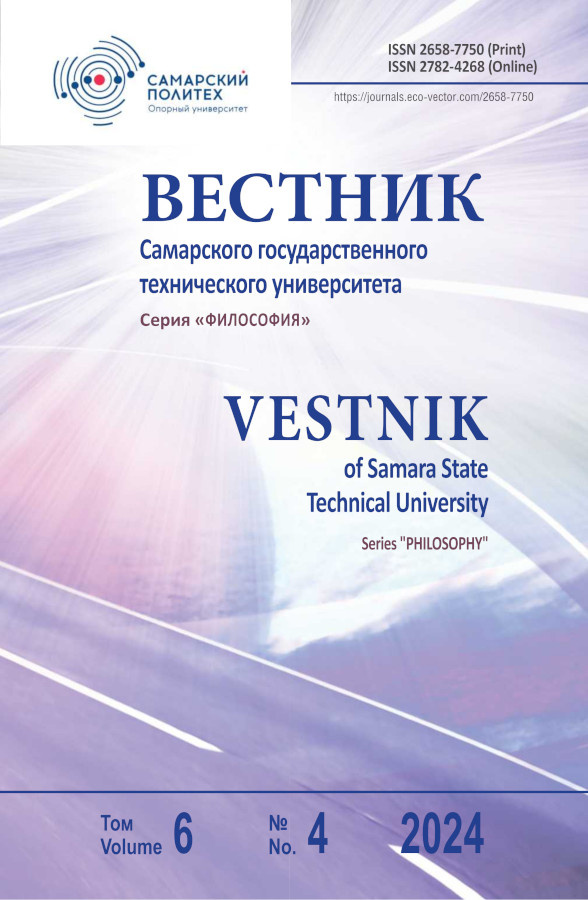Word and sign in Aristotle’s philosophy
- Authors: Kostetsky V.V.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after I.E. Repin at the Russian Academy of Arts
- Issue: Vol 6, No 4 (2024)
- Pages: 110-125
- Section: FOREIGN PHILOSOPHY: HISTORY AND MODERNITY
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692919
- ID: 692919
Cite item
Full Text
Abstract
The article attempts to identify Aristotle’s original ideas regarding language and signs. Analysis shows that Aristotle does not classify words as signs. We can say that Aristotle by “word” means the title of stories about a thing. It turns out that the word not only unites a multitude of stories under a common name, but also presupposes syllogisms from itself, from the “logos”. A word within which there are no other words (stories) is not a word. In relation to the sign, Aristotle’s position is also original: he excludes from the number of signs everything that can be excluded: images, words, signals, pointers, ciphers, signs. The concept of sign is defined by Aristotle either in relation to memory or in relation to inference. The connection between a word and a sign is that the word is marked with a “sign for memory” (name) and can be a “sign for inference” (as a term of syllogism). Aristotle takes the word beyond oral and written speech, but brings it closer to pictoriality and visuality.
Keywords
Full Text
«Слово – тень дела».
Демокрит
«…Язык… никогда и не удастся сущностно
осмыслить ни из его знаковости,
ни, пожалуй, даже из его семантики».
Мартин Хайдеггер
«…Природа и слово могут перекрещиваться
до бесконечности».
Мишель Фуко
В античной культуре ещё до рождения Аристотеля сложилось традиционное понимание того, что такое язык: система знаков, возникшая в живом общении людей для пометки вещей. В этом утверждении объединяются два разных тезиса: язык – система знаков и язык – результат общения. В таком виде традиция остаётся неизменной до сих пор, в том числе в профессиональных сообществах филологов, лингвистов, переводчиков. Аристотель, судя по его трактатам, не опровергает эту традицию. Интрига состоит в том, что на деле он её не придерживается. Более того, если бы придерживался, то такого мыслителя, как Аристотель, просто не существовало бы. У Аристотеля другое понимание языка; это видно уже по трактату «Категории». Понятно, что другое, но неизвестно какое. М. Хайдеггер, вникая в перипетии интриги, высказался так: «Путь к языку как языку длиннейший из всех, какие можно помыслить» [1, с. 259]. Надо признать достижения немецкого мыслителя в расчистке завалов на пути к пониманию языка Аристотелем. Чего стоит, например, фраза: «Дорога говорит; она жила и очеловечилась»! Филологи-переводчики начинают ухмыляться: как может дорога говорить, если у неё нет языка? Конечно, Хайдеггер, увлекшийся этимологией греческих терминов, даёт повод к иронии своей «артистичной герменевтикой», «герменевтическими пьесами» [2, с. 569]. Тем не менее Хайдеггер точен в выражениях: термин «говорит» надо увязывать с «вещанием»; вещи вещают о себе – такой подход намечен Аристотелем. Присмотримся к биографическим предпосылкам интереса Аристотеля к языку.
Аристотель, младший сын придворного врача Македонии, рано остался без родителей, на попечении старшей сестры, которая уже была замужем. Её муж часто бывал в Афинах и слушал беседы Платона. Дома часто велись разговоры о Платоне, так что Аристотель о философии наслышан был с детства. Имя Демокрита тоже часто упоминалось, поскольку Демокрит дружил с «отцом медицины» Гиппократом, а проживал в соседнем городе Абдера. Отец его был, по-видимому, тоже выдающимся врачом, он получил приглашение в столицу в качестве личного врача царской семьи.
Кем был Аристотель по национальности – вопрос остаётся открытым. А.Ф. Лосев настойчиво утверждал, что он был «чистейшим греком и по отцу, и по матери» [3, с. 20], правда, «промакедонски настроенным». Аристотель никогда не скрывал своих македонских симпатий и выполнял поручения македонских правителей. Его внешний облик и манера одеваться были не совсем греческими: другая прическа, перстни на пальцах, ткани ярких цветов. Дерзкий характер тоже не совсем соответствовал греческим нормам, да и всё воспитание несло на себе печать других традиций. Например, безразличие к спорту, неприятие однополых отношений, отсутствие коммерческих интересов.
Македония граничила на юге с Элладой, на востоке с Фракией, а исторически сама была частью Фракии. Балканский регион позднее прославился такими богами, как Дионис, Орфей, Арес, Артемида, символизирующими страсть и чувственность. Аристотелю были знакомы дионисийские ритуалы и такие культовые термины, как «энтузиазм» и «катарсис». А.Ф. Лосев аргументировал чистоту «эллинской породы» Аристотеля тем, что его предки были родом с островов Эгейского моря, как будто там не было фракийского населения. Но влияние Фракии распространялось вплоть до Малой Азии; фракийцы жили и на островах, и в Малой Азии, в районе Трои. Во многих поселениях фракийцы говорили по-гречески, как, например, в Абдере, родном городе Демокрита. Городок Стагира вблизи границы Македонии и Фракии Аристотель всю жизнь считал своей родиной; туда он с сестрой переехал после смерти родителей, в старости завещал родовую усадьбу своей семье. Поэтому когда Аристотеля называют Стагиритом, а он всю сознательную жизнь прожил вне этого ничем не примечательного города, аллюзия его фракийско-македонского родства всё-таки присутствует.
Об этом могут свидетельствовать и лингвистические факты. «Чистейшие греки» во времена Платона говорили исключительно на местных диалектах греческого языка; Платон как коренной афинянин говорил на аттическом диалекте. Аристотель, который двадцать лет общался с Платоном и проживал в Афинах, на аттическом диалекте не говорил и не писал. Языком текстов Аристотеля был тот усредненный «литературный» язык, на котором говорят образованные иностранцы. После завоеваний Александра Македонского этот усредненный язык оформился в «койне». Аристотель говорил и писал на диалекте, максимально близком к койне, то есть фактически на македонском диалекте греческого языка. Не отрицая того, что по своей культуре Аристотель был «чистейшим греком», обратим внимание на его ироничное отношение к «чистейшим грекам по отцу и по матери», включая Платона.
Приёмная семья Аристотеля относилась к нему доброжелательно и отличалась, как сказали бы сейчас, интеллигентностью. Достигшему совершеннолетия Аристотелю создали условия для проживания за рубежом, в Афинах. Платон в то время в городе отсутствовал, находясь в длительном путешествии в Сицилию, так что Аристотель пару лет был слушателем разных школ. К встрече с Платоном Аристотель готовился: в арсенале была риторика от Горгия (включая принципы скептицизма) и энциклопедические трактаты Демокрита. Демокрит прославился не только своими «атомами», но также интересом к языку и знакам. Аристотель, собственно, с этого и начинал собственный путь в философию, признавая авторитет и водительство именно Демокрита.
В чем Аристотель полностью определился к моменту своего общения с Платоном – так это в том, что все образованные греки склонны к софистике, не исключая Платона (об этом он мог судить по текстам платоновских диалогов). Софистика в Афинах после Сократа расцвела заново; она нравилась как своего рода искусство беседы «с подначкой». Подобный юмор македонцам был несвойственен и неприятен; случай с гордиевым узлом тому пример. Аристотель называл софистику «нудной», а остроумие ради остроумия вообще определял как «отшлифованное высокомерие». В то же время рассудительные диалоги Платона, которому Аристотель тоже какое-то время следовал, не вызывали у него восторга. Не исключено, кстати, что «смеющийся философ», как прозвали знаменитого Демокрита, над длинными диалогами Платона мог подсмеиваться. На момент популярности платоновских диалогов Демокрит был еще жив и активен – он пережил своего сверстника Сократа на четверть века.
«Ирония», которой прославился Сократ, основывалась на том, что слово и понятие далеко не одно и то же. За понятием стоит «определение», которое неподготовленные слушатели упускают из виду. Сократ изобрёл «определение» и выявил логические ошибки определения: слишком широкое, слишком узкое. Таким образом, в словах был зафиксирован «объём», а пересечение «объёмов» открывало путь к логике. Термин «логика» ввел Демокрит, судя по названию его трактата «О логике, или Канон». Можно сказать, что Сократ открыл грекам то направление, которое Аристотель с подачи Демокрита развил и превратил в логику («аналитику» по Аристотелю: в академии Платона не могли использоваться демокритовские термины). Демокрит и Сократ были современниками (если не ровесниками), оба выступали против софистов, оба были склонны к юмору, – Аристотелю оба мыслителя были близки по духу.
Что касается Платона, то Аристотель никогда не был его «последователем», тем не менее во многом с ним соглашаясь и многому у него учась. Например, в том, что никакая вещь не сводится к её телу. С чем Аристотель не соглашался – так это с платоновской идеей «двоемирия» («гиперуранией»), в чём, скорее всего, был неправ. В античные времена считалось, что боги жили в одном с людьми мире, пусть где-то очень высоко, глубоко, далеко. Мир един для богов, титанов, героев, людей и зверей. Платон со своим «образом пещеры» первым восстал против единства мира, прокладывая путь философскому трансцендентализму. Аристотель, подозревая Платона в софистике, прошёл мимо фундаментального открытия Платона, оцененного, собственно, уже в христианской философии не без влияния восточного мистицизма.
Демокрит под термином «логика» понимал, собственно, не логику, а последовательное повествование, в котором чередуются «имя» и «глагол» (его термины) – то есть когда о субъекте что-то утверждается [4, с. 57]. Интерес к словесности неожиданно обернулся атомистикой в физике и появлением «логики». Сама гипотеза атомистики возникла по аналогии с алфавитом: принципы строения телесности те же, что и письменности. Как бесконечный текст может состоять из букв, представленных в алфавите в небольшом количестве, так бесконечная Вселенная может состоять из конечного количества видов атомов. Интерес к разным видам письменности, включая клинопись и иероглифы, Демокрит приобрел в ходе своих многолетних восточных путешествий.
Возможно, не без влияния демокритовских трактатов Аристотель научился различать слово и знание, отличать мысль о вещи от самой вещи – в чём греки путались, иногда не без удовольствия. Впоследствии «Аристотель приучал своих учеников, – отмечает отечественный филолог-философ Т.В. Васильева, – не смешивать слова с вещами, а мысли со словами <…> Он работал над словом…» [2, с. 216]. Конечно, это так, только сначала Аристотель сам этому научился, причем очень рано. Самостоятельная философия Аристотеля начинается с обращения к словам, например: «бог» – это слово, «природа» – это слово, «Сократ» – это слово. В разных языках звучание-написание слова может быть разным, но важно другое: как только за словом следует «утверждение или отрицание», слово становится «знанием» вне национального языка. Имя с утверждением («глаголом») Аристотель называл «высказывающей речью», которая и стала предметом его анализа. «Утверждение» не лингвистично – вот что заметил Аристотель, будучи ещё молодым человеком. Например, с утверждением «бог есть», «бог есть сила», «кентавр есть» появляется мысль с её отношением к истинности или ложности.
Аристотель, в отличие от многих, осознаёт, что имя бессмысленно без глагола (глагольствования): в глаголе не действие главное, а сам факт того, что нечто утверждается или отрицается. Не имя важно само по себе (как знак), а утверждение и отрицание с помощью имени. Слова языка начинаются с «утверждения и отрицания», а не с обозначения вещей. Слово орудийно, в этом его сила – подобно «силе денег», «силе знаний». Не «слово» само по себе сила, а «утверждение и отрицание» создают эффект силы, в них заключена некая тайна слова. Можно провести современную аналогию: электроприборы – хорошая вещь, но без подключения к источнику электричества бесполезны. Комментарием по отношению к позиции «великого Аристотеля», по замечанию М. Фуко, могут служить его утверждения в трактате «Слова и вещи»: «Глагол является необходимым условием всякой речи, и там, где его не существует…нельзя говорить о наличии языка <….> Начало языка надо искать там, где возникает глагол <…> Глагол находится… там, где знаки начинают становиться языком» [5, с. 127]. Между тем мысль Аристотеля ещё глубже и конкретнее: дело не в глаголе как части речи, а в том, что с помощью глагола осуществляется «утверждение и отрицание».
Простой анализ «утверждения и отрицания» показывает, что они осуществляются двумя принципиально разными способами: либо указанием в отношении вещей, либо отношением к другим словам. В первом случае слово выступает как знак, во втором случае как знание. Например: это (человек) – называется «человек» (знак) и «человек – смертен» (знание). Знак и знание расходятся. Если бы Аристотель не был таким наблюдательным исследователем, он не был бы Аристотелем. Его философия начинается с наблюдения или, по его словам, «с удивления».
Является ли слово знаком? Для софистов является, для Аристотеля нет. Слово помечается знаком подобно тому, как сверх конверта с письмом пишется адрес – всё равно на каком языке. Слово по природе своей имеет отношение к почте, – позднее Ф. Соссюр назовет это главной особенностью языка. Но в отличие от знаменитого лингвиста Аристотель не считает слово знаком: слово – содержание посылки; упаковка с адресом – знак. Они «по природе» разные. Под знаком скрыто слово (как человек под любой случайной и произвольной одеждой), а словом нечто утверждается или отрицается о вещи (и это не случайно и не произвольно). У софистов, как позднее у лингвистов, было иначе: знаком обозначается вещь, а человек имеет знание об обозначении; слово было знанием знака вещи. Знанием знака. Как при формальном представлении имён при случайном знакомстве: Петров, будем знакомы, Сидоров. В ритуале знакомства никакое знание биографий Петрова и Сидорова не появляется и не предполагается; знак служит только меткой.
Позиция софистов сводилась к тому, что слово – это обычный знак типа сигнала или жеста, со своей условностью, произвольностью, случайностью и, соответственно, относительностью. Тогда получается, что язык человеческий не более чем одна из систем знаков, «сигнальная система». Аристотель по поводу такого рода рассуждений иронизирует в «Софистических опровержениях»: правдоподобное ещё не есть правда; серебристый цвет олова еще не превращает олово в серебро.
Аристотель, прибыв в Афины из «захолустных», как выразился А.Ф. Лосев, Стагир, столкнулся с тем, что слово у софистов и у поэтов-трагиков понимается по-разному. Питая с юности интерес к поэзии и стихосложению, Аристотель не мог не поражаться воздействию слова при постановке трагедии: ведь на сцене, собственно, ничего не происходило; все, внимая художественному слову, визионерствовали, причем настолько явно, что рыдали. В античном театре изначально не было ни декораций, ни костюмов, ни труппы актёров. Были хоровой речитатив, несколько выразительных масок под разные страсти и один-два чтеца. Точно так же, на основе визионерства развивались мифы, эпос, сказки. Слушали рассказы, а видели картины и сопереживали героям. Не исключено, что в детском «захолустье» у Аристотеля была своя Арина Родионовна; с таким багажом он приехал в Афины в свои семнадцать лет.
Комментаторы Аристотеля часто с похвалой отзываются о том, что Аристотель по поводу любого слова предоставляет исторический экскурс: кто и как использовал слово в разговорах. Между тем Аристотель занимается этим не из любви к «разным мнениям», к «диалогу», к «истории», а из необходимости выяснить, что утверждается или отрицается тем или иным словом. Система утверждений-отрицаний выявляет само слово; в таком случае слово выступает не знаком вещи, а рассказом о ней, сказом, «сказанным».
Главный философский интерес для Аристотеля представляет язык человеческий с точки зрения зафиксированных в нем знаний. Без преувеличения можно сказать, что первым настоящим филологом в буквальном смысле слова был Аристотель, хотя филология возникла только в эпоху Возрождения в контексте «studia humana». Аристотель писал стихи, диалоги, речи, создал «риторику» как самостоятельную науку, создал особый стиль монолога, который сейчас называется «научным»: с определениями, утверждениями-отрицаниями, выводами, причём без метафор и лирических отступлений. Аристотель ценил греческий язык за содержательность, за богатство вложенных в него знаний. Собственно, экспликации этих знаний он посвятил свое философское творчество.
В истории философии за Стагиритом закрепилось клеймо «эмпирик», однако для него опыт человечества представлен прежде всего не в наблюдениях и экспериментах, а в словах, в словарном запасе языка, в утверждениях и отрицаниях. То, что позднее стали называть «опытом», призвано дополнять язык, а не противопоставляться ему; как отмечает Парацельс, «опыт – лучший учитель». Для Аристотеля язык – лучший учитель. Личный опыт по масштабу знаний несопоставим с общечеловеческим опытом, закрепленном в языке. Эмпирия языка влекла к себе Аристотеля больше любого «опыта», которому он, тем не менее, уделял значительное внимание, особенно на фоне Платона и других своих современников.
«Все люди по природе стремятся к знаниям» – знаменитый тезис Аристотеля. Но к каким знаниям? Знания бывают лишними, бывают вредными, бывают развращающими. Тезис Гераклита «многознание уму не научает» с упрёком в адрес Пифагора всем был известен. Для Аристотеля важно прежде всего умение получать знания посредством языка: слышать язык, вникать в смыслы слов. Без этого умения новые знания будут в итоге оборачиваться «многознанием», а в умелых руках софизмами. Термины науки тоже еще надо «услышать», не только ввести их или заучить.
Что значит услышать слово, услышать утверждение, услышать термин? Для Аристотеля ответ на этот вопрос однозначен: воспроизвести рассказы, озаглавленные этим словом. Г. Лейбниц называл слово «характером», «формулой», подчеркивая, что пора понимать Аристотеля. Математические формулы в понимании Лейбница представляют собой рассказы в сокращенной записи. Все знаки письма – вербального, иероглифического, нотного, математического, химического, художественного – сокращения [6, с. 501]. Образованный человек сокращения разворачивает – «читает», необразованный воспринимает как имя. Аристотель, по сообщению Диогена Лаэртского, на вопрос «Чем отличается образованный человек от необразованного?» ответил лаконично: «Как живой от мёртвого». Можно сказать, что Аристотель – судя по текстам – принципиальный противник такой системы образования, в которой слова не разворачиваются в «знания», в «рассказы» (в «смыслы», как стали говорить позднее).
Смысл слова-имени совпадает с описаниями вещи (по внешнему виду и по сути). Соответственно кто понимает слово (то есть разворачивает слово в рассказ) – тот понимает вещь; в то же время для понимания слова надо изучать вещь. К вещи – через слово, к слову – через вещи. Это и есть путь «метафизики» Аристотеля. Что это даёт? Во-первых, другое понимание слова: слово – это многократный переход от вещи к имени и от имени к вещи посредством большой совокупности рассказов; слово – это процесс, процесс визуализации посредством рассказов. Во-вторых, в моменты перехода рождается то, что называют «мыслью», «знанием», «логосом»: это не вещь и не имя. Люди, у которых многократность переходов по типу «-вещь-имя-вещь-имя-» отсутствует, к собственно мышлению и даже к созерцанию неспособны; язык сводится к дрессуре. Как писал М. Фуко, «природа и слово могут перекрещиваться до бесконечности, как бы образуя для умеющего читать великий и единый текст» [5, с. 71]. М. Фуко не повторяет Аристотеля, просто его рассуждения начинают двигаться тем же путём в понимании «слова и вещи».
К вещам можно быть равнодушным, можно привыкать как к родным. Аристотель любил вещи; любил, можно сказать, как воплощенное слово, «онтос». А.Ф. Лосев недаром называл мироощущение Аристотеля «общехудожественным» [3, с. 6]. Уместно вспомнить о том, что «идеалист» Г. Гегель питал страсть к истории вещей, к музеям, умел созерцательно любоваться вещами и мастерством, в них вложенным. В средневековый термин «спекулятивность» Гегель вкладывал смысл, близкий аристотелевскому: видеть в вещи слово (в развороте его рассказов), а в слове видеть вещь в развороте её истории. Древнегреческое слово «история», собственно, и означало «рассказ», «повествование».
При анализе того метода, посредством которого Аристотель создавал свою философию, возникает проблематика «философии языка». Только то, что понимается под «языком», теряет этнический характер; в языке появляются внелингвистические ипостаси. «Человек – политическое живое существо» по определению Аристотеля, но язык «не человечен», тем самым не «общественен». Язык, как сказали бы в терминах Х. Вольфа, «онтологичен», на чем будет настаивать М. Хайдеггер с оглядкой на Аристотеля [7].
Для Аристотеля язык понятийно связан не с речью (устной и письменной), а со «знанием». Знание – это не слово и не вещь (об этом «Вторая аналитика»). Этимология «знания» в древнегреческом языке допускает для «знания» разные варианты. Синонимов «знания» много. «Гносис» – знание из авторитетного источника; «докса» – знание не из авторитетного источника, мнение. «Эпистемэ» – знание, проверяемое личным опытом; «догма» – знание, которое не стоит проверять на личном опыте хотя бы в целях безопасности. «Матема» – нание, в правоте которого можно убедиться путём личных рассуждений. Был ещё один синоним знания, стоящий особняком, – «логос». «Логос» – это знание как бы ничейное или, напротив, всеобщее: для богов, людей, животных, растений. Знание «логос» есть даже у насекомых. Аристотель «высказывающую речь» связывает именно с «логосом»: утверждение и отрицание неэтничны; они выводят язык за пределы знаковости в сферу орудийности, в сферу поступка.
Внезнаковость и орудийность языка в философии Аристотеля намечаются путем анализа «высказывающей речи». Не язык сам по себе интересует Аристотеля, а философия посредством языка. Напротив, лингвистов интересует именно язык, причем желательно без философии. А язык вне философии выглядит как система знаков, предназначенная для общения людей между собой (не с богами, не с животными, не с растениями). Возникает закономерный вопрос: замечают ли сами лингвисты внезнаковость и орудийность языка? Конечно, иногда замечают. Например, В. Гумбольдт писал: «Рассматривать язык не как средство общения, а как цель в самом себе, как орудие мыслей и чувств народа есть основа подлинного языкового исследования, от которого любое другое изучение языка, как бы основательно оно ни было, в сущности своей только уводит» [8, с. 377]. В другой своей статье В. Гумбольдт замечает: «Язык коренится в человеке, но всё же не мог быть им выдуман» [8, с. 365]. Соответственно «…сравнение (языков – В.К.) привносит своеобразный смысл, отличающий язык от простых условных знаков, хотя в обиходе и проявляется склонность к такому отождествлению… Но, что еще важнее, такое изучение приучает дух видеть в словах нечто большее, нежели случайные звуки и условные знаки» [8, с. 365–366].
Другой выдающийся лингвист, Ф. де Соссюр, настаивая в отличие от В. Гумбольдта на «знаковом характере языка», пишет: «Язык – это человеческое установление, но природа его такова, что все другие человеческие установления, за исключением письменности, могут только обмануть нас относительно истинной сущности языка, если мы будем полагаться на его сходства с ними <….> язык есть установление, не имеющее себе подобных» [9, с. 94]. Получается, что язык есть такая система знаков, которая непохожа на все другие системы знаков. Правдоподобно. Логика этого определения по отношению к человеку будет выглядеть так: человек есть такая обезьяна, которая непохожа на всех других обезьян. Ну, потому и непохожа, что человек всё-таки не обезьяна. Соответственно и язык не система знаков, а нечто схожее с ней.
В рассуждениях о языке Соссюр не случайно слово «письменность» выделяет курсивом. Письменный характер языковых знаков обусловлен двумя разными обстоятельствами. Во-первых, знаки письма условны и произвольны, с чем спорить бесполезно. Во-вторых, и это главное: «…мы по-настоящему поймём сущность знака (языкового – В.К.) только тогда, когда убедимся, что его не только можно передавать, но что он по самой своей природе предназначен для передачи» [9, с. 103]. Это уточнение имеет принципиальное значение: не все знаки предназначены «для передачи». Если говорить еще точнее, то никакие знаки, кроме языковых, не предназначены «для передачи» в общем случае. Например, врагу можно послать «чёрную метку» в виде надломленной стрелы (частный случай), но никаким способом, кроме словесного, не послать союзникам рецепт (общее знание) изготовления пороха или мыла. Язык по своей сути существует для передачи рецептов сложных технологий, а всё остальное в языке – условная «письменность» и «формы общения». Что касается «рецептурного знания», то реальные рецепты передавались жрецам в трансовых состояниях сознания; в мифологии этот факт отражен в мифах о богах – «культурных героях».
В отличие от лингвистов, которые сначала априори включают язык в систему каких-то «знаков», а потом недоумевают, отчего языку становится в ней тесно, Аристотель никогда не включает язык в систему знаков. Как вещь не сводится к её телу (Платон), так язык не сводится к знакам.
Как показывают тексты Аристотеля, у него специфическое отношение к знакам. Он стремится из сферы «знаков» исключить всё, что только возможно, то есть занимает позицию, противоположную той, что в XIX веке представил Ч. Пирс [10]. Американский логик-математик Ч. Пирс включал в импровизированное хранилище знаков всё, что похоже на них: иконы, индексы, диаграммы, схемы, приметы, символы, сигналы, шифры, символы скорописи. Аналогичным образом голландский культуролог Й. Хейзинга стаскивал в «музей игры» всё подряд: спорт, биржу, граммофон, театр, погоду, щенячьи резвости, праздники шутов, политику, дурачества любого рода. С критикой этой позиции мне уже приходилось выступать [11]. Позиция Аристотеля в отношении знаков чрезвычайно разборчивая и лаконичная; знаки делятся на две группы: для памяти и для умозаключений. И всё.
Знаки для памяти – это разного рода метки: графика, звукосочетания, запахи, «вещи на заметку», «подарки на память».
Знаки для умозаключения – это слова, в которых можно увидеть «средний термин» как возможный силлогизм. «Так вот, если признать это, – поясняет Аристотель в последней главе «Первой аналитики», – а также то, что такое-то свойство имеет такой-то знак, и если можем принять, что каждому роду <живых существ> присуще особое свойство и <соответствующий> знак, то мы в состоянии распознать природу <этих существ>…» [12, с. 253]. Распознать – имеется в виду путём умозаключения.
Примером типичного «знака для умозаключения» может служить чтение следов, допустим, охотником. Следы охотником не разглядываются, а читаются. Например, есть следы на земле – считаем их знаком чего-то. Чего именно? Пусть следы в точности соответствуют оленьим копытам. Из предыдущего опыта известно: какие следы – такие животные. Силлогизм очевиден: какие следы – такие животные; следы оленьи; животные – олени. «Следы» в качестве знака сыграли свою роль среднего термина; повторялись в посылках, отсутствуют в умозаключении. Поэтому Аристотель выскажется очень категорично: «Сообразительность есть способность мгновенно найти средний термин» [12, с. 314], и неважно где: в рассказах, в доказательствах, в наблюдениях. Знаки нужны сообразительным.
В аристотелевскую концепцию знаков «Первой аналитики» Аристотель вводит символическое обозначение терминов силлогизма: «…если А сказывается обо всех Б, а Б – обо всех В, то А необходимо сказывается обо всех В» [12, с. 123]. Вот что пишет по поводу «А, Б, В» знаменитый специалист по логике Я. Лукасевич: «Введение в логику переменных является одним из величайших открытий Аристотеля. Трудно поверить, что до сих пор, насколько мне известно, ни один философ или филолог не обратил внимания на этот исключительной важности факт» [13, с. 42]. Далее он добавляет: «По-видимому, Аристотель считал своё открытие чем-то само собой разумеющимся и не требующим объяснения, ибо в его логических работах нигде нет упоминания о переменных». Однако предположение Я. Лукасевича является совершенно излишним; Аристотель не упоминает о своем «открытии» именно потому, что он его не делал. Не делал потому, что не вводил понятие «переменной», – так стали трактовать термины после него математики.
Неверная трактовка терминов в качестве «переменных» завела в тупик всю «теорию знаков». Даже Г. Лейбниц с колоссальным опытом математической символики в своих опытах «универсального исчисления» прошел мимо того, как – по Аристотелю – не надо понимать «знаки». «К числу же знаков я отношу, – писал Лейбниц, – слова, буквы, химические формулы…» [6, с. 501]. А не надо к знакам относить слова и тем более химические формулы. Если апеллировать к математике, то можно сказать, что у Аристотеля слово разделяется на знак и подстановку (суппозицию); точно так химические, физические, математические формулы подразделяются на графику (знак) и подстановку. Знак – это метка; подстановка вообще не знак. Примеры подстановок: корни уравнения, кадровые вакансии, кастинг на роли, деньги, меры измерения, заменители материалов. Подстановка вариативна, но не произвольна: например, на должность можно принимать разных людей, но не кого попало (надо специалиста). Напротив, знак по отношению к подстановке произволен: человек на должности должен быть специалистом, а как его будут именовать – не имеет значения. Очевидно, что надо различать должность (вещь), кадры (подстановку), знак (имя кандидата). Например, на должность «птицы» одни «живые существа» могут претендовать, другие не могут. Те, которые могут занять должность «птицы», получают имя: ворона, пингвин, журавль. Благодаря понятию «подстановка» должность трактуется не только как нечто общее, но как реальное общее: общее существует, должность реальна (реальнее претендентов на неё). Получается, например, что человек – это не «идея человека», а должность. Соответственно не все эту должность могут занимать (под вопросом рабы, преступники, умалишенные). И воспитание детей есть подготовка к занятию должности «человек». К сожалению, в аристотелевских трактатах понятие «подстановка» текстологически не присутствует, но это не повод слово относить к числу знаков, а знаки типа «А, Б, В» объявлять переменными.
Математики подстановку и её знак объединяют в единое целое под названием «переменная величина». В результате у математиков возникает иллюзия: оперируют условными (абстрактными) символами, а решаются реальные и конкретные задачи в силу, дескать, особенностей математики, «теории». На самом деле вся тайна языка математики заключается в «подстановках» – они могут быть «многоходовыми», по типу подстановка-в-подстановке под одним значком. Г. Лейбниц, интуитивно предчувствуя, пишет: «А это даёт мне надежду выйти из затруднения. Ибо если бы даже знаки и были произвольными, всё же их употребление и их связывание заключает в себе нечто такое, что не является произвольным, а именно некую пропорцию между знаками и вещами, а также взаимные отношения различных знаков, выражающих те же вещи» [6, с. 406–407]. Никакой определенности мысли в этой фразе, кроме верных интуиций, нет. Напротив, Аристотель мыслит в отношении знаков определенно: знак и подстановка – совсем не одно и то же; подстановка имеет отношение к слову и не имеет отношения к знаку. Равно как наоборот: слово имеет отношение к подстановке и не сводится к знаку. В математике все формулы – те же «слова»; графика объединяет длинные словесные повествования в сжатые изложения.
Может показаться на первый взгляд странным, но Аристотель вводит буквенные обозначения терминов силлогизма исключительно для наглядности. Наглядности схемы. При этом схема понимается так же, как категория сущности, например, как некая должность («первая сущность») и как соответствующая графика («вторая сущность»). Буквенные обозначения «А, Б, В» – это не «переменные» и даже не «подстановки», а знаки схемы, введенные ради наглядности и пояснения, то есть те же «знаки для памяти».
Язык со стороны его звуковой и письменной вещественности подобен атомам и пустоте в учении Демокрита: звуки, буквы, слова, предложения – дело грамматиков разбирать речь по камушкам («ана литос»). Философский же интерес к языку обусловлен тем, что в нём есть общее знание, именно общее. Аристотеля общее знание, безусловно, интересует – и не его одного. Прямое указание на это имеется в диалоге Платона «Филеб»: «…Мы утверждаем, что тождество единства и множества, обусловленное речью, есть всюду, во всяком высказывании… это есть вечное и нестареющее свойство нашей речи. Юноша, впервые вкусивший его, наслаждается им как если бы нашёл некое сокровище мудрости; от наслаждения он приходит в восторг и радуется тому, что можно изменять речь на все лады, то закручивая и расчленяя на части <…> Тут прежде всего и больше всего недоумевает он сам, а затем повергает в недоумение и своего противника, всё равно попадётся ли ему под руку более юный летами, или постарше, или ровесник; он ни щадит ни отца, ни матери и вообще никого из слушателей» [14, с. 15]. Под описание некоего «юноши» как нельзя более подходит Аристотель, которому на момент написания диалога «Филеб» было порядка двадцати пяти лет. Можно даже назвать трактат Аристотеля, который вызвал бурную реакцию Платона: это «Категории».
Нельзя сказать, что Платон не понял молодого Аристотеля; но понял скорее превратно – так, как понимали и в последующие столетия. Платон решил, что Аристотель будет интересоваться словами ради их общего значения. Это подход был освоен ещё Сократом и развит методом «диэресиса» (деления понятий) в «Диалогах» – отсюда пренебрежительная ирония автора «Филеба» к самонадеянному «юноше». Но Аристотель уже прошёл этот этап «определений» и «деления понятий», причем прошёл очень быстро: так быстро, что Платон не успел заметить. Аристотеля заинтересовало не общее в словах ради совмещения единства и множества (хотя такой интерес тоже был), а «высказывающая речь», то есть «сказанное» в плане «утверждения и отрицания» – «вещание», говоря по-русски. В основе «вещания» не слова сами по себе, а «утверждение и отрицание», причем материальная сторона вещания произвольна. Вещать можно вещами, звуками, линями, запахами; человечество освоило «звуки речи», причем разные у разных народов. Главное в любом языке, чтобы «одно сказывалось о другом», притом непременно в качестве «утверждения и отрицания». Имя для сборника «утверждений-отрицаний» есть «слово»; слово не знак, а рассказ.
Можно сказать, специфика аристотелевской философии в том, что выделяется особая реальность, непонимание которой легко вводит в заблуждение при восприятии аристотелевских текстов. Ради пояснения приведу такой пример. Допустим, есть такая реальность – «выставка» (картин, скульптур, машин). Понятно, что на выставке должно быть то, что выставляется. Понятно также, что на выставку должны прийти зрители. Но в таком случае, есть три разных реальности: экспонаты, зрители и собственно выставка. Экспонаты – это вещи сами по себе, склад. Зрители – это люди сами по себе, общество. А что такое выставка? Ведь её могло и не быть. При этом реальность выставки в том, что она объединяет экспонаты и зрителей; выставка реальна и при определенных условиях состоятельна. У завсегдатаев выставок может сформироваться даже «чувство выставки»: видеть выставку в природе, в костюме, в кулинарии, в музыке, в оборотах речи, в знаках письменности. У выставки есть свои законы: экспозиции, демонстрации, манифестации, представительства, внушения, повествования.
Специфика профессионального философского мировосприятия Аристотеля в том и состоит, что мир воспринимается им не как склад, а как выставка, как всеобщая демонстрация всех всему. Выставка удивляет – «философия начинается с удивления». Действительно, если человек пришёл на выставку, но ничему не удивляется, то закономерен вопрос: зачем пришел? Не случайно Аристотель «созерцательный образ жизни» («биос теоретикос») считает более достойным человека, чем «жизнь практическую», – на выставке надо именно «созерцать» и «удивляться».
Словесный язык не случайно является зрелищным, изобразительным. Изобразительность не попутное следствие некоей «образности», а основа языка, априорная. Слово передаёт «картинки с выставки». Передаёт не знаками; изображение передаётся только изображениями. Возникает вопрос о технике изображений в вербальном языке. Смысл такой техники в том, что одно изображение входит в другое, то в третье, в четвертое-пятое. Смысл всех знаков письма сводится к сакраментальному призыву экскурсоводов: «посмотрите налево», «посмотрите направо». Падежи, склонения, корни, суффиксы – всё это лишь дорожные знаки для «умственного взора» при переходе от изображения к изображению. Когда человек получает письмо, то фактически он вверяет себя в некую руку, которая «тычет его носом» в разные изображения подобно тому, как котёнка приучают не гадить. Язык властен, властен всей машиной своей грамматики ради картины «миропонимания».
Аристотель в начале своего пребывания в Афинах застал интерес разных философов к языку: риторы, софисты, Платон. Так что пройти мимо философии языка он просто не мог. Другое дело, как воспринимать язык. Все воспринимали язык традиционно как систему знаков. Аристотель пошёл другим путём. А именно: слово не вещь обозначает, а серию рассказов о вещи. Имя относится к рассказам о вещи в качестве заглавия сборника этих самых рассказов. Рассказы о вещи – это не вещи и не слова, а знание, логос. К знанию можно прийти через рассказы-слова или через вещи – это всё равно. Знание по способу существования аналогично выставке. Знание есть вещь-напоказ, демонстрация. И ничем другим, кроме демонстрации, знание быть не может, а демонстрация быть реальностью может, – и факт выставки тому подтверждение.
Понимание «слова» у Аристотеля настолько оригинально, что застаёт врасплох. Слово появляется на белый свет не в готовом виде, всё начинается с рассказов о некоей вещи, рассказы со временем группируются в тематический сборник, сборнику даётся название, и это название становится именем вещи, в итоге под именем представляется вещь. Рассказы о вещи появляются не после знакомства с вещью, а до него. Поэтому вещь и имя выступают в равной мере знаками рассказов о вещи, знаками знания. Слово понимается Аристотелем не как метка вещи, а как театрализованное судилище над вещью с многочисленными речами, завершаемое позитивным вердиктом – присуждением имени. Отсюда и слово «категория» – буквально обвинение, осуждение. Набор категорий в трактате «Категории» можно сравнить со стандартным набором вопросов следователя: где, с кем, когда, в чем, – и ответами в виде рассказов, «историй». Слово разворачивается категориями «в рассказы», «в историю» и, напротив, сворачивается именем, названием историй.
В трактате «Поэтика» Аристотель именно так понимает «трагедию». Трагедия – это слово, «вторая сущность»; точно так же трагедия – реальный спектакль на реальной сцене – «первая сущность». Когда Аристотель создаёт теорию трагедии, то это не о конкретном спектакле и не о слове «трагедия»: он собирает истории о разных спектаклях разных авторов и потом разъясняет (объявляет результаты), что такое «трагедия». Получается, что трагедия в теоретическом исчислении – уже не сам спектакль и не слово из словаря, а «знание». Реальные спектакли должны считаться с этим знанием, заключенном в слове «трагедия», потому что это не просто слово. В трагедии-знании Аристотель выделяет свои «категории»: рассказ, характеры, склад событий, смысл, зрелищность, музыкальность. «Самая важная из этих частей – замечает он, – склад событий» [15, с. 652]; музыкальность и зрелищность относятся к оформлению спектакля. Любое знание, а порой и теория, есть не что иное, как правильно понятое слово.
Интересно, что в трактате «Категории», где ведется разговор «о словах», ничего не говорится об «определении понятия», то есть о том, в чем упражнялись Сократ и Платон. Формальное определение значения слова через род и видовое отличие Аристотеля уже не интересует; с этим всё ясно. Слово в «Категориях», даже «взятое без связи», есть нечто много большее, чем понятие в его формальной определенности. Слово равносильно книге, спектаклю, судилищу, выставке. Слово не знак, а демонстрация. Категории рассказами демонстрируют вещь. По-видимому, Платон отказывался принять эту точку зрения, отождествляя слово с понятием и упражняясь в диалогах в начальном курсе логики.
Чтобы лучше понять аристотелевское отношение к слову, стоит обратиться к истории языка и письменности. Отождествление языка с системой знаков обусловлено возникновением алфавитного письма. Алфавитное письмо, как и слоговое, связано со звуковой оболочкой слова; фонемы, буквы – это условные знаки, метки. Аристотель не связывает язык как таковой с акустикой и фонетикой, которые к слову прямого отношения вообще не имеют. То, что это возможно, и более того – это именно так, доказывается существованием иероглифической письменности. Например, китайцы, корейцы, вьетнамцы говорят на разных языках, но пишут, используя один набор иероглифов, читают их каждый на своём языке. Чтение иероглифов совмещает два совершенно разных процесса: собственно чтение и синхронный перевод на слух. Точно так можно читать иностранный текст, вслух проговаривая его на родном языке.
Фонетика, как ее понимают лингвисты, накладывается на уже существующий язык письма, который является «рисованным», «картинным» не по технике царапания, а по принципу изобразительности, по принципу визуализации. Изобразительность и средства изобразительности существуют независимо от «голосового аппарата речи» и далеко за пределами речи.
То, что лингвисты называют «языком», является средством перевода письменности (изображения) в фонетику, в звук (акустика). Судя по истории иероглифической письменности, сначала звук подстраивался под иероглифы, а затем письмо иероглифами стали подстраивать под требования записи речи. Важен сам факт того, что слово – не продукт речевого общения, а продукт озвучивания некоего изначально иероглифического письма, построенного на изобразительности (картинности, визуальности), поэтому слово в значительной степени нелингвистично: оно больше, чем язык. Собственно, эта идея проходит красной нитью через весь трактат М. Фуко «Слова и вещи». Выделяя в языке разные «слои», Фуко писал: «…отныне первоприрода языка – письменность. Звуки голоса создают лишь его промежуточный и ненадёжный перевод... писаное всегда предшествовало устному» [5, с. 74–75]. Конечно, у Аристотеля нет таких формулировок, но он четко придерживается той мысли, что слова «переплетаются», по выражению М. Фуко, с вещами, а не с акустикой голосов людей из разных этносов.
Надо заметить, что в философии нередки случаи, когда автор начинает говорить на родном языке, но так, что его еще надо переводить. Звуковая форма родного языка перестает соответствовать тому, что говорится. Гераклита прозвали «тёмным» за многие из его тезисов. «Смертью друг друга мы живём, жизнью друг друга мы умираем» – вроде понятно, а вроде и не совсем. Язык текстов Гегеля Фейербах называл «пьяными спекуляциями», а Шопенгауэр «шарлатанством». Предупреждение Гегеля о том, что образованные люди должны мыслить «спекулятивно», осталось без понимания. Сравнительно недавно Мартин Хайдеггер озадачил читателей своей «артистичной герменевтикой» в области философской терминологии. Но дело в том, что люди, хотя и мыслят словами, мышление осуществляют отчасти в иероглифической форме. Это незаметно до тех пор, пока мысль не выходит за пределы известной терминологии. Философия требует иного.
В отношении аристотелевского философского языка есть замечательно глубокое наблюдение Т.В. Васильевой о том, что при переводе «Метафизики» переводчики испытывают «трудности, в известном смысле аналогичные тем, которые испытывают переводчики стихов» [2, с. 194]. Это, конечно, неслучайно. Слово надо не только слышать – чтобы понимать, но и видеть – чтобы размышлять. Как шутил сам Аристотель, «Историю» Геродота можно изложить стихами, она всё равно останется историей. В истории есть свои «видения», независимые от видов словесности, точно так же, как в поэзии есть свои видения, езависимые от буквального содержания.
About the authors
Victor V. Kostetsky
St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after I.E. Repin at the Russian Academy of Arts
Author for correspondence.
Email: kostavictor@yandex.ru
SPIN-code: 5878-8598
Doctor of Philosophy, Professor
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Heidegger M. Time and being. Articles and speeches. Moscow: Republic, 1993. 447 p.
- Vasilieva TV. Poetics of ancient philosophy. Moscow: Trixia, 2008. 735 p.
- Losev A, Tahoe-Godi A. Aristotle. In search of meaning. Moscow: Young Guard, 2014. 296 p.
- Makovelsky AO. History of logic. Moscow: Science, 1967. 502 p.
- Foucault M. Words and things. Archaeology of the Humanities. St. Petersburg: A-cad,1994. 407 p.
- Leibniz G. Works: in 4 vol. Vol. 3. Moscow: Mysl, 1984.
- Kostetsky VV. On the “path to language” (M. Heidegger): anti-linguistics. Modern science. Actual problems of theory and practice. Series “Cognition”. 2020;7:108-116.
- Humboldt W. Language and philosophy of culture. Moscow: Progress, 1985. 448 p.
- Saussure F. Notes on general linguistics. Moscow: Progress, 1990. 280 p.
- Kostetsky VV. Sign and non-sign: criticism of abstract semiotics. Scientific works of the St. Petersburg Academy of Arts. No. 67: Questions of cultural theory. St. Petersburg, 2023. Pp. 16–38.
- Kostetsky VV. Anti-Hazing: a different philosophy of the game. Questions of Philosophy. 2020; 2:196-204.
- Aristotle. Works: in 4 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl, 1978.
- Lukasevich Ya. Aristotle’s syllogistic from the standpoint of modern formal logic. Moscow: Foreign literature, 1959. 311 p.
- Plato. Collected works: in 4 vol. Vol. 3. Moscow: Mysl, 1994.
- Aristotle. Works: in 4 vol. Vol. 4. Moscow: Mysl, 1984.
Supplementary files