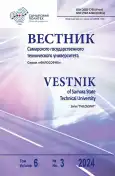To the question of adaptation of behavioral programs on the way to the technological way of the future
- Authors: Zvezdin L.A.1
-
Affiliations:
- ZASLON JSC
- Issue: Vol 6, No 3 (2024)
- Pages: 80-85
- Section: ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692991
- ID: 692991
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents the author's view on some aspects of the humanitarian dimension of the current and subsequent stages of scientific and technological progress. At the same time, attention is focused on the importance of studying the activity of the brain and the human psyche in the conditions of the latest post-information trend in the development of technologies, which undoubtedly is reflected in our mental characteristics and the emerging new configurations of behavior programs.
Full Text
Если порассуждать, то не будет сильным преувеличением отметить, что современные исследования, затрагивающие проблему влияния достижений научно-технического прогресса на человека и общество, часто сосредоточены на изучении феномена самого прогресса, его проявлений на разных стадиях цивилизации, в том числе прогнозировании и даже фантазировании дальнейшего развития технологий. В свете этого показаны реакции людей на внедряемые технологические достижения. В данной когнитивной структуре «прогресс» приобретает роль самостоятельного источника воздействия, а «человек» становится как бы принимающей от него сигналы воздействия стороной. И в этом случае «человек» как зависимая «слабая» сторона предстает в статусе объекта, подвергаемого опасностям в результате действия непредсказуемого «прогресса» как самодостаточной «сильной» стороны. Красноречивее всего это описывается в произведениях научной фантастики, сюжет которых базируется на порабощении машиной (искусственным интеллектом) человеческой свободы и воли.
Но разве не следовало бы несколько сместить акценты, исследуя и прогнозируя с гораздо большими усилиями как раз поведение человека в свете развития технологий, с целью распознать генезис и динамику возможных моделей его поведения хотя бы в относительно недалеком будущем? Недалеком потому, что прогресс, по определенным оценкам, все более интенсифицируется и масштабируется в различных сферах деятельности. К тому же определенно технический прогресс есть производная от деятельности человека, соответственно заключает в себе и гуманитарное измерение. Безусловно, «человек» и «прогресс» – взаимовлияющие, взаимозависимые предметы изучения одного явления «развитие». Поэтому современные исследования в области нейрофизиологии, генетики, психологии и в других направлениях приобретают качественно новый уровень и повышенную ценность при естественной интеграции с социально-гуманитарными науками.
Бытие человека раскрывается в описании множества категорий, которые давно принято структурировать, – от самых физиологичных до высших, духовно-интеллектуальных. При этом все они, пребывая во взаимосвязанном единстве, определяют ту или иную конфигурацию психического состояния для конкретного субъекта в различных жизненных ситуациях. Так, множественные биологические факторы, определяющие функционирование человеческого организма (обмен веществ, гормональный фон, генетическая предрасположенность, условия внутриутробного развития плода и первые месяцы жизни ребенка, а также другие), в наибольшей степени обуславливают многие привычки и особенности поведения, фактически характер индивида. Возможно, это покажется категоричным на первый взгляд, но это так.
С точки зрения нейрофизиологии, поведение человека обуславливается совокупностью поведенческих программ, актуализирующихся в зависимости от складывающихся в среде обитания обстоятельств, включая в той или иной мере прогнозируемые события (что тоже является «встроенной» особенностью человеческого мозга). Программа представляет собой комплекс рефлексов разного уровня, задействовавший определенный набор нейронных сетей в определенных отделах мозга, направленных на выполнение какой-либо важной задачи в среде обитания – витальной, зоосоциальной или потребности самореализации. Среди таких программ выделяют самосохранение, размножение (включая материнские программы), поиск информации, свободу, стремление к лидерству, подражание (и на двигательном, и на эмоциональном уровнях), экономию сил (так называемые алгоритмы лени) и другие. Конфигурация множества подобных программ, всегда функционирующими из которых являются витальные, жизненно важные, определяет структуру личности в каждый момент. Компоновка же программ под воздействием внешних стимулов и раздражителей в течение длительного времени способна определять основные свойства личности во временной перспективе. Кроме заложенных в человеке индивидуальных предпосылок есть и такие «встроенные» качества, которые проявляются в социальной среде. Некоторые из них вообще катализируются, преимущественно общественным воздействием. Например, стремление к лидерству или подражание.
В этом случае следует рассматривать влияние прогресса на человечество, обязательно принимая во внимание отмеченные особенности. Причем, как вполне понятно, изменения в структуре поведенческих программ каждого человека обуславливают изменения общественной экосистемы, которая, в свою очередь, оказывает воздействие на всякую личность. В настоящий момент можно только гадать, какие фазы, ускорения и нелинейности могут иметь отмеченные процессы с обратной связью, тогда как сила и скорость прогресса по многим оценкам только интенсифицируются, в том числе судя по влиянию на психику человека. Особенно это находит выражение в условиях информационного потока, который для ментальной сферы людей представляет собой фактор среды не только новейшей, ранее никогда не существовавшей, но еще и обладающей необычайной интенсивностью и глубиной. По большому счету никто не скажет точно, как это отразится на будущих поколениях, их моделях поведения, а в более отдаленной перспективе – на их врожденных способностях.
В свете вышесказанного предварительно резюмируем: необходимо строить модели и прогнозы комплекса поведенческих программ человека в условиях дальнейшего прогресса и параллельной трансформации общества под его воздействием. Например, следовало бы спрогнозировать, какие поведенческие программы людей и в какой мере будут способны тормозиться, а какие включаться на полную мощность. В этом направлении необходимо привлечение знаний как из области нейрофизиологии, так и из области исторической психологии, обеспечивающих сопоставление поведенческих особенностей людей в другие эпохи: «Историческую психологию можно определить как изучение психологического склада отдельных исторических эпох, а также изменений психики и личности человека в социальном макровремени, именуемом историей. …Историческая психология в широком значении слова – подход, помещающий психику и личность в связь времен» [1, с. 11].
Интерес представляет программа экономии сил. В результате интенсификации и распространения заменителей естественных коммуникаций человека с природой, сопровождающихся снижением затрат физических усилий человека в его жизнедеятельности с одновременным ростом нервно-психических нагрузок, можно прогнозировать смещение приоритетов в область психической деятельности. Иначе говоря, экономия сил приобретает психологическую окраску, поскольку это собирательное понятие, включающее в себя и восстановление ресурсов, и их сбережение. Психическая деятельность, разумеется, не является исключением из данного правила: «В списке жизненно важных витальных программ, помимо связанных с едой, безопасностью, гомеостазом, присутствуют программы экономии сил, которые порой называют алгоритмами лени. Реализация этих программ тесно переплетается, с одной стороны, с состоянием утомления («запредельного торможения», по И.П. Павлову), с другой стороны – с основополагающим принципом экономии ресурсов и энергии всяким живым организмом, начиная с бактерии. Принцип экономии с очевидностью адаптивно обоснован и вплетен в деятельность клеток организма человека (на биохимическом, молекулярном уровне), в работу всех систем нашего тела и, конечно, в функционирование мозга. Мы предполагаем, что в нервной системе в ходе реализации того или иного поведения импульсы, сигналы распространяются по нейронным цепям и сетям наиболее оптимальным, минимизирующим затраты энергии образом. Подобная оптимизация является результатом эволюционного процесса…» [2, с. 504–505].
При этом мозг в своей работе не то чтобы стремится к примитивизации и за счет этого к экономии, нет, он полноценно работает, «ищет» стратегии для экономии ресурсов, необходимых в прогнозируемом им будущем: «Важна именно непредсказуемость, нужно, чтобы заяц бежал иногда вправо, иногда влево. Это биологически верно, и в итоге наш мозг сделан не для того, чтобы работать с точными цифрами, как компьютер, а для того, чтобы пытаться заглянуть в будущее и так разнообразить поведение, чтобы удовлетворить свои потребности и выжить» [2, с. 26]. В результате экономия сил служит для выживания в дальнейшем, что позволяет подтвердить, что «мозг – орган предвидения» [3, с. 55], поскольку «…критерием функционирования НС является минимизация раздражений» [3, с. 159]. При этом и поэтому с возрастом мы обрастаем привычками, стереотипами, предрассудками.
Видный современный ученый в сфере нейролингвистики Татьяна Черниговская приводит такой научный факт, как дефолтное состояние мозга: «Состояние сводится к тому, что человек как бы ничего не делает. Это не значит, что он спит, это такое особое состояние, очень важное, особенно для творческого мозга… Если напирать на мозг, он откажется. …Лень хороша в когнитивном, серьезном смысле, а не обывательском» [4]. Таким образом, состояние «разгрузки» мозга и отвлечения даже необходимо для реализации творческого потенциала.
Учитывая реалии нашего времени, необходимо отметить, что угрозы физическому выживанию в дикой природе, на которые ориентированы заложенные издревле в мозг человека многие поведенческие программы, претерпели существенное изменение в части их систем стимуляций и подкреплений, поэтому, на наш взгляд, формируются предпосылки для изменения конфигураций и ролей различных подобных программ. Например, что касается перестройки программы экономии сил. Организм человека в отсутствие смертельных опасностей переходит в фазу стратегии запасания физической энергии. Но при этом возрастает влияние заменителей «опасности» – искусственных (виртуальных) способов инспирации активных психических переживаний, затрагивающих уровень условно смертельных опасностей. Это и компьютерные игры, и кинематограф, и другие медиапроизводные информационной среды. Здесь мы видим, что опасность от условного «мамонта» в наше время замещается опасностью от вымышленных сюжетов, представленных в медиа.
Также отметим, что современный человек научился, используя технологии, уклоняться от некоторых предписаний, сформированных для него эволюцией в условиях еще дикой природной среды. Например, избегание набора определенных «раздражителей» со стороны программы размножения для высших существ облеклось в форму контрацепции. Что, вероятно, явилось следствием конкуренции с программой экономии сил. Феномен контрацепции почти доказывает возможность формирования условных рефлексов и, соответственно, новых схем работы нейросетей мозга, позволяющих уклоняться от природных законов. Современные человеческие технологии, как уже становится понятным многим, способны обеспечивать обход жестких, жизненно важных для человека природных установок. При этом, как мы понимаем, мозг обеспечивает и другую свою функцию – обучение.
В целом мировосприятие каждого индивида подвергается такому воздействию, которое может влиять даже на базовые ощущения. Как известно, восприятие самого времени включает субъективный компонент: «Время – это измерение, предвидение, осознание срока, порядка и последовательности нашего человеческого существования в сопоставлении с другими (не нашими) сроками, порядками и последовательностями» [1, с. 35]. И современный мир меняет это восприятие, выводя его в нужную для психологического равновесия сторону. Время, воспринимаемое через медиа, для нас протекает уже иначе.
Существуют исследования, анализирующие возможные опасности со стороны технического прогресса и делающие акцент на возможных трансгуманистических трансформациях человека, которые в общем смысле представляют собой совершенствование телесности. В свете вышесказанного не менее важно изучать тенденции, если хотите, переустройства психики и работы мозга. И последствия могут быть в этом случае непредсказуемыми. Мы говорим «переустройства», поскольку эти изменения предположительно будут шквальными по своей интенсивности, по отношению к пропускной способности психики человека и метрической шкале времени эволюции.
Таким образом, в настоящей статье сделана попытка акцентировать внимание аудитории на возможных изменениях в программах и моделях поведения людей в условиях нового технологического уклада, который начинает охватывать нашу человеческую цивилизацию как сплошная среда – континуум – со все более возрастающей информационной интенсивностью.
About the authors
Lev A. Zvezdin
ZASLON JSC
Author for correspondence.
Email: lev.zvezdin@rambler.ru
SPIN-code: 8281-5330
Candidate of Philosophical Sciences, engineer of the 1st category
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Shkuratov VA. Historical psychology. Book one. Introduction to Istoric Psychology. 3rd, expanded edition. Moscow: CREDO, 2015. 244 р.
- Dubynin VA. Brain and its needs: from nutrition to recognition. Moscow: Alpina non-fiction, 2021. 572 р.
- Shumilov VN. Principles of brain functioning. 2nd ed. Ed. by V.I. Solomonov. Tomsk: Publishing House Vol. un-ta, 2015. 188 р.
- Neurolinguist Tatiana Chernigovskaya: “You need to treat the brain with respect, it is smarter than us”. Interfax. March 3, 2020. Available at: https://www.interfax-russia.ru/nortwest/ exclusives/uchenyy-neyrolingvist-b-tatyana-chernigovskaya-b-k-mozgu-nado-otnositsya-suvazheniem-on-umnee-nas (accessed 23.08.2023).
Supplementary files