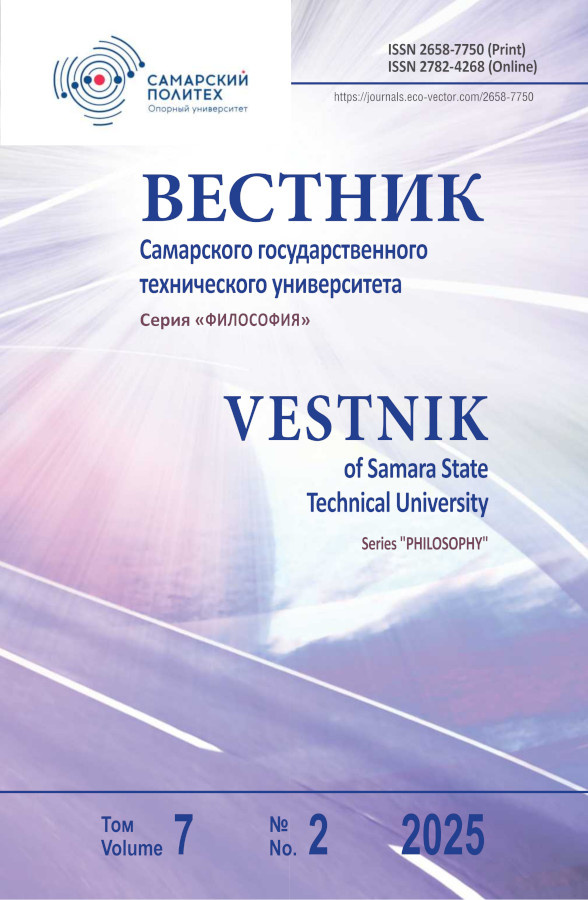Влияние цифровой трансформации образования на процессы социализации и развития подрастающего поколения в техногенных условиях жизнедеятельности
- Авторы: Колесник Т.А.1
-
Учреждения:
- ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (филиал в г. Рыбнице)
- Выпуск: Том 7, № 2 (2025)
- Страницы: 14-30
- Раздел: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692887
- ID: 692887
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния цифровой трансформации современного образования на процессы социализации и развития подрастающего поколения. Основное внимание уделяется вопросу о необходимости ориентации образования на безопасное взаимодействие человека с цифровой средой, а также внедрение в образовательный процесс технологий, не препятствующих развитию подрастающего поколения. В статье приводятся мнения отечественных и зарубежных ученых, исследующих процессы цифровой трансформации образования и функционирование человека в цифровой реальности. Сделаны выводы о том, что помимо обдуманного внедрения цифровых технологий в образовательный процесс необходимо сконцентрировать внимание на создании службы социально-педагогической поддержки учащихся и их семей, что позволило бы подойти к решению проблем социализации и адаптации человека в условиях техногенной реальности и сформировать личность, способную влиять на окружающий мир, обеспечивая безопасную среду жизнедеятельности.
Полный текст
На протяжении всего процесса эволюционного развития общества условия жизнедеятельности человека являлись ключевым фактором, влияющим на его адаптацию и социализацию. В эпоху первобытно-общинного строя человеку приходилось приспосабливаться преимущественно к природным условиям. Под воздействием аграрных технологий происходит трансформация естественной природы. Эти изменения сделали жизнедеятельность человека зависимой от двух факторов – от природы и социума.
Промышленная революция XVIII–XIX вв., обусловившая внедрение во все сферы жизни общества машинных технологий, кардинально и качественно изменила условия жизнедеятельности человека, которые стали уже техносоциальными.
Рассматривая стремительный прогресс в развитии общества, И.В. Вернадский приходит к выводу о том, что человек при помощи своей активной познавательной, творческой деятельности становится мощной геологической силой, способной создать новую, более прогрессивную среду жизнедеятельности – ноосферу – как для себя лично, так и для всех живых организмов. Действительно, на начальных этапах промышленной революции среда становится более благоприятной для выживания и воспроизводства человека. Об этом свидетельствуют такие тренды, как рост продолжительности жизни и акселерация [1].
Между тем прогнозам И.В. Вернадского не суждено было сбыться. Вместо ноосферы активно начинает формироваться техносфера, при этом основой хозяйственной деятельности становится капитализм – экономическая и социальная система, главной целью которой является получение богатства и доходов за счет ресурсов как живой, так и неживой природы, а также эксплуатации самого человека, его потребностей, эволюционно заложенных мотивов деятельности и стереотипов поведения.
С середины ХХ века мы наблюдаем не только стремительный рост научно-производительных сил во всех экономически развитых странах, но и быстро ускоряющуюся информатизацию всех сфер жизни общества на основе информационно-коммуникативных технологий. По мнению Н.Н. Лапченко, информатизация общества подразумевает «вживление» особого рода «искусственного». Процессы информатизации не только становятся основой для дальнейшего прогресса производства, но и пронизывают всю общественную жизнь, материальную и духовную культуру. Автор указывает, что данные технологии, хотя потенциально и становятся основой для социального возвышения человека, на практике крайне опасны для биосферной жизни. Угроза возникает из-за того, что информационные технологии не только кардинально и качественно меняют общественную жизнь, но и неблагоприятно воздействуют на эволюцию общества [2]. Информатизация общества в очередной раз трансформирует условия жизнедеятельности человека, а, следовательно, требует новых механизмов его адаптации и социализации.
Е.В. Петрова, рассматривая процессы адаптации, акцентирует внимание на том, что современный человек одновременно испытывает давление трех сред различного порядка, две из которых заставляют его действовать на пределе своих адаптационных возможностей. Автор выделяет следующие среды жизнедеятельности современного человека: естественную природную, то есть среду первого порядка, которая включает естественный природный ландшафт, среду второго порядка или урбанизированную городскую среду, включающую здания, сооружения, дороги, автомобили и т. д. (несмотря на свою искусственность, среда второго порядка является реальной действительностью), и среду третьего порядка или цифровую информационную (виртуальную) среду [3, с. 104–105]. Цифровая среда оказывает значительное влияние на современного человека. Так, по данным статистики, современный подросток в среднем использует цифровые устройства по 7–8 часов ежедневно. Простые математические подсчеты показывают, что как минимум семь лет своей жизни молодые люди проведут погруженными в цифровую реальность, и эта цифра с каждым годом увеличивается, что связано с растущими темпами применения гаджетов как в повседневной действительности, так и в образовательном процессе. Большинство подростков просматривают свой телефон около 150 раз в день, вследствие чего они становятся гиперактивными, крайне раздражительными и тревожными.
В своем исследовании врач-психиатр Ш. Канг отмечает, что использование цифровых технологий препятствует удовлетворению базовых биологических потребностей ребенка, заключающихся в общении и обретении независимости [4, с. 22, 35].
Из этого следует, что современная среда жизнедеятельности представляет собой сложную, относительно быстро в масштабах эволюции сформированную социотехноприродную реальность, к которой должен адаптироваться современный человек. Противоречие заключается в том, что за относительно короткий период среда жизнедеятельности человека претерпела качественные, кардинальные изменения, между тем человек как биологический вид функционирует неизменно на протяжении последних 200 тыс. лет. Таким образом, эволюционно сформированные механизмы адаптации к совершенно другой среде дают сбой в современном социотехноприродном мире.
В связи с этим остро встает вопрос о необходимости изучения влияния факторов окружающей техногенной среды на человека, его здоровье и психофизические возможности. Под воздействием этих факторов создаются условия, в которых ограничена активность индивидов, угасает желание добиваться результатов в различных условиях жизнедеятельности [5, с. 10].
Социализация в цифровой информационно-коммуникативной среде
Основную роль в процессе формирования личности играет образование в широком смысле этого слова, включающее обучение, воспитание, социализацию и инкультурацию.
Образование, на наш взгляд, должно давать знания человеку, которые позволили бы ему сохранить свое физическое и психическое здоровье в техногенной среде жизнедеятельности. Образование должно давать знания обучающемуся о трансформации условий жизнедеятельности человека в процессе социотехноприродной эволюции общества и о влиянии этих условий на здоровье, социализацию и адаптацию человека, а также о различных вариантах его безопасного взаимодействия с разными по степени техногенности условиями жизнедеятельности. В ракмках образовательного процесса необходимо обучать учащихся функционировать в таких условиях, а не только концентрироваться на передаче опыта их создания.
С сожалением хотелось бы отметить, что современное образование не ставит перед собой таких задач. На сегодняшний деть приоритетными задачами являются масштабная цифровизация и диджитализация образовательной системы, которая предполагает широкое использование цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ) в качестве основного инструмента выстраивания образовательной среды.
Виртуальная цифровая информационно-коммуникативная среда предлагает человеку отличные от традиционного процесса варианты социализации. Она начинает конкурировать с реальной действительностью за право формирования человека, вынуждая его проходить процесс социализации в смешанной реальности, в которой личность развивается уже не по естественным законам, а по уникальным законам виртуального цифрового мира [6].
Кардинальное изменение условий жизнедеятельности современного человека заключается не только в усложнении объектов техносферы (выстраивании искусственного предметного и электромагнитного мира), но и в вовлечении процессов социального взаимодействия и коммуникации в искусственную цифровую среду, то есть возникновении искусственного цифрового общения между людьми, которое выстраивается в основном в процессе коммуникации в социальных сетях.
Может ли быть такое общение полноценным? Ученые на этот вопрос отвечают отрицательно. Данные исследований показывают, что результатом такого общения является социальная изоляция и поверхностные контакты, способствующие росту числа подростков, остро переживающих одиночество, и тревожных расстройств. Ученые считают, что только общение в реальной действительности позволяет сохранить физическое и психическое здоровье и позитивно влияет на процессы социализации [4, c. 23; 7].
О том, что социальные сети подрывают основы социального взаимодействия и негативно влияют на процессы социализации, знают и сами разработчики соцсетей. В частности, бывший вице-президент Facebook Ч. Палихапития не рекомендует пользоваться социальными сетями и призывает оградить детей от их использования. Еще один представитель руководства Facebook и сооснователь этой соцсети Ш. Паркер открыто заявляет о том, что при разработке социальной сети использовались знания о нейрохимических процессах, происходящих в организме человека, и называет дофамин «секретным соусом» успеха Facebook [4, c. 68–69]. Все это свидетельствует о том, что научные знания о функционировании человеческого организма становятся основой для манипуляции нашими решениями, действиями, чувствами, предпочтениями и позволяют разработчикам соцсетей зарабатывать на эксплуатации уязвимых мест в психике пользователя. Социальные сети, видеоигры, бездумный серфинг в интернет-пространстве «крадут» время ребенка, отвлекают и даже препятствуют процессу его обучения [4, 7].
Последствиями внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества становится еще большее искажение реальной картины мира, еще большее отчуждение человека от самого себя (непонимание своих истинных потребностей и целей в жизни), отчуждение от общества, с членами которого он неспособен полноценно взаимодействовать, и от экосистемы. Все это подрывает его естественные жизненные силы.
Задача образования в социально-техногенном мире – сгладить негативные процессы, связанные с вынужденной адаптацией и социализацией человека в естественной и искусственной средах жизнедеятельности. Однако, как показывает анализ, современное образование сосредоточено на подготовке специалистов, обеспечивающих стабильность функционирования капиталистической системы, «потребляющей» в качестве ресурсов как самого человека, так и естественные природные богатства. И если естественные природные богатства стремительно сокращаются, то численность населения продолжает расти. Так, если в начале ХХ века численность населения составляла примерно 1,6 миллиарда человека, то сейчас она уже около 8 миллиардов человек, к середине ХХI века предполагается рост численности до 9 миллиардов. Поэтому с точки зрения буржуазных элит нет смысла направлять усилия и ресурсы на поиск гуманной стратегии развития человека, позволяющей нивелировать негативные последствия социализации и адаптации в техногенном мире, границы которого продолжают расширяться. Из-за нехватки природных ресурсов усилия правящего класса концентрируются на сокращении численности населения и контроле рождаемости (причем данная программа реализуется подчас отнюдь не гуманными методами). Неудивительно, что в сложившихся условиях при реализации программ цифровизации и внедрении технологий ИИ в образовательный процесс не учитываются негативные последствия, влияющие на развитие ребенка.
Влияние цифровизации образования на процессы формирования, развития и социализации подрастающего поколения
Цифровое образование – новая индустрия, вовлекающая человека в процессы социализации с преобладанием виртуальной реальности, которая предполагает переход на обучение с широким использованием онлайн-формата и информационных цифровых технологий. Это индустрия, активно рекламирующая свою продукцию с целью эффективной продажи ее на рынке образовательных услуг. Предполагается, что в ближайшем будущем школа должна пройти цифровую революцию и готовить учащихся к жизни в цифровом мире. По мнению экспертов, переход на цифровое образование будет не только способствовать повышению качества образования, но и сделает его более доступным для всех слоев населения [8, 9]. Плюсы перехода к цифровому образованию, активно пропагандируемые его сторонниками, – это большая вовлеченность обучающегося в процесс освоения знаний, которая достигается при помощи интерактивных игр, технологии обучения роботов, виртуальной и дополненной реальности, а также возможность самостоятельно учиться и выбирать содержание и форму обучения (онлайн-курсы, вебинары, лекции).
Однако эти преимущества относятся к формированию навыков, а не образованию в целом. Ограничение социальных контактов в процессе цифровизации образования, по мнению В.В. Абраменковой, и подмена их цифровыми технологиями приводят к когнитивному индивидуализму, а также к моральному, а не только познавательному естественно-возрастному эгоцентризму, неспособности обучающегося увидеть проблемную ситуацию с точки зрения других людей, а, следовательно, и скорректировать свои действия и поведение [10]. Все это свидетельствует о неполноценности цифрового образования, его несоответствии физиологическим, ментально-психологическим, духовно-нравственным и педагогическим потребностям человека.
Главным недостатком цифрового образования, на наш взгляд, является невозможность формирования полноценных навыков социального взаимодействия в реальной действительности, что препятствует самоидентификации человека в обществе и полноценной его социализации. Формирующийся в условиях быстро меняющейся искусственной цифровой среды человек утрачивает не только возможность в полной мере реализовать свой профессиональный, творческий потенциал, но и возможность сохранить свое физическое и психическое здоровье.
Представленные ниже статистические данные свидетельствуют об ухудшении здоровья детей. Так, с 2010 по 2017 гг. частота функциональных нарушений здоровья детей увеличилась в 1,5 раза, а хронических болезней – в 2 раза. Показателен и тот факт, что расстройства, вызванные цифровой зависимостью, такие как высокий уровень тревожности и различные поведенческие нарушения, входят в число основных причин заболеваемости и инвалидности среди подростков.
Остановимся лишь на некоторых аспектах влияния инфотехносферы на физическое здоровье обучающихся вследствие длительной работы за компьютером. Так, научные исследования свидетельствуют о негативном воздействии радиочастотного излучения (Wi-Fi-сети) и электромагнитных полей на человека, снижении познавательных способностей и памяти, повышении риска развития онкологических заболеваний. Продолжительная работа за компьютером, которая неизбежна при масштабном переходе к цифровому образованию, приводит к снижению слуха вследствие частого использования наушников, ухудшению зрения, болезням опорно-двигательного аппарата, нарушению обмена веществ. Среди последствий длительного взаимодействия ребенка с цифровыми устройствами – кибербуллинг, бессонница, плохая осанка, боли в спине и шее, малоподвижный образ жизни, тревога, депрессия, возникновение зависимостей [4, 11].
Использование цифровых технологий способно вызвать и изменения в структуре головного мозга ребенка. Так, у детей, использующих цифровые устройства с экранами, значительно снижен уровень миелинизации или целостности «белого вещества» по сравнению с их сверстниками, не использующими гаджеты. От сформированности миелиновых структур, по сути, зависят когнитивные функции [4, c. 23–24].
Цифровизация негативно влияет на все подсистемы психики ребенка (когнитивную, регулятивную и коммуникативную). Учитывая тот факт, что основной функцией психики является адаптация человека к среде его жизнедеятельности, можно констатировать, что этот процесс претерпевает изменения. Адаптация к современной объективной действительности и познание реального социально-техногенного мира, его процессов тормозятся, уступая свои позиции адаптации к цифровому пространству инфотехносферы, которая, как доказывают исследования, происходит быстрее, чем адаптация к реальной действительности. Такие изменения влекут за собой снижение ценности естественного биосферного мира. Цифровая реальность пространственно отличается от реальности объективной. Она не трехмерная, а двухмерная. Первоочередная адаптация человека в ее пространстве нарушает пространственное восприятие, которое тесно связано с мышлением, а особенно с его креативной, творческой составляющей. Так, современные школьники проявляют на 20 % меньше креативности мышления, чем их сверстники 20 лет назад [12].
Возрастающий уровень цифровизации в обществе и сфере образования приводит, как уже отмечалось, к подмене знаний информацией. Знания предполагают проникновение в суть процессов, установление причинно-следственных связей, критическую оценку полученных результатов. Получение знаний – это сложный, длительный и трудоемкий процесс. Получение готовой информации по запросу в сети Интернет упрощает этот сложный процесс, одновременно уменьшая интеллектуальную активность, а вместе с ней и способность к запоминанию, обработке и анализу больших объемов сложной информации. Несмотря на доступность больших объемов информации, способность к ее обработке у детей резко снижается (данное явление получило название «парадокс Интернета») [11]. Да и с какого возраста ребенок способен избирательно и критически оценивать информацию, размещённую в сети, пока неясно.
В результате работы с цифровой информацией, которая извлекается по запросу и доступ к которой можно быстро возобновить, пропадает необходимость в долгосрочном запоминании. В результате высшие формы памяти остаются слабо сформированными. В основном при обработке цифровой информации развиваются такие виды памяти, как семантическая, фрагментарная, кратковременная, механическая, непроизвольная.
Свидетельством деградации интеллектуальных способностей детей является снижение показателей индекса Флинна, который отражает динамику в интеллектуальном развитии детей в течение нескольких десятилетий. Так, у представителей развитых стран через каждые 10 лет отмечался рост IQ на 1,5 балла вплоть до 2000 г. После 2000 г. наблюдается обратная тенденция: каждые 10 лет IQ снижается на 1,5 балла. К примеру, современные школьники обладают в два раза меньшим словарным запасом, чем их сверстники двадцать лет назад [12].
Использование цифровых устройств (гаджетов) влияет и на развитие речи ребенка. С каждым годом растет число дошкольников, испытывающих проблемы с речью, у 40 % наблюдаются дислексия и дисграфия. В целом наблюдается задержка речевого развития ребенка до 3 лет [13].
Использование гаджетов приводит к росту зависимостей. В медицинский обиход входит такое понятие, как «цифровые наркотики». Как показывают исследования, по своему воздействию «цифровые наркотики» так же разрушительны для человеческого организма, как и химические. О негативных последствиях цифровизации свидетельствует введение в международную классификацию психических болезней DSM-6 термина «цифровое слабоумие» (digital dementia), которому в большей мере подвержены именно дети [14, 15]. Примечательно, что «цифровое слабоумие» изначально было диагностировано в Южной Корее – стране с самой высокой плотностью цифровых средств массовой информации и телекомуникации, то есть с наиболее развитой инфотехносферой.
Таким образом, можно констатировать, что создание «цифрового муляжа образования» не сможет поднять образование на новый уровень, как это обещают активные сторонники цифровизаци. Суперкомпьютеры неспособны смоделировать социальные взаимодействия как между самими обучающимися, так и между обучающимися и педагогами. Связано это с тем, что в этих контактах значимыми являются качества, которые невозможно смоделировать с помощью алгоритмов, – доброта, доброжелательность, поддержка, а также эмоции – радость, злость, раздражение и др.
Можно согласиться с известным философом и социальным психологом Э. Фроммом, который указывает на то, что обособление человека от естественного природного мира посредством техносферы (а сейчас уже и инфотехносферы) неспособно решить основные проблемы человека и сделать его счастливым. Он считает, что зависимость от техники и оторванность человека от естественного природного мира приводит к усилению чувства одиночества и отчуждения, тем самым многократно усиливает чувство тревоги. Отчуждение, по мнению ученого, связано с невозможностью эффективного использования своих естественных жизненных сил в условиях искусственной среды жизнедеятельности. Следствием этого становится неспособность налаживания необходимых контактов как с естественным природным миром, так и с социумом, что лишает человека возможности и способности к сопротивлению. Исследователь предлагает обратиться к самой природе человека, его истинным духовным потребностям, дать возможность развить его природные задатки и таланты. Для этого необходимо выйти за рамки собственного «я», развивать и обновлять себя, при этом проявляя интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать. Такому развитию человека мешает, по мнению автора, капиталистическая система, ориентированная на материальное потребление, которое тормозит духовно-нравственное, эмоциональное и интеллектуальное развитие человека [16, c. 21–23].
Рассуждения философа относятся к индустриальному этапу развития техногенного общества. Необходимо отметить, что с активным внедрением информационных технологий во все сферы жизни общества и формированием глобальной инфотехносферы на этапе постиндустриально-техногенного развития (по классификации Е.А. Дергачевой) [17] процессы отчуждения многократно усиливаются, а чувство тревоги достигает своего апогея. Наглядно иллюстрируют возросший уровень психологического напряжения статистические данные периода пандемии COVID-19. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 г. каждый восьмой житель нашей планеты страдал психическими расстройствами, первое место среди которых занимали депрессивные и тревожные расстройства. Последствиями изоляции, уменьшения числа социальных контактов, перехода многих сфер деятельности в онлайн-формат во время пандемии COVID-19 стало увеличение на 25–28 % числа людей, страдающих психическими заболеваниями [18]. Однако пандемия позволила ускорить процессы цифровой трансформации образования.
Несмотря на негативные последствия, тотальная цифровизация образования рассматривается обществом как возможность вывести образование на более высокий уровень. Возникает вопрос: нужно ли человеку развитие, которое ведет к деградации его естественных, эволюционно сформированных жизненных сил? Ведь эти естественные качества обеспечивали на протяжении тысячелетий его жизнеспособность как вида.
Тем не менее, несмотря на очевидность негативных последствий цифровизации образования, совершенствование российской образовательной системы, по мнению экспертов, должно проходить на основе масштабной диджитализации с использованием технологий искусственного интеллекта, что, как предполагается, позволит выстроить глобальную образовательную цифровую инфраструктуру и обеспечить конкурентоспособность российского образования на мировом рынке [19]. При этом упускается из внимания тот факт, что цифровизация, по сути, бьет по трем «столпам» образования: обучению (затрудняя процесс получения знаний и подменяя их информацией), воспитанию (нарушая процесс трансляции ценностных ориентиров, передаваемых от поколения к поколению), социализации (ограничивая социальную активность личности). Она поражает, как уже говорилось, и все подсистемы психики человека, что не позволяет безопасно (без потерь для физического и психического здоровья) адаптироваться и социализироваться в условиях быстро изменяющейся техногенной среды жизнедеятельности.
Технологии искусственного интеллекта в образовании
Сам термин «искусственный интеллект» был введен в научный оборот Дж. Маккарти в 1956 г. и имеет два основных значения: во-первых, под ИИ понимается теория создания программных и аппаратных средств, способных осуществлять интеллектуальную деятельность, сопоставимую с интеллектуальной деятельностью человека; во-вторых, сами такие программные аппаратные средства, а также выполняемая с их помощью деятельность. Однако А.Р. Ракитов обращает наше внимание на то, что до настоящего времени нет даже однозначного и общепринятого определения естественного интеллекта, поэтому нет возможности сформулировать и четкое определение понятия «искусственный интеллект» [20, с. 167], что остается актуальным по сей день.
При анализе понятия «интеллект» возникает больше вопросов, чем ответов. Так, под естественным интеллектом понимается способность человека рационально мыслить и действовать [21]. «Рационально» означает «разумно». Однако можно ли назвать разумной человеческую деятельность, основой которой является бездумное расширение техногенной среды, ведущее к деградации естественного природного мира и ставящее под угрозу само существование человека как вида? Очевидно, нет. Поэтому в попытке дать определение понятиям «естественный интеллект» и «искусственный интеллект» необходимо определиться прежде всего с ценностными аспектами развития техногенной цивилизации. От этого во многом будут зависеть и задачи, решаемые с помощью интеллекта в различных его формах.
Что касается образования, применение технологий ИИ в образовательном процессе качественно меняет его, заменяя живое общение с учителем на общение с машиной, генерирующей и обрабатывающей информацию посредством алгоритмов. Учитель больше не выступает в роли источника знаний, ему отводится в лучшем случае роль наставника. Обусловлено это прежде всего экспоненциальным ростом информации, работа человека с которой невозможна при использовании традиционных методов освоения знаний. Уже сейчас, к примеру, объем цифровой информации сравним с объемом биологической информации в биосфере (включая содержание и геном всех людей). Так, с 1980-х гг. объем цифровой информации удваивается примерно каждые 2,5 года [22].
Несмотря на то, что, по мнению исследователей Googlе, искусственный интеллект станет соответствовать человеческому, скорее всего, к 2040–2080 гг., уже сейчас технологии ИИ открывают огромные возможности в сфере управления социальными отношениями, а также способны заменить человека в различных областях деятельности, тем самым они способствуют увеличению социально-экономического разрыва в обществе. Однако мы должны понимать, что, несмотря на открывшиеся возможности, искусственный интеллект – это интеллект, совершенно отличный от человеческого, который формировался тысячелетиями во взаимосвязи с естественным природным миром и основан не только на разуме, но и на способности чувствовать, сопереживать, любить, то есть пропускать эмоции через призму разума. Человеческий интеллект позволяет соотносить возможные варианты действий с устоявшимися ценностными ориентирами, а также перестраивать систему ценностей в соответствии с новыми задачами и вызовами.
Постепенно отчуждая человеческий интеллект от процессов принятия решений, мы рискуем получить ценности, неприемлемые для дальнейшего эволюционного развития биосферного человека. К сожалению, эта трансформация уже началась в наиболее технологически развитых странах, где постепенно укореняются идеи трасгуманизма, позволяющие активно и беспрепятственно развиваться искусственному в самом человеке.
Применение технологий ИИ, виртуальной и дополненной реальности в образовании способно ускорить процесс перехода к новым ценностным ориентирам, которые не нацелены на сохранение социальной и биосферной жизни, что является крайне опасной и разрушительной для человека тенденцией. Так, М.А. Пронин указывает на тот факт, что дальнейшее развитие технологий ИИ и виртуальной реальности остро ставит проблему неразличения искусственного и естественного. Очевидно, пишет автор, что при дальнейшем развитии технологий первоочередной проблемой станет феномен неразличения своего тела и чужого (виртуально сгенерированного), своего сознания (мыслей) и чужого сознания (мыслей), своей личности и чужой личности, своей воли и чужой воли своего внутреннего человека (духовного, душевного, психологического) и чужого внутреннего человека. На социальном уровне это приведет к блокированию рефлексии и аномии восприятия происходящих социальных процессов [23]. Таким образом, подобные технологии способны сделать человека недееспособным.
Поэтому актуальным становится вопрос об ограничении применения технологий ИИ и виртуальной реальности (в целом цифровых технологий) с целью сохранения биосферного человека и его интеллекта. Данные ограничения должны затронуть и образовательный процесс. Связано это с тем, что образование – процесс интегрированный, включающий помимо обучения еще процессы воспитания и социализации. Нужно понимать, что, когда мы говорим о цифровом образовании, то имеем в виду в лучшем случае процесс формирования определенных навыков, но отнюдь не воспитание и социализацию. Воспитание выстраивается на основе «социальной ситуации развития». Реализация этого невозможна без взаимодействия обучающихся между собой в процессе образования, проживания и переживания ими возникших в процессе взаимодействия ситуаций и сопоставления их с теми писаными (закрепленными в законодательных актах) и неписаными моральными нормами, которые приняты в обществе. Воспитание – это, прежде всего, категория морально-нравственная, эмоционально-ценностная. Если морали можно обучить, то нравственность формируется в процессе самостоятельного восхождения к идеальной норме, что возможно только при ориентации на идеальные образцы, воплощенные в людях, героях, книгах, фильмах, позитивных идеях [11, 24].
Поэтому интенсификация процесса обучения должна проходить, на наш взгляд, параллельно с выстраиванием более эффективной системы воспитания, ориентированной на поддержание гармоничного развития техносферы, социосферы и биосферы, что невозможно осуществить без гармоничного развития человека и его способностей. Ориентация на подготовку квалифицированных специалистов для развития и обслуживания техносферы и ее инфраструктуры способствует формированию человека, отчужденного от самого себя, с ограниченной картиной мира, ценностными и морально-нравственными установками, дезориентированного и в целом неспособного адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизнедеятельности.
Заключение
Преимущественная ориентация на цифровизацию, на наш взгляд, ориентирует образование не на решение проблем человека в новых условиях жизнедеятельности и не на преодоление дисгармонии между обществом и природой, возникшей вследствие техногенного развития, а на подготовку специалистов, которые будут обеспечивать высокую доходность бизнеса за счет нещадной эксплуатации биосферных ресурсов нашей планеты и самого человека. Исключение из процесса образования его основополагающих гуманистических функций, отвечающих за воспитание и социализацию, приводит к деградации как самого человека, так и жизненно необходимого ему природного мира.
Таким образом, тотальная цифровизация образования – это, по сути, сворачивание (уничтожение) традиционной системы образования как таковой. Необходимость такого сворачивания обусловлена переходом к новым технологиям, которые позволяют изменять (модифицировать) самого человека. Если раньше основной целью технологий было создание более благоприятных условий жизнедеятельности человека, возведение второй оболочки жизни – техносферы, то сейчас сам человек должен слиться с техносферой, то есть создаваться, формироваться и функционировать как технический объект.
Как отмечает О.Н. Четверикова, цифровая трансформация школы изменяет как сам процесс образования, так и его содержание. В такой школе в приоритете уже не знания и даже не некая сумма информации, а натаскивание детей на узкоспециализированные навыки. Образование на протяжении всей жизни, о необходимости которого так много говорится, по мнению автора, – это не траектория развития человека в соответствии с его способностями, индивидуальными особенностями и истинными потребностями, а всего лишь замена устаревших навыков более востребованными работодателем [25].
Для наиболее эффективной эксплуатации человеческих ресурсов предлагается создание «персонализированной цифровой платформы индивидуального обучения», в которой будут отражаться все данные о ребенке (его успехи и промахи). Анализ этой информации позволит вести ребенка, начиная с самого младшего возраста, по определенной траектории развития, определяющей, чем ему заниматься на протяжении всей жизни. Свернуть с этой траектории будет практически невозможно. Таким образом, цифровизация, с точки зрения автора, не только вытесняет человека из всех сфер жизни, но и дает возможности эффективной эксплуатации человеческих ресурсов и обогащения IT-компаний [25].
Именно поэтому, несмотря на ряд исследований, свидетельствующих о том, что доказательств положительного влияния компьютеров на обучение и процессы социализации не существует, и исследований, доказывающих их разрушительное влияние на здоровье ребенка – как физическое, так и психическое, они по-прежнему активно внедряются в образовательный процесс. По мнению известного немецкого врача-психиатра М. Шпитцер, повсеместные решения о внедрении цифровых технологий в образовательных учреждениях продиктованы вовсе не стремлением к достижению прогресса в современном образовании и заботой о детях и подростках, а финансовыми интересами фирм, производящих компьютерную технику. Ради их выгоды в систему образования вливаются огромные средства с целью его масштабной цифровизации, эффективность которой, как было указано выше, научно не обоснована. Исследования, которые свидетельствуют о позитивном влиянии цифровых технологий на процесс образования, как пишет М. Шпитцер, заказывают и финансируют сами производители компьютерной техники [7, c. 79–81].
Цифровая концепция оптимизации системы образования вполне совместима с представлениями известного идеолога капитализма М. Фридмана, который считал, что для стабильного развития экономической системы необходимо повышение экономической продуктивности человека и снижение рисков инвестиций в человеческий капитал, связанных с неправильной оценкой качеств и способностей человека, а также возможностью его отказа от изначально выбранной траектории развития. Показательно, что в своей работе М. Фридман не делает различий между инвестициями в человеческий капитал и инвестициями в другие формы капитала. Так, он пишет, что «вкладывание денег в человеческий капитал абсолютно аналогично вкладыванию денег в оборудование, здания и прочие неодушевленные формы капитала», а «дополнительная выручка должна соизмеряться с затратами, понесенными для ее получения» [26, c. 125–126]. Если в период активной творческой деятельности автора цифровые технологии еще не достигли такого уровня развития и не позволяли создавать профессиональную траекторию развития человека с учетом его цифрового следа, то сейчас с использованием технологий искусственного интеллекта реализация подобных проектов – уже реальность. Несмотря на изменившиеся методы, отношение к человеку как средству остается неизменным.
На наш взгляд, наибольшего эффекта можно было бы добиться за счет повышения квалификации учителей, создания службы социально-педагогической поддержки учащихся и их семей. Однако для этого нужно учитывать результаты честных, а не заказных исследований влияния техносферы и ее информационной оболочки – инфотехносферы – на здоровье и развитие подрастающего поколения. Именно эти данные должны стать фундаментальной основой для формирования прогрессивной стратегии развития подрастающего поколения и вывести образование на новый уровень, способный не только обеспечить прогресс техногенного общества, но и сформировать личность, способную влиять на окружающий мир, создавая безопасную для здоровья человека и в целом для биосферы среду жизнедеятельности.
Однако рациональные основы развития современного общества не позволяют этого сделать. Сочетание технократизма как основной идеологической основы и капитализма как преобладающей экономической системы является фундаментом для интеграции трех рациональностей: экономики, науки и техники. Причем именно экономическая рациональность задает ориентиры развития двум остальным. Данный феномен в научной литературе получил название интегрированной техногенной рациональности (по классификации Е.А. Дергачевой) [27]. В «топку» этой рациональности кидается все, что способно принести прибыль. Именно поэтому и игнорируется негативное влияние цифровых технологий на развитие подрастающего поколения, и вместо ограничения сферы их применения мы наблюдаем ее расширение.
Новые технологии могут быть внедрены в образовательный процесс, однако они не должны препятствовать обучению.
Об авторах
Таисия Александровна Колесник
ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (филиал в г. Рыбнице)
Автор, ответственный за переписку.
Email: 077767475@mail.ru
SPIN-код: 4634-7807
кандидат философских наук, доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств»
Молдавия, г. РыбницаСписок литературы
- Демиденко, Э.С. Явления акселерации и антиакселерации: социально-техногенный аспект / Э.С. Демиденко // Проблемы современного антропосоциального познания. – Вып. 16. – Брянск: БГТУ, 2019. – С. 8–19.
- Лапченко, Н.Н. Социально-философский анализ информатизации техногенного общества: специальность 09.00.11: дис. … канд. филос. наук / Н.Н. Лапченко. – Москва, 2011. – 156 с.
- Петрова, Е.В. Информационная экология в цифровой среде / Е.В. Петрова // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2019. – № 3 (23). – С. 103–108.
- Канг, Ш. Цифровая дисциплина / Ш. Канг. – Москва: Альпина Паблишер, 2022. – 364 с.
- Казначеев, В.П. Экология человека: проблемы и перспективы / В.П. Казначеев // Экология человека. Основные проблемы: сборник научных трудов. – Москва: Наука, 1988. – С. 9–32.
- Хазиева, Н.О. Виртуальная реальность как пространство социализации: специальность 09.00.11: автореф. дис. … канд. филос. наук / Н.О. Хазиева. – Казань, 2014. – 19 с. – URL: http://cheloveknauka.com/v/588304/a?#?page=20 (дата обращения: 21.11.2020).
- Шпитцер, М. Антимозг: цифровые технологии и мозг / М. Шпитцер; пер. с нем. А.Г. Гришина. – Москва: АСТ, 2014. – 288 с.
- Платонова, Е.Д. Цифровизация как инструмент инновационного развития сферы образования в XXI веке / Е.Д. Платонова // Современное образование: векторы развития. Цифровизация экономики и общества: вызовы для системы образования: материалы международной конференции. – Москва, 2018. – С. 299–307.
- Пую, Ю.В. Высшее образование в экстремальных условиях, или Что показала пандемия / Ю.В. Пую // Высшее образование в современном мире: история и перспективы: коллективная монография / Сост., ред. M. ле Шансо, И.Э. Соколовская. – Москва: Энциклопедист-Максимум, 2020. – С. 95–102.
- Абраменкова, В.В. Цифровизация воспитания как угроза безопасному развитию детства / В.В. Абраменкова // Психологическая газета. – 01.08.2021. – URL: https://psy.su/feed/9194/ (дата обращения: 18.12.2024).
- Воробьева, И.А. Плюсы и минусы цифровизации в образовании / И.А. Воробьева, А.В. Жукова, К.А. Минакова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 1-4 (103). – С. 110–118.
- Карпов, А.В. Цифровизация и развитие психики ребенка: вызовы нового времени / А.В. Карпов, Т.А. Воронова // Человеческий капитал. – 2021. – № 8 (152). – С. 22–28.
- Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольников / О.С. Ушакова. – Москва, 2001. – 256 с.
- Brunelle, E. Distance makes the heart grow fonder: An examination of teleworkers’ and office workers’ job satisfaction through the lens of self-determination theory / E. Brunelle, J.-A. Fortin // SAGE Open. – 2021. – № 11 (1). – 21582440209. – https://doi.org/ 10.1177/2158244020985516
- Colombo, B. Metacognitive knowledge of decision-making: An explorative study / B. Colombo, P. Iannello, A. Antonietti // Trends and prospects in metacognition research. Springer Science + Business Media / Ed. by A. Efklides & P. Misailidi. – 2010. – Pp. 445–472. – https://doi.org/ 10.1007/978-1-4419-6546-2_20
- Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – Москва: АСТ, 2023. – 320 с.
- Дергачева, Е.А. Тенденции и перспективы социотехноприродной глобализации: монография / Е.А. Дергачева. – Москва: Либроком/URSS, 2009. – 232 с.
- Психические расстройства. – URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders (дата обращения: 08.05.2024).
- Амиров, Р.А. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования / Р.А. Амиров, У.М. Билалова // Власть и экономика. – 2020. – № 3. – С. 80–88.
- Ракитов, А.И. Философия компьютерной революции / А.И. Ракитов. – Москва: Политиздат, 1991. – 287 с.
- Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л.Ф. Ильичёва, П.Н. Федосеева, С.М. Ковалёва, В.Г. Панова. – Москва: Советская энциклопедия, 1983. – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2361/ИНТЕЛЛЕКТ
- Зорькин, В. Право и вызовы искусственного интеллекта / В. Зорькин. – URL: https://rg.ru/2024/06/27/pravo-i-vyzovy-iskusstvennogo-intellekta.html (дата обращения: 12.10.2024).
- Пронин, А.М. Феномен блокирования рефлексии в социальных процессах: виртуальный переход / А.М. Пронин // Искусствознание: теория, история, практика. – 2015. – № 4 (14). – С. 79–85.
- Цифровизация российской школы. – URL: https://rvs.su/statia/cifrovizaciya-rossiyskoy-shkoly (дата обращения: 23.06.2024).
- Четверикова, О.Н. Путь к цифровому слабоумию начинается со школы // Завтра. – 18.10.2019. – URL: https://www.business-gazeta.ru/article/443187 (дата обращения: 23.06.2024).
- Фридман, М. Капитализм и свобода / М. Фридман. – Москва, 2006. – С. 125–126.
- Дергачева, Е.А. Техногенное общество и противоречивая природа его рациональности / Е.А. Дергачева. – Брянск: БГТУ, 2005. – 219 с.
Дополнительные файлы