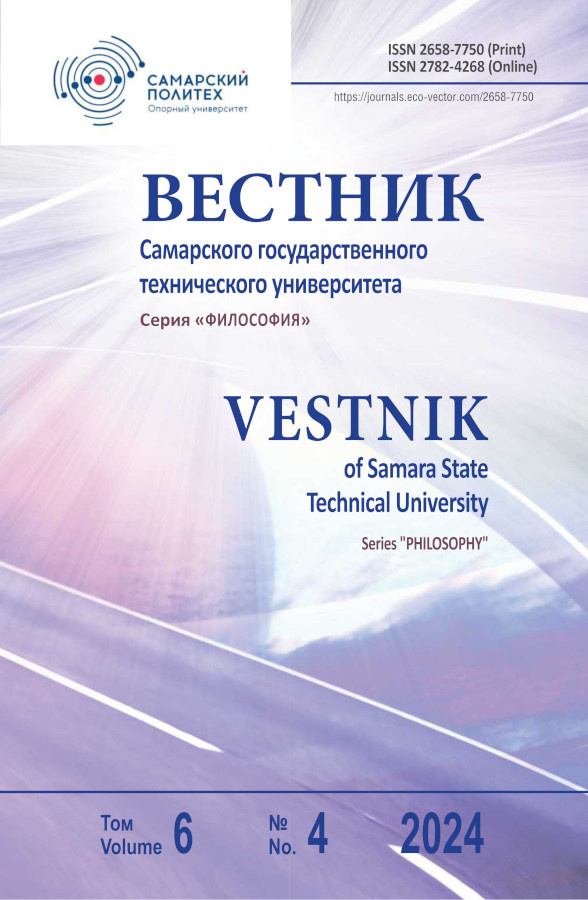Одномерное мышление: перспективы концепции
- Авторы: Тюгашев Е.А.
- Выпуск: Том 6, № 4 (2024)
- Страницы: 79-88
- Раздел: ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692916
- ID: 692916
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье выделены основные трудности и скрытые возможности развития концепции одномерного мышления. Концепция одномерного мышления эвристична при ее когнитивной интерпретации. В таком случае «размерности» мышления необходимо понимать как его уровни. Эти уровни могут быть соотнесены с традиционным для гносеологии различением чувственности, разума и рассудка.
Ключевые слова
Полный текст
Актуализация темы одномерного мышления
Как отмечал А. Юдин, автор вступительной статьи к русскому изданию книги Г. Маркузе «Одномерный человек», данный труд принес ее автору всемирную известность. Вместе с тем, по его оценке, «Одномерный человек» «ставит больше вопросов, чем дает ответов» [9]. Аналогичное замечание высказывал А. Макинтайр. По его мнению, утверждения Г. Маркузе остаются «свободно плавающими, скорее наводящими на размышления, чем полностью понятными, и …невозможно с какой-либо точностью сказать даже то, что предлагается» [15, с. 97].
Это замечание в полной мере относится к идее одномерного мышления. Казалось бы, после описания в первой части книги одномерного общества во второй части, которая названа «Одномерное мышление», будет дан анализ мышления одномерного человека – массового человека одномерного общества. В действительности же в этой части Г. Маркузе рассматривает регрессию двухмерного мышления от Платона и Аристотеля до одномерного мышления отдельных представителей аналитической философии. А вопрос о характеристике одномерного мышления как такового остался открытым.
Поставленная Г. Маркузе проблема одномерного мышления практически не представлена в современном исследовательском поле (если не считать немногочисленные публикации популяризующего характера, в частности связанные с характеристикой клипового мышления). Но ее актуальность все же признается, особенно в связи с тенденцией глобального упрочения того типа общества, которое было предложено назвать «одномерным». Ф.И. Гиренок констатировал, что «сегодня нормально быть профессионалом, позитивно одномерным человеком…» [3, с. 9]. Г. Бирел подчеркивает, что актуальность концепции одномерности важна сейчас, после четырех десятилетий реализации неолиберального проекта, при котором появились поколения людей, никогда не сталкивавшихся с перспективой альтернативы [13, с. 167].
Практическая актуальность преодоления одномерного мышления наиболее остро осознается практическими психологами, работающими в сфере корпоративного менеджмента. Так, описав четыре стиля неправильного управления, гуру менеджмента И.К. Адизес указал на их общую черту: «…Все они представляют собой жесткие стереотипы. Менеджеры, которым присущи эти стили, страдают ограниченностью и одномерным мышлением. У них весьма узкое представление о самих себе и о своих задачах» [1, с. 139]. По оценке И.И. Шеломенцевой, ярко выраженная одномерность мышления менеджеров «препятствует адекватному пониманию ситуации, восприятию других людей и затрудняет межличностное общение» [11, с. 9].
Возникает вопрос об альтернативе одномерного мышления. В решении данной проблемы сложился концептуальный разрыв. С одной стороны, апеллирующие к Г. Маркузе авторы в своих исходных теоретических положениях ограничиваются соотнесением одномерного (позитивного) мышления и двумерного (негативного, критического) мышления [12; 14]. С другой стороны, в получивших распространение концепциях многомерного мышления проблема одномерного мышления не упоминается, а многомерность понимается как плюралистичность, многоаспектность, многофакторность и т. д. [2].
Напомним, что такого рода плюрализм присутствует и в одномерном обществе. Г. Маркузе квалифицировал его как проявление одномерности мышления [9, с. 4].
Возражая Г. Маркузе, со своей стороны заметим, что идейный плюрализм так или иначе ведет к взаимной критике, то есть к возможному формированию режима двухмерности. Но если следовать замечанию Г. Маркузе, такая критика оставляет мышление в состоянии одномерности. Негация, «голое» отрицание, по его мнению, не означает двухмерности мышления. В чем же состоит последняя – неясно.
Таким образом, если признается факт существования одномерного (в определенном смысле) мышления, то допускается и существование типов мышления иной размерности. Концептуальная схема Г. Маркузе формально не исключает предположения об «n-мерности» мышления. Но это потребовало бы описания исторической последовательности обществ – одномерного, двумерного, трехмерного и т. д. В горизонте социальной философии такой уход в «дурную» бесконечность выглядит абстрактной перспективой, поскольку одномерное мышление Г. Маркузе соотносил исключительно с развитым индустриальным обществом.
Следовательно, нужно отказаться от соотнесения одномерного мышления и одномерного общества, понимаемого как развитое индустриальное общество. Феномен одномерного мышления первоначально следует описывать не в социогенетическом, а в собственно когнитивном аспекте – безотносительно к конкретно-историческому типу социальности – и соответственно когнитивной интерпретации желательно выявить и охарактеризовать типы мышления иной размерности. Для спецификации этих типов мышления представляется целесообразным оттолкнуться от того понимания одномерности, которое было предложено в концептуальной схеме Г. Маркузе.
Содержание концепции одномерного мышления
Как одномерное общество Г. Маркузе определяет развитое индустриальное общество. С его точки зрения, одномерному обществу исторически предшествует двухмерное общество – дотехнологическое (феодальное и раннее индустриальное) общество. Двухмерное общество характеризуется как общество с оппозицией, антагонистичное и устремленное к историческим альтернативам.
Одномерному обществу присущи одномерное сознание, поведение и мышление, одномерная культура. Г. Маркузе также пишет об одномерной цивилизации – индустриальной стадии развития европейской цивилизации.
В качестве признаков одномерности мышления указываются:
– безальтернативность;
– тоталитарность (цельность);
– стремление к сохранению status quo;
– ограниченная способность к трансцендированию, т. е. к мышлению за пределами status quo;
– конформизм, стремление следовать вместе со всеми;
– препятствование качественным переменам;
– состояние тотальной и постоянной мобилизации для защиты одномерного универсума;
– атрофия способности выявлять противоречия;
– преодоление и унификация противоположностей;
– препятствование абстрагированию и опосредствованию, отказ от познания движущих сил, стоящих за фактами;
– непререкаемое установление правого и неправого, ориентация на решение, мнение, приказ;
– забвение истории, перевода негативного в позитивное;
– отсутствие автономии, творческой инициативы и критики;
– стандартизованность;
– отождествление вещи с ее функцией;
– операциональная рациональность в рамках общей иррациональности целого.
В философии и науке Г. Маркузе находит одномерное мышление в позитивизме, операционализме и функционализме, в дискурсе аналитической философии, стремящейся к однозначности языка.
В частности, о темах аналитической философии он пишет: «Слишком часто оказывается, что анализ направляется даже не обыденным языком, но скорее раздутыми в их значении языковыми атомами, бессмысленными обрывками речи, которые звучат как разговор ребенка, вроде “Сейчас это кажется мне похожим на человека, который ест мак”, “Он видел малиновку”, “У меня была шляпа”. Витгенштейн тратит массу проницательности и места на анализ высказывания “Моя метла стоит в углу”» [9, с. 230].
По отношению к приведенным Г. Маркузе примерам следует заметить, что мышление обрывками речи – это не просто одномерное мышление, а одномерное «короткое» мышление («короткомыслие»). Сам Л. Витгенштейн, судя по технике построения его работ, обладал одномерным «длинным» мышлением.
Проблематизация концепции одномерного мышления
На взгляд Г. Маркузе, общества бывают только одномерными и двухмерными. Одномерное мышление описывается как явный регресс по сравнению с двухмерным мышлением, хотя само одномерное общество оценивается как несомненный общественный прогресс, как результат воплощения разума с беспрецедентной степенью рационализации [9, с. 104]. Двухмерное общество оценивается не как желанное будущее, а как «отжившая и отсталая культура, которую можно вернуть только в мечтах или в форме своего рода детской регрессии» [9, с. 77]. Впрочем, допускается, что некоторые элементы двухмерной культуры можно будет возродить в посттехнологическом обществе.
Характеризуя одномерное мышление, Г. Маркузе отмечал, что оно возродило магически-ритуальный язык [9, с. 135]. Поскольку магически-ритуальный язык господствовал в доиндустриальных обществах, последние, как можно предполагать, в целом должны быть одномерными обществами. Но ранее при противопоставлении развитому индустриальному обществу они описывались как двухмерные общества. Налицо противоречие в концептуальной схеме, выявляемое при ее системном анализе. Так какими все же были докапиталистические (примитивные, архаические и традиционные) общества – двухмерными или одномерными? В социально-философском плане возникает проблема идентификации размерности обществ.
В аспекте социогенеза двухмерность мышления Г. Маркузе описывал, с одной стороны, как объективную рефлексию архаической оппозиции природы и культуры [9, с. 86]. С другой стороны, он рассматривал двухмерность мышления как эпизодический момент: а) высокой культуры; б) раннего индустриального общества; в) контркультуры в рамках развитой индустриальной цивилизации; г) посттехнологического общества. Таким образом, социально-исторический статус двухмерного мышления не вполне ясен, а однозначное позиционирование двухмерного общества как общества с господствующим или подчиненным укладом проблематично.
В целом складывается впечатление, что «одномерность» и «двухмерность» – это метафоры, которые довольно трудно концептуализировать в предмете социальной философии, да и любой научно-философской дисциплины.
Феномен одномерного мышления, судя по его отдельным проявлениям, по-видимому, действительно существует. Одномерное мышление выглядит как относительно более простое и ограниченное по сравнению с двухмерным мышлением. Последнее более сложное, менее распространено и может регрессировать в одномерное мышление.
Поэтому одномерное и двухмерное мышление можно понимать как разные уровни организации мышления (и сознания в целом). Двухмерное мышление включает в себя одномерное мышление в качестве подчиненного операционального уровня. Соответственно нет необходимости связывать размерность мышления с «размерностью» общества. Люди с одномерным и двухмерным мышлением имеются во всех исторических типах обществ: в реальности существует когнитивное разнообразие.
Безусловно, личности с определенной размерностью мышления могут быть модальными в условиях конкретной общественной организации. Они формируют своим сознанием и поведением культуру и цивилизацию соответствующей размерности. Тогда личности с другой размерностью мышления вынужденно функционируют в режиме господствующего формата мышления.
Таким образом, выдвинутая Г. Маркузе концепция одномерного мышления проблематична. Вместе с тем она позволяет поставить в общем виде проблему размерностей мышления. Последние могут интерпретироваться как присущие индивидам уровни мышления. Возникает вопрос: какие уровни мышления могут быть выделены в контексте соотнесения с одномерным и двухмерным мышлением?
Скрытые возможности концепции одномерного мышления
По учению Г. Маркузе, в исторической действительности имеются скрытые возможности развития, которые могут быть актуализированы двухмерным, критическим мышлением. Такие возможности можно обнаружить и в его концепции. В частности, он описал ряд феноменов, которые находятся, на мой взгляд, за пределами и одномерного, и двухмерного мышления.
Так, в книге «Одномерное общество» рассматривается проблема сублимации/десублимации инстинктов (агрессивности, разрушения и смерти, сексуальности), их подавления Принципом Реальности. Говорится о ситуации «бунта инстинктов» [9, с. 100]. Автор отсылает к своей книге «Эрос и цивилизация», в которой подробно рассматриваются основные слои психической структуры (согласно теории влечений З. Фрейда).
Наиболее глубоким, древнейшим и обширнейшим является слой «Оно» – область первичных инстинктов, ориентирующая на удовлетворение инстинктивных потребностей в соответствии с принципом удовольствия. Под влиянием внешней среды часть «Оно» постепенно развилась в «Я», которое координирует, изменяет, организует и контролирует инстинктивные импульсы в соответствии с «принципом реальности». В ходе развития «Я» появляется «Сверх-Я», интроецирующее нормы цивилизации [10, с. 22–23].
На уровне «Оно» человеческое существо – это «пучок животных побуждений» [10, с. 4]. «Я» организует человека, и в нем развивается функция разума. Только фантазия сохраняет приверженность принципу удовольствия [10, с. 4]. В целом Г. Маркузе принимает оценку З. Фрейда: над людьми властвуют импульсивные желания, которые малодоступны голосу разума [10, с. 135–136].
Соображения Г. Маркузе о роли инстинктов и импульсивных желаний в человеческой жизни, ограничиваемых «принципом реальности», позволяют соотнести слой «Я» с одномерным мышлением. Следовательно, человек с неразвитым «Я» живет, управляемый слоем «Оно», и является импульсивным, действующим непосредственно в соответствии с инстинктивными потребностями. Его мышление можно обозначить как нульмерное.
Еще одна скрытая возможность концепции содержится в оценке значимости универсалий (всеобщих понятий). Г. Маркузе констатирует неустранимость универсалий (природа, человек, красота, свобода и др.) из повседневного употребления [9, с. 267–268]. А их эвристическое значение он усматривает в том, что в одной идее они охватывают «возможности, реализованные и в то же самое время замороженные в действительности» [9, с. 276]. Они не поддаются однозначной экспликации и точному соотнесению с конкретно-эмпирическими данностями. Эти категории охватывают частные и потенциальные реализации существования вещей [9, с. 281–282].
На мой взгляд, последовательное мышление универсалиями выходит за пределы двухмерного (критического) мышления. Это мышление со снятыми противоположностями, в котором каждой из крайних альтернатив находится место в общем синтезе. Поэтому данное мышление можно обозначить как трехмерное мышление.
Таким образом, эвристика концепции одномерного мышления позволяет выделить не только двухмерное мышление, но также нульмерное и трехмерное мышление. Все размерности мышления, строго говоря, должны рассматриваться не собственно как размерности, а как уровни мышления. Они также могут быть дифференцированы на подуровни, как, например, одномерное короткое и длинное мышление. И по различным причинам не все уровни мышления представлены у всех людей, что еще в эпоху Просвещения фиксировалось как феномен умственного неравенства.
Гносеологическая легитимация идеи уровней мышления
Концепцию одномерного и двухмерного мышления представляется возможным соотнести с гносеологической традицией различения рассудка и разума, а более широко – с восходящей к Конфуцию и Платону идеей когнитивного разнообразия и когнитивного неравенства.
Наиболее развернуто концепцию различения рассудка и разума сформулировал И. Кант. Как известно, в структуре способности мышления, возвышающегося над чувственностью, он выделял три элемента: 1) рассудок – способность познания в явлениях общего (способность давать правила); 2) способность суждения – способность подведения особенного под общее; 3) разум – способность определения особенного через общее (способность создавать принципы) [6, с. 337].
Различия между тремя познавательными способностями И. Кант демонстрировал на ряде примеров. Так, рассудок спрашивает: «Чего я хочу?», способность суждения задает вопрос: «От чего это зависит?», а разум спрашивает: «К чему это приведет?» [7, с. 258]. Максимы рассудка – мыслить самостоятельно, свободно от предрассудков. Максима способности суждения – мыслить широко, ставя себя на место другого. Максима разума – мыслить последовательно, в согласии с самим собой [5, с. 135–136].
Важно отметить, что И. Кант также выделял уровень мышления более низкий, чем рассудок: «Жить сегодняшним днем (без осмотрительности и забот) не делает, правда, чести рассудку человека; так поступает караиб, который утром продает свой гамак, а вечером приходит в замешательство, не зная, на чем ему спать» [7, с. 209]. Строго говоря, караибу нельзя отказать в способности к познанию, но она весьма ограниченна, так как он живет даже не одним днем, а одним часом. В этом отношении он похож на человека, над которым властвуют импульсивные желания.
И. Кант соотносил использование способностей мышления с социальным статусом: «Действующий соответственно строгому приказу слуга или государственный служащий нуждается только в рассудке; офицер, которому для выполнения задания дано лишь общее правило и представляется самому определить, как поступать в каждом данном случае, должен обладать способностью суждения; генерал, которому надлежит судить обо всех возможных случаях и самому разработать для них правила, должен обладать разумом. Необходимые для этих различных видов деятельности таланты очень различны» [7, с. 223].
Мышление слуги (или государственного служащего), действующего строго по приказу, вполне соответствует описанию одномерного мышления. А способность суждения вполне доступна человеку с двухмерным мышлением.
Подчеркнем, что каждую способность мышления И. Кант рассматривал как природный (естественный) дар (талант). Так, способность суждения в его представлении есть «особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя» [4, с. 153]. И кому-то этого природного дара недостает [4, с. 153]. Возможно, поэтому не каждый становится офицером. Но офицер и генерал должны также обладать рассудком и способностью суждения.
И. Кант обращал внимание на неэффективное использование имеющихся от природы более высоких способностей, если недостаточно владение низшими способностями. «Поэтому врач, судья или политик может иметь в своей голове столь много превосходных медицинских, юридических или политических правил, что сам способен быть хорошим учителем в своей области, и тем не менее в применении их легко может впадать в ошибки или потому, что ему недостает естественной способности суждения (но не рассудка), так что он хотя и способен in abstracto усматривать общее, но не может различать, подходит ли под него данный случай in concreto, или же потому, что он к такому суждению недостаточно подготовлен примерами и реальной деятельностью» [4, с. 154].
Как следует из приведенной цитаты, наряду с недостаточностью упражнений в низших способностях мышления применение более высокой способности может ограничиваться дефектом воли (неспособностью решиться или решить) или деструкцией низшей способности (рассудком, переставшим быть здравым).
Оценивая уровень развития интеллекта людей в целом, И. Кант полагает, что они «действуют в общем не чисто инстинктивно, как животные, но и не как разумные граждане мира, по согласованному плану» [8, с. 13]. Кое-где в частностях обнаруживается мудрость, но «все в целом соткано из глупости, ребяческого тщеславия, а нередко и из ребяческой злобы и страсти к разрушению» [8, с. 13]. И. Кант отмечает, что человеческая жизнь коротка. И требуется необозримый ряд поколений, чтобы научились наиболее полно использовать свои природные задатки [8, с. 14]. Поэтому разумность человека дана только в потенции, которая может быть актуализирована на протяжении всей истории человечества.
Таким образом, в гносеологии И. Канта люди стратифицируются на несколько типов по обладанию способностями к познанию – от «караиба» до «генерала». Способность мышления последнего содержит в качестве природного дара несколько познавательных способностей, которыми он владеет. Мышление остальных людей структурно является более простым, так как они обладают меньшими познавательными способностями (одной или двумя). При этом сформировать путем обучения более высокую познавательную способность, отсутствующую от природы, И. Канту не представляется возможным.
Разумеется, концептуальные схемы И. Канта и Г. Маркузе не совпадают полностью друг с другом. Но у обоих философов представлена идея уровневой организации мышления. Правда, по убеждению И. Канта, когнитивные способности – это природный дар, которому нельзя научиться, но который можно утратить.
Заключение
Перспективность концепции одномерного мышления обнаруживается, на наш взгляд, при ее когнитивной интерпретации. Социально-философская проработка концепции показывает, что гипотетическая связь одномерного и двухмерного мышления с конкретными типами социальности имеет фантомный характер. Наряду с этим внимательный анализ идей Г. Маркузе позволяет дополнительно выявить описания феноменов нульмерного (импульсивного) и трехмерного (разумного) мышления. Указанные «размерности» мышления удобно интерпретировать как его уровни, находящиеся в отношениях базисно-надстроечной детерминации. Частично эти уровни выделялись в рамках гносеологической дифференциации чувственности, рассудка и разума. Привлекательными перспективами представляются систематическое описание всех уровней («размерностей») мышления с учетом наследия гносеологической традиции и данных когнитивной психологии.
Об авторах
Евгений Александрович Тюгашев
Автор, ответственный за переписку.
Email: filosof10@yandex.ru
SPIN-код: 9105-2093
доктор философских наук, доцент, независимый исследователь
Россия, г. НовосибирскСписок литературы
- Адизес, И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / И. Адизес. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 199 с.
- Богатая, Л.Н. На пути к многомерному мышлению / Л.Н. Богатая. – Одесса: Печатный дом, 2010. – 372 с.
- Гиренок, Ф.И. Философские рассуждения об интеллекте: искусственном, органическом и человеческом / Ф.И. Гиренок. – Москва: Философский факультет МГУ, 2021. – 83 с.
- Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант // Сочинения: в 8 т. – Т. 3. – Москва: Чоро, 1994. – С. 5–678.
- Кант, И. Критика способности суждения / И. Кант // Сочинения: в 8 т. – Т. 5. – Москва: Чоро, 1994. – С. 5–330.
- Кант, И. Первое введение в «Критику способности суждения» / И. Кант // Сочинения: в 8 т. – Т. 5. – Москва: Чоро, 1994. – С. 331–385.
- Кант, И. Антропология с прагматической точки зрения / И. Kант // Сочинения: в 8 т. – Т. 7. – Москва: Чоро, 1994. – С. 137–376.
- Кант, И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант // Сочинения: в 8 т. – Т. 8. – Москва: Чоро, 1994. – С. 12–28.
- Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – Mосква: REFL-book, 1994. – 368 с.
- Маркузе, Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе. – Киев: ИСА, 1995. – 352 с.
- Шеломенцева, И.И. Формирование дивергентного мышления будущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Шеломенцева И.И. – Челябинск, 2010. – 24 с.
- Andreev, V.I. Pedagogical factors stimulating the self-development of students’ multi-dimensional thinking in terms of subject-oriented teaching / V.I. Andreev // International Education Studies. – 2014. – Vol. 7. – No. 7. – Рр. 63–68.
- Birrell, G. Education movies and the promotion of one dimensional thinking: a marcusean examination of films made between 2005 and 2017 / G. Birrell. – Canterbury: Canterbury Christ Church University, 2019. – 204 р.
- Huiyan, G. The “One-Dimensional” to “Two-Dimensional” of Ideological and Political Education: Cause of the Problem, Generation and Elimination, Paradigm Innovation / G. Huiyan // Proceedings of the 6th Annual International Conference on Social Science and Contemporary Humanity Development (SSCHD 2020). – Vol. 517. – 2021. – Pp. 47–51. – URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/sschd-20/125951647
- Macintyre, A. Herbert Marcuse: An Exposition and a Polemic / A. Macintyre. – New York: The Viking Press, 1970. – 114 p.
Дополнительные файлы