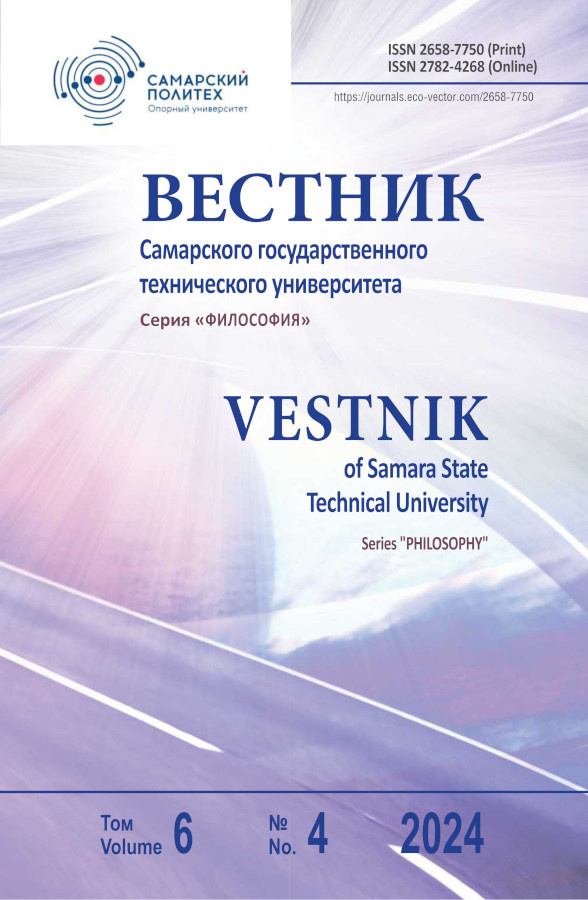Философия И. Канта – предвестник системного мышления
- Авторы: Нуруллин Р.А.1
-
Учреждения:
- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
- Выпуск: Том 6, № 4 (2024)
- Страницы: 126-137
- Раздел: ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692920
- ID: 692920
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Секреты системного отражения явлений лежат в самом процессе мышления. Известно, что любое познание системно и базируется на вере в исходные основания: аксиомы, постулаты и догмы, к которым человек выходит интуитивно. Кант показал, что именно благодаря априорным формам чувственности, рассудка и разума субъекту удается выходить к пониманию явлений за пределами своих ощущений и далее создавать модели отражаемых явлений в бесконечном процессе перманентного отрицания знания своего незнания Космоса, Души и Бога. Большое значение для последующего развития философской и научной мысли имело то, что Кант не только заложил основные принципы системного мышления, но и поставил их в зависимость от уровня развития практического разума, из чего следует, что познание без соответствующего уровня нравственности ведет человека к самоуничтожению.
Ключевые слова
Полный текст
Научная мысль сегодня переживает третий, постнеклассический этап своего развития, который пришел на смену классическому и неклассическому. Характерной чертой данного периода является системный подход, который позволил с единых позиций подойти к исследованию систем бытия из самых разных областей научного знания, что сегодня определило междисциплинарный характер всей современной науки в целом. Но системный подход в научных кругах складывался не сразу, и в своем развитии сам прошел три этапа качественных преобразований, связанных с созданием общей теории систем, кибернетики и синергетики. Долгое время под системой понималось целое как просто сумма свойств составляющих частей. Под целостностью понималась пространственная отдельность вещи в ряду других вещей. Другими словами, вещь интегрировала множество своих частей и была характеристикой своей отдельности среди других вещей, а вместе с тем понималась как модус (видоизменение) единицы в мышлении Космоса. Этот способ представления вещей через понятия (определения единицы) исторически сложился в Античности и был впервые описан еще Пифагором. Далее такое представление целого получило распространение в механике Ньютона, в XVII в. было методологически экстраполировано на получение описаний всех других форм движения материи. По-настоящему становление системного подхода стало возможным с возникновением философии Канта.
Наука как самостоятельная форма общественного сознания начинается с философской рефлексии или осознания своих методов, она складывалась как идейная борьба двух способов познания – эмпиризма и рационализма. Классический рационализм считал возможным достижение объективной истины путем устранения из теоретического знания всего субъективного. Конечно, без влияния желаний и эмоций человека не обходится ни одно знание, но эмоции всегда могли как способствовать разуму, так и противостоять ему. Если в Новое время все субъективное воспринималось как нечто мешающее разуму видеть объективную истину, то Кант впервые поставил вопрос о критериях влияния субъективного фактора на рациональные суждения об окружающем мире. Он рассматривал чувственность не как источник заблуждений и искажений, как это имело место у мыслителей Нового времени, а как необходимый момент в определении границ человеческих возможностей отражения вещей мира на основе категориального анализа процесса мышления субъекта. Он впервые задумался над тем, как субъекту удается из множества своих ощущений, полученных из своих отношений со случайным миром вещей, выйти на уровень восприятия целого, которое никак не может сводиться к простой сумме составляющих ощущений. Восприятие как синтез ощущений все же имеет лишь субъективный статус отражения. Поэтому следующий шаг Канта был связан с анализом процесса перехода оформления субъективного восприятия в знания. Если восприятие связано с образным пониманием человека как знанием для себя, то знание, выраженное в понятиях, связано с умением человека передавать свое понимание другим людям. Данный переход позволяет человеку задействовать рассудок, который, как оказалось, в своем основании (так же, как и чувственность) имеет априорную природу. Связано это с тем, что никто не может получить ответ на вопрос: «Почему законы логики как законы человеческого рассудочного мышления имеют такую форму, которую имеют?» Люди просто верят в законы логики, следовательно, рассудок в своих основаниях имеет априорные формы. Человек просто верит в истинность законов логики. Рассудок, хотя и пользуется одними и теми же правилами построения непротиворечивых последовательностей мыслей при отражении одного и того же явления, все же может выходить к построению множества различных мысленных конструкций – теорий, концепций, вплоть до противоположных. Причем каждая последующая мысленная конструкция об одном и том же явлении оказывается способна рационально объяснить то, чего не могла предыдущая модель. Данное утверждение будет справедливо при отражении как явлений внешнего мира, так и феноменов внутреннего мира человека, включая и их единство – мира самого по себе. Возникает вопрос: «Что же заставляет человека переходить от построения одной модели бытия к другой, более совершенной?» Эту направляющую познавательную функцию Кант выразил в априорных формах разума, данных человеку в виде идей – Космоса, души и Бога, которые человеку дают представление о том, что он на любом уровне познания может знать лишь то, что ничего не знает о вещах самих по себе. Но именно эти априорные идеи разума, вне зависимости от уровня знания о явлениях на трансцендентальном уровне, всегда мотивируют наше мышление к познанию мира как такового самого по себе. Правда, никогда этого не достигая.
Человек как часть Космоса и обладатель интуиции, которая, как известно сегодня, определяется уровнем работы его бессознательного, способен при определенных условиях внутреннего эмоционального напряжения, а также при определенном уровне информации и знаний выходить к неожиданным инсайтам в виде рождения в себе новых идей и смыслов. Правда, работа бессознательного человека пока не поддается однозначному научному отражению, а потому сегодня мы имеем целый спектр направлений, предполагающих различные спекуляции на эту тему. Взгляд на интуицию как на исключительно человеческий феномен, через который Вселенная заявляет о себе, становится особенно актуальным на современном этапе развития человечества, когда оно оказалось перед революционными переменами, связанными с изобретением квантового компьютера и систем искусственного интеллекта (ИИ). Именно системы ИИ угрожают сегодня человечеству, поскольку способны отодвинуть отдельного человека на вторые роли в плане реализации как личности в обществе. Сегодня массовый (одномерный) человек, о формировании которого мечтают власть имущие, используя информационные технологии, становится просто опасным феноменом для современного мира.
Думается, искусственному интеллекту, каким бы мощным он ни был и какими бы объемами информации не располагал, все же не дано что-то придумывать, наделять новые отношения смыслами, любить, рождать, обманывать и т. п. Машина может работать намного лучше и быстрее человека, но она это может делать только с готовыми реально возможными смыслами, заранее прописанными в памяти машины при инсталляции программы. С развитием и быстрым внедрением систем ИИ может оказаться так, что традиционный бизнес будет полностью алгоритмизирован и автоматизирован. У человека, освобожденного от рутинного как физического, так и умственного труда, нет другого выхода как заниматься творчеством, то есть заниматься созданием нового – того, чего никогда еще не было. Именно по этим критериям, думается, будет выстраиваться новая стратификация личности в обществе будущего. Труды Канта показывают то исключительно человеческое качество – интуицию, которое никогда и ни при каких условиях не может быть отнято у человека. Человек без интуитивного творчества перестает быть человеком, становится просто роботом. Все это выводит на новый уровень этику отношений между субъектами всех уровней. Существующий сегодня уровень нравственности оставляет желать лучшего, что становится самым главным препятствием к дальнейшему развитию техногенной цивилизации на Земле. Заслуга Канта – обращение внимания человечества на эти проблемы. Именно работы Канта поставили перед философами и всем человечеством вопрос о необходимости соответствия уровня развития научной мысли уровню нравственности [15, с. 18–33].
Методология исследования. В основе методологии исследования лежит диалектика, которая позволяет создавать умозрительные конструкции сложных многомерных объектов как тождества противоположных категорий. На основе оценок мировоззренческих представлений о прошлом в развитии социальных систем категориальный арсенал философии позволяет выдвигать адекватные суждения о возможных путях развития человечества в будущем. В работе также используются общенаучные методы и принципы: соответствия, дополнительности, системности и синергетики, которые позволяют рассматривать мир как многоуровневую саморазвивающуюся систему вертикальных и горизонтальных отношений. В работе также используется метод идеализации, позволяющий в предельно абстрактной форме создавать умозрительные конструкции. Идеализация позволяет многообразие отражения реальных социальных процессов за длительный период истории человечества свести к исследованию одного интеграла, который в существенных отношениях концептуально будет отражать этапы реальной истории. Знание необходимых аспектов социального развития может стать для человечества надежным инструментом управления своим будущим, который так необходим человечеству перед лицом глобальных угроз.
Основные идеи исследования, результаты и их обсуждение. Становление классической науки начиналось с работ Р. Декарта (1596–1650), Г. Галилея (1564–1642), Р. Гука (1635–1703), И. Ньютона (1643–1727). Для науки XVII в. было характерно господство механицизма, а потому познавательные интересы мыслителей того времени были направлены на выяснение целостных свойств вещей исходя из знаний свойств их частей. Описание мира, основанное на представлениях Ньютона, на отражении движения центра масс макротел и суперпозиции сил, адекватно отражало движение объектов неживой природы. Для механицизма было характерно также распространение данной методологии на отражение эволюции живых систем. Так, например, Г. Спенсер (1820–1903) пытался всю сложность эволюционного процесса свести к простой теории равновесия сил, подобно ньютоновской механике [2, с. 26–27]. Законы механики также были экстраполированы на анализ развития общества, сначала это выражалось в виде идей гуманизма эпохи Возрождения, а позже в работах А. Сен-Симона (1760–1825) перекликалось с идеей поступательного развития общества, движущими силами которого выступали индивидуальные качества человека (воспитание, образование, мораль, религия) [8, с. 111–121].
С изобретением микроскопа (1698) в XVII в. А. ван Левенгуком (1632–1723) постепенно стало утверждаться мнение о том, что мир, оказывается, далеко не исчерпывается законами механического движения и причинности, а полон жизни и внутренних причин. В отличие от пассивных, не имеющих внутренних причин объектов неживой материи, активность систем живой природы определяется внутренними стремлениями. При этом активность целесообразных систем в настоящем времени их бытия в большей степени определяется правильными представлениями о будущем, нежели прошлыми отношениями. А потому живые системы полностью как бы не подпадают под общее определение вещи как причины других вещей [16, с. 54–64].
Философское обоснование этих новых для того времени фактов, связанных с изобретением микроскопа, а также с открытием дифференциального исчисления, позволяющего математике описывать движения вещей при помощи дифференциальных уравнений, попытался дать Г. Лейбниц (1646–1716) в «Монадологии» (1714) [7, с. 112–136]. Согласно Лейбницу мир вещей субстанционально определяется действительным (идеальным) уровнем бытия, составленного из монад-дифференциалов. Причем само действительное бытие, которое человек может открыть при помощи математики, выступает составляющей формально-возможного бытия под началом монады Бога. Сами монады низлежащего уровня как мыслимые дифференциалы ранжированы по степеням своей осознанности и составляют математическое бытие тождеств идеальной действительности. Идеальные монады как «причины конца» (целевые причины) под синхронизирующим Началом Предустановленной гармонии, осуществляемой монадой Бога, определяют по «принципу минимума» (экономии сил) все многообразие вещей реального уровня бытия. По Лейбницу, качественное системное разнообразие феноменов объективно до человека уже заранее определено выбором как лучшего из миров монадой Всеблагостного Бога, имеющего под своим началом максимальное количество сущностей-энтелехий (то есть монад), к которым как к своим идеалам стремятся все вещи реального уровня бытия [12, с. 91–95].
Дальнейший шаг в сторону системного мышления субъекта в отражении внешнего, внутреннего миров и мира в целом самого по себе предложил И. Кант. Он совершил переворот в философии, обосновал необходимость перехода от «философии субстанции» к «философии человека» и призвал философов обратить свое внимание не на рациональное описание интуитивно полученных субстанций, а на философское отражение мыслительных возможностей человека. Человек вынужден отражать мир как бы изнутри, исходя из своих ощущений и интуиции. Поэтому его сознание оказывается между двумя бесконечностями, представленными в виде «знания своего незнания», которые говорят субъекту о невозможности познания мира до своего телоса как в сторону отражения объектов внешнего мира (Космоса), так и в направлении познания вглубь своего внутреннего мира (души) [19, с. 5–16]. Тем не менее человеку оказывается доступно частное познание явлений. Поэтому Кант направляет свои усилия по определению границ познаваемости человеком действительности. Он впервые обратил внимание на тот факт, что философия, изначально нацеленная на построение целостной картины мира, всегда оказывается лишь отражением пусть и всеобщего, но все же лишь одного из возможных концептуальных вариантов систем бытия – метафизики в зависимости от выбора субстанциональных начал бытия [9, с. 41].
По сути, философ в своих построениях пытается рационально (в соответствии с законами человеческого мышления) доказать то, что его, находящегося в состоянии напряженного поиска, неожиданно посещает на интуитивном уровне нужная мысль. Поэтому любое рациональное знание в качестве исходного суждения всегда имеет иррациональное основание, представленное в виде интерпретации восприятия фактов или интуитивно полученных озарений. Таким образом, любая научная или философская мысленная конструкция, представленная в виде теории или концепции бытия, всегда оказывается авторской, то есть субъективно найденным отражением объективного или трансцендентального (всеобщего, по Канту) аспекта мыслимого мира. Поэтому истинность логических суждений рассудка на выходе последнего умозаключения оказывается не выше истинности того, что мыслитель закладывал в начале цепочки своих рассуждений, – иррациональные положения (факты или гипотезы) [11, с. 156–161].
В целом все рассуждения и концепции, представленные разными мыслителями за всю историю культуры человечества, будут отражать широкий спектр различных аспектов одного и того же многомерного бытия. Многомерного в том смысле, что каждый философ-мыслитель открывает свой абсолютный смысл из множества существующих атрибутов субстанции бытия. Данное представление о многомерности субстанции формально напоминает концепцию Б. Спинозы с единственным отличием: он как пантеист из всего многообразия атрибутов субстанции Бога отводит человеку в качестве доступных только лишь два атрибута – материальный и духовный [24, с. 163–182]. Ближе к современным многомерным представлениям о познании мира в философии науки оказался со своей анархической теорией научного познания П. Фейерабенд. Согласно П. Фейерабенду различные теории, направленные на отражение одного и того же явления, не должны стремиться к доказательству своей исключительности, а должны допускать рядом множественность других определений. По его мнению, чем разностороннее будет исследован отражаемый объект, тем полнее будут наши представления о нем [23, с. 142–146]. Думается, данный способ отражения сложных объектов – человека, общества и т. п. – имеет хорошие перспективы.
Но, возвращаясь к представлениям Канта, следует признать, что он все же стоял на позициях критики многовариантности в отражении пусть и очень сложного, но все же одного и того же большого мира. Здесь он скорее выступает с позиций классической чистой науки, где одному явлению с необходимостью должна соответствовать одна теория, полностью очищенная от субъективных искажений. Исходя из этих установок можем предположить, что философия в целом как одна из форм общественного сознания, направленная на отражение самого большого феномена – мира в целом самого по себе, должна отражать его в идеале при помощи одной постоянно совершенствующейся теории или философской концепции. Но философия как форма отражения мира «вещей самих по себе» явно не отвечает кантовским представлениям о трансцендентальном субъекте.
При отражении мира философы за всю историю придумывали множество онтологических и метафизических конструкций, каждая из этих умозрительных моделей бытия освещает тот или иной необходимый аспект мира на уровне феноменов в сознании человека. С точки зрения формальной логики при отражении одного и того же объекта в одном и том же месте, времени и отношении исследователь не может допустить одновременного существования противоречивых суждений и теорий. Следовательно, по Канту, эти противоречия не могут принадлежать миру самому по себе, а скорее будут относиться к мышлению человека. Здесь Кант выступает как мыслитель-рационалист, ратующий за возврат мышления на новом уровне к идеалам Нового времени. Именно представители Нового времени были склонны рассматривать эмоции человека в качестве источника заблуждений в познании, которые мешали разуму видеть сущности за вещами. Поэтому, по мнению Канта, внимание философов необходимо переориентировать с моделирования внешнего мира на мир мышления человека с целью определения границ его познавательных возможностей [9, с. 44].
К тому времени борьба между эмпиризмом и рационализмом закончилась ничьей, и было понятно, что оба методологических подхода в научном познании имеют право на существование. Поэтому Кант пытается в своей философии найти точки соприкосновения обоих подходов в естествознании. С одной стороны, непонятно, как субъекту на уровне эмпирических данных о своих ощущениях удается перейти к целостному восприятию объекта, в существовании которого он не сомневается. Ведь восприятие человека явно не сводится к сумме ощущений, тем не менее человеку каким-то образом при помощи бессознательного удается выйти к смыслам, стоящим за ощущениями. С другой стороны, теоретическое описание чистой науки, основанной на математике, всегда обладает всеобщностью. Спрашивается, как возможны всеобщие суждения с использованием методологии математики, которая базируется на априорных суждениях, то есть лишь на вере в свои аксиомы? [9, с. 37–40].
Далее Кант ищет такую составляющую чувственности, на основе которой стали бы возможны всеобщие суждения, и находит ее в особой форме чувственности – интуиции, называя ее «априорными формами созерцания пространства и времени». Возникает вопрос: почему же Кант, который полжизни отдал изучению Космоса, придает пространству и времени лишь субъективный статус? Да, действительно любое явление есть изменение в пространстве и времени. В этом смысле все явления мира определяются целостными свойствами бесконечной Вселенной, следовательно, пространство и время сами по себе есть прерогатива Вселенной. Но когда все процессы меняются, как пространство и время, то для самих явлений как составляющих пространства и времени ничего не меняется. Человеку как субъекту оказываются доступными для отражения лишь относительные изменения одного явления по отношению к другому. Таким образом, субъекту время само по себе недоступно для отражения, но доступна длительность, то есть изменение одного явления по отношению к другому, и не более. Что касается пространства, то имеем подобный результат. Субъект не может судить о том, что есть абсолютно большое или маленькое. Все, что больше человека, мы называем большим, и наоборот. Именно поэтому категории пространства и времени у Канта стали внутренними априорными свойствами мышления человека, которые позволяют ему системно (систематически, по Канту) организовывать внешний мир вещей при помощи геометрии и внутренний мир своих мыслей при помощи арифметики [9, с. 500–502].
Кант нашел решение вопроса о том, как человеку удается выйти к созерцанию сущности за вещами и далее сделать шаг в сторону научного отражения системности объектов путем наделения их смыслом, то есть понимания смысла явления как целостного восприятия своих ощущений от отношений с явлением. Другими словами, путем отражения явления в сознании не как простой суммы, а как синтетического единства, составленного из множества ощущений своих отношений с отражаемым объектом. Секрет системного мышления заключается в созерцании не только интуиции чувственности, но и рассудка и разума, слаженная работа которых определяется соответствующими им априорными формами. Другими словами, секрет целостности системных объектов кроется в структуре человеческого мышления, при этом сама системность суждений стала выступать прерогативой и главным критерием научного мышления [9, с. 487].
Таким образом, Кант совершил переворот в философии, осуществив переход от метафизики субстанции к понятийному конструированию мыслительных возможностей человека. Показал исключительность априорных форм мышления в достижении системности познания на уровне оформления восприятия, рассудка и разума [4, с. 266–287]. Все эти познавательные характеристики субъекта придают знанию системность, являющуюся, по Канту, главным критерием научного мышления. В дальнейшем идеи системности нашли свое развитие сначала в лоне идеалистической немецкой классической философии [5, с. 41–162], а далее в материалистической философии К. Маркса и Ф. Энгельса [13, с. 164–175]. Хотя Канту удалось в синтезе объединить эмпирический и теоретический уровни познания, для этого ему пришлось ввести два не совсем ясных понятия – это «вещи сами по себе» и «априорные формы чувственности, рассудка и разума». Дело в том, что кантовские априорные формы мышления оказались недостаточно обоснованными, и И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель подвергли его критике. Возможность интуитивной деятельности человеческого «я» классики немецкой философии попытались обосновать через феноменальную деятельность Мирового Духа («Я»). По Гегелю, развитие (возникновение новых форм) происходит потому, что мир чистых понятий Абсолютного Духа противоречив и подчиняется формуле: тезис, антитезис, синтез. На этой основе Гегель разработал концепцию системного развития истории человечества. Он рассматривал становление объективного духа (развитие истории и культуры) как производное от движения чистых понятий Абсолютного Духа к Абсолютной Идее в процессе постижения Абсолютной Истины. Маркс, перенеся систему диалектики Гегеля на активную материю, разработал идею естественного развития общества как смены формаций [6, с. 183–200]. Ф. Энгельс разработал диалектическую систему развития природы [22, с. 63–67]. Оказалось, что целостные свойства системы более определяются структурой, а не свойствами ее частей [1, с. 271–275].
В начале XX в. идея системности стала проникать в естествознание, что связано с появлением работ по теории систем В.В. Богданова [18, с. 92–95] и Л. фон Берталанфи [20, с. 5–17]. Создание теории систем определило начало формирования междисциплинарных связей в развитии науки. На базе теории систем в конце 40-х годов возникает кибернетика как теория систем управления Н. Винера [3], а в 80-е годы – синергетика как теория саморазвивающихся систем в работах Г. Хакена [10, с. 70–75] и И. Пригожина [17]. Достижения в области междисциплинарных исследований привели в конце ХХ в. к становлению нового постнеклассического идеала рациональности, без которого сегодня не обходится ни одно научное представление о мире [21, c. 163–207]. Синергетика открывает созидательную ценность случайности при возникновении нового в области как систем реального мира, так и мышления [14, с. 42–68].
Заключение
Ценность кантовской концепции познавательного мышления человека заключается даже не столько в решении каких-то философских проблем системности и определении границ познавательных возможностей человека, сколько в содержащемся в его философии эвристическом потенциале для последующих исследований. После своего возникновения философия Канта часто подвергалась критике современников, что позволило положить начало генерации множества направлений в философии и методологии науки. Так критика кантовского субъекта, связанная с неисторическим его представлением, привела в дальнейшем благодаря трудам философов жизни и неокантианцев к созданию истории и всего гуманитарного знания как полноценной науки, построенной на основе методологического различения естествознания как науки о законах природы и гуманитарного знания как науки о событиях. Следует также отметить, что Кант, решая проблемы восприятия и описания системности, одновременно оставил после себя новые проблемы, ставшие отправными точками для дальнейших философских измышлений, например, связанных с обоснованием: 1) мира как совокупности «вещей самих по себе» и 2) априорных форм созерцания, рассудка и разума. Попытка подвести основание под кантовские априорные формы положила начало целому направлению философской школы классического немецкого идеализма и далее марксизма, что определило и продолжает определять социальное развитие всего человечества как борьбу политических систем. Появление философии Канта способствовало также большим изменениям в плане возникновения теоретической составляющей гуманитарного знания в дополнение к фактологической истории и в дальнейшем становления на этой базе гуманитарного знания как полноценного научного знания. Его философия обусловила возникновение современных тенденций в естествознании, которые связаны не только с расширением сфер системного приложения в различных областях познания, но и с синтетическим объединением научных направлений, которое стало возможным благодаря широкому распространению системного подхода. Так, идеи системности проникли в естествознание в виде общей теории систем, кибернетики и сегодня синергетики. Можно сказать, что весь XX век прошел под знаком бурного развития системных подходов как в сфере научного познания, так и в области организации социальных систем. Если еще относительно недавно, в 80-е годы XX в., синергетика всерьез не воспринималась даже многими естественниками, то сегодня можно с полной уверенностью констатировать, что системные междисциплинарные исследования во многом определяют облик современной постнеклассической науки. Именно в недрах постнеклассической науки возникла возможность формирования единых подходов к отражению сложных многопараметрических (космических, геологических, экологических, социальных, экономических и др.) систем любых отношений – как в естественных, так и в гуманитарных науках, что способствует их постепенному сближению друг с другом в синтетическом единстве, которое так необходимо современному человечеству в эпоху становления информационной цивилизации.
Об авторах
Рафаиль Асгатович Нуруллин
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Автор, ответственный за переписку.
Email: nurulla958@mail.ru
SPIN-код: 4472-3348
доктор философских наук, профессор кафедры общей философии Института социально-философских наук
Россия, г. КазаньСписок литературы
- Богданов, А.А. Социализм науки: Научные задачи пролетариата / А.А. Богданов // Русский позитивизм: Лесевич, Юшкевич, Богданов / Сост. С.С. Гусев. – Санкт-Петербург: Наука, 1995. – 362 с. – С. 271–275.
- Васильева, А.С. Идея эволюции в философии Герберта Спенсера / А.С. Васильева // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2018. – № 1 (8). – С. 26–27.
- Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Пер. с англ. И.В. Соловьева. – Москва: Советское радио, 1958. – 216 с.
- Гайденко, П.П. Иммануил Кант: от субстанции к субъекту, от бытия к деятельности / П.П. Гайденко // История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – Москва: Книжный дом, 2011. – 376 с. – С. 266–287.
- Гулыга, А.В. Немецкая классическая философия / А.В. Гулыга. – Москва: Рольф, 2001. – С. 41–162.
- Гродский, В.С. Развитие основных идей экономической теории / В.С. Гродский. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 464 с. – С. 183–200.
- Зинковский, С.А. Монадология Готфрида Лейбница, философский персонализм и богословие личности / С.А. Зинковский, И.В. Головина // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. – 2020. – № 4 (32). – С. 112–136.
- Ионе, В.И. Эволюция религиозно-политического мифа К.А. Сен-Симона / В.И. Ионе // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. – 2017. – № 15. – С. 111–121.
- Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. – Москва: Мысль, 1994. – 591 с.
- Кореневская, М.Г. Герман Хакен как основатель синергетики / М.Г. Кореневская // Современные междисциплинарные методы исследований в гуманитарных науках: сб. статей Воронежского государственного университета. – Воронеж, 2017. – С. 70–75.
- Курашов, В.И. Начала философии науки / В.И. Курашов. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. – 516 с. – С. 156–161.
- Майоров, Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница / Г.Г. Майоров. – Москва: Изд-во МГУ, 1973. – 264 с. – С. 91–95.
- Миронов, В.В. Философия: учебник / В.В. Миронов. – Москва: Юр. норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 164–175.
- Нуруллин, Р.А. Субъектность как центральное понятие сближения естественного и гуманитарного знания (глава 5) // Постнеклассическая наука и вызовы современности: монография / И.А. Беляев, Т.В. Борисова, Ю.В. Буртовая [и др.]; под ред. д-ра филос. наук А.Н. Сорочайкина. – Тольятти: Издательство ИССТЭ, 2024. – 118 с. – С. 42–68. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=61906798
- Нуруллин, Р.А. Гуманизм как необходимое условие становления планетарной интеграции человечества // SocioTime / Социальное время. – 2018. – № 2 (14). – С. 18–33. – URL: https://www.volgatech.net/sociotime/archive/ – doi: 10.15350/2410-0773.2018.2.18.
- Петрова, Н.И. Метафизика Аристотеля / Н.И. Петрова // Проблемы науки. – 2020. – № 2 (50). – С. 54–64.
- Пригожин, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс; под общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. – Москва: Прогресс, 1986. – 432 с.
- Руди, А.Ш. Теория равновесия как механизма устойчивости / А.Ш. Руди // Омский научный вестник. – 2012. – № 3 (109). – C. 92–95.
- Склярова, А.М. Критическая философия И. Канта / А.М. Склярова // Дискурс: философские науки. – 2016. – № 2. – С. 5–16.
- Соколов, М.А. Системный подход как исследовательская программа в творчестве Л. Берталанфи / М.А. Соколов // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия «Гуманитарные и общественные науки». – 2022. – № 2. – С. 5–17.
- Стёпин, В.С. История и философия науки / В.С. Стёпин. – Москва: Высшая школа, 2011. – 423 c. – С. 163–207.
- Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / А.А. Сычев. – Москва: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 368 с. – С. 63–67.
- Фейерабенд, П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. – Москва: Прогресс, 1986. – 542 с. – С. 142–146.
- Шмидт, А. Понятие в себе и посредством себя: о теории субстанции Спинозы / А. Шмидт // Философия истории философии. – 2022. – Т. 3. – С. 163–182. – URL: https://doi.org/10.21638/spbu34.2022.111
Дополнительные файлы