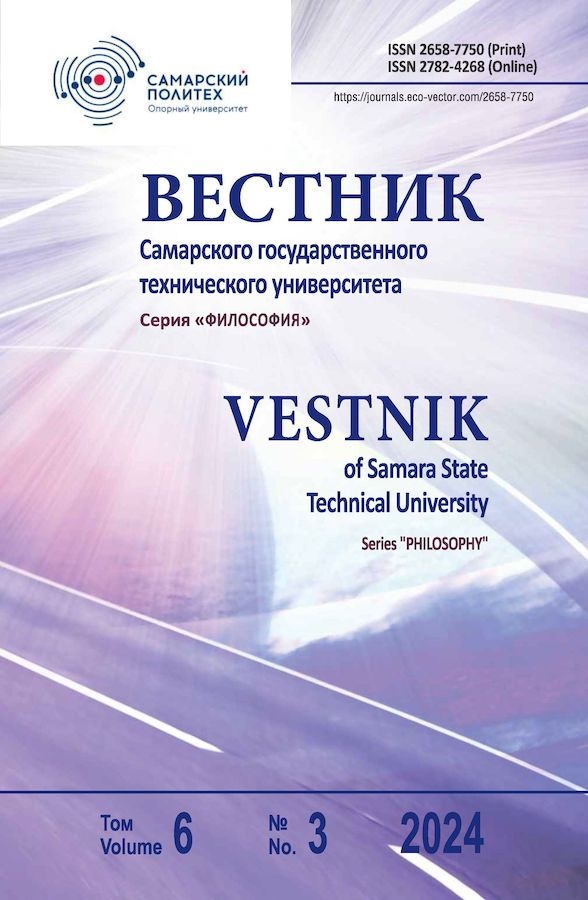Классические философские идеи: опыт сопричастности. Рецензия на книгу З.А. Таисиной «Очерки о философской классике»
- Авторы: Беляев И.А.1
-
Учреждения:
- Оренбургский государственный университет
- Выпуск: Том 6, № 3 (2024)
- Страницы: 115-125
- Раздел: НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. ОБЗОРЫ. РЕЦЕНЗИИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692998
- ID: 692998
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Данная рецензия посвящена анализу и оцениванию книги Э.А. Тайсиной, в которой представлены результаты компаративистских исследований классических философских идей Аристотеля, Эпикура, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля и др. При написании рецензии была предпринята попытка рассмотреть содержание книги как репрезентацию опыта сопричастности ее автора этим идеям. Вместе с тем это содержание трактуется и как побуждение читателей к обретению подобного опыта.
Ключевые слова
Полный текст
Непосредственное рассмотрение содержания рецензируемой книги [1] следует предварить прояснением того, что далее будет пониматься под «опытом сопричастности».
Быть сопричастным – это значит, с одной стороны, иметь отношения с чем-то внешним и, с другой стороны, глубоко ощущать свое единение с ним и общую принадлежность к некоему масштабному целостному человекоразмерному агрегату. Сопричастность возникает и проявляет себя как результат процесса преодоления исходной отчужденности и раскрытия каких-либо фрагментов внешнего мира для внутреннего мира человеческого существа. При этом внутренний мир человека воспринимает поступающую извне разнообразную информацию и, преломляя ее в соответствии со своими особенностями, внедряет в собственное содержание.
Опираясь на дух мало пригодных для попутного изложения представлений Платона о сопричастности идей и вещей [2; 3] и одновременно уходя от их недвусмысленности, мы полагаем возможным сосредоточиться на том, что возникает в процессе приобщения человека к доступным фрагментам бытия, в нашем случае – к философским текстам как средоточию эвристически ценных мыслей. А возникает в этом процессе опыт, целостно и универсально обобщающий все то, что может быть приобретено при прямом контакте с содержательным наполнением этих текстов и вынесено из взаимодействия с теми обобщенными образами избранных фрагментов бытия (равно как и присущими им субъективно важными деталями), которые порождены творческими усилиями их авторов.
Важно отметить, что под опытом сопричастности не следует понимать нечто раз и навсегда зафиксированное. Имеет смысл выразить согласие с Н.Н. Карпицким, ведущим речь о специфичности опыта такого рода и отмечающим, что «в нем актуально переживается лишь фактическое содержание жизни, сопричастная же ему реальность еще актуально не раскрывается и носит потенциальный характер. Из этого следует, что стремление жить мотивирует не фактическое содержание момента жизни, а сопутствующее ему потенциальное содержание» [3, с. 6].
Книга Эмилии Анваровны Тайсиной, вышедшая в связи с 300-летним юбилеем Иммануила Канта, состоит из пяти очерков, являющих собой относительно самостоятельные тексты, посвященные, прежде всего, сравнительноисторическому изложению основного содержания и элементов «биографии» различных философских идей. При этом и внутри каждого из очерков, и вне их, на дистанции возможного соприкосновения, так или иначе представлены две потенциальные составляющие интересующего нас явления сопричастности. В роли указанных составляющих выступают сами философские идеи и люди, генерирующие, интерпретирующие, развивающие их, а также пытающиеся критически проанализировать их место и роль в процессе становления философии. В очерках мы ясно видим раскрытие общего характера конкретных философских идей, а также соотношения их нюансов в концепциях классиков мировой философии. Вместе с тем в них можно усмотреть также тяготеющий к оригинальности образ фрагмента реальности, результирующий доступный читателю опыт сопричастности автора книги и обсуждаемых философских идей.
Тексты, содержательное наполнение которых подвергается анализу в рецензируемой книге, признаны классическими. Эти тексты прошли проверку временем; философы разных поколений находили и находят в них нечто эвристически ценное применительно к собственным исследованиям. Вместе с тем избранные Тайсиной философские тексты характеризуются достаточной для проведения ее исследований идейно-концептуальной и понятийно-терминологической целостностью. Им свойственны контекстуально приемлемые логичность и доказательность рассуждений, а также опора на доступное их авторам научное (и/или преднаучное) знание, благодаря чему выстраиваемые теоретические конструкции оказываются образцами соответствия идеалам рациональности, принятым в определенную эпоху.
Рассмотрим содержание каждого из очерков в том порядке, в котором они представлены в книге.
Очерк I. Методологические различия диалектики познания Канта и Гегеля
Отдавая дань уважения Иммануилу Канту, автор подчеркивает, что в процессе написания данного очерка в фокусе ее внимания было преодоление Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем «известных слабых звеньев кантианства ради придания завершенности философской системе» [1, с. 5–6], разрабатываемой им самим.
Стоит заметить, что философское учение основоположника классического немецкого идеализма богато идеями, содержание которых вполне заслуженно привлекло внимание других мыслителей, чья реакция в одних случаях явилась по большей части позитивной, в других, что неизбежно, – негативной. Как в том, так и в другом случае кантовские идеи подвергаются критике, подчас в той или иной степени далекой от конструктивности, которую допустимо признать универсальной. Критика этих идей Гегелем продиктована спецификой присущих ему взглядов, нашедших концентрированное выражение в его учении – системе абсолютного идеализма. Будучи конститутивно-самодостаточными применительно к учению И. Канта, обсуждаемые идеи естественным образом оказались чуждыми учению Г.В.Ф. Гегеля. Поэтому гегелевскую критику кантовских идей, осуществлявшуюся в контексте его собственного учения, следует признать локально конструктивной.
Гегель – автор диалектико-логической концепции, согласно которой познание должно происходить на основе объективной диалектики. Двойственность кантианства для него, в своей концепции отождествляющего бытие и мышление, органически неприемлема. Непосредственной мишенью совершаемых им критических усилий явился субъективный идеализм, свойственный Канту в рамках критического периода его творчества. Центром данной мишени выступает субъективно-идеалистическая диалектика Канта.
Диалектика Канта имеет эмпирические корни, которые де-факто играют роль онтологической основы его теоретических (прежде всего гносеологических) построений. Ключевыми элементами понятийно-категориального аппарата этих построений выступают понятия последовательности, сосуществования, чувственности, рассудка, разума, всеобщности и др. Субъект, согласно Канту, не имеет врожденных знаний, однако обладает «набором инструментов, орудий, при помощи которых он познает мир. Пространство, время и категории – основные инструменты познания и его условия» [1, с. 12]. Формы логического для него субъективны, объектная же сфера познавательного процесса разделена им на две группы представлений. Во-первых, это представления о самом себе, относимые к сфере внутреннего чувства. Во-вторых, представления об ассоциированных с внешним чувством материальных предметах, которые непознаваемы по своей сути и в связи с этим обозначаются понятием «трансцендентальный объект». Кроме того, Кант предлагает симптоматичную для его диалектических взглядов трактовку соотношения законов тождества и противоречия, отдавая приоритет первому из них, инициируя тем самым возникновение проблемы «антиномий и отличия рассудка от разума, запутывающегося в противоречиях» [1, с. 14].
Диалектика Гегеля есть, в конечном счете, альтернатива диалектике Канта, причем весьма весомая. Не приемля кантовское отношение к материи, Гегель отказывает ему в конструктивности, объявляя аналитическим. В рамках гегелевской диалектики демонстрация диалектического перехода рассудка в разум выступает одним из главенствующих методологических принципов. Если кантовский антиномизм, делающий акцент на противоречиях, загоняющих разум в тупик, стимулирует возникновение сомнения в познаваемости мира, тем самым подталкивая мыслящего субъекта к агностицизму, то гегелевская диалектическая концепция явственным образом исходит из того, что противоречия снимаются в познавательном процессе. Если диалектика Канта предполагает, что вещи, существующие сами по себе, мысли неподвластны, то претендующая на универсальность диалектика Гегеля постулирует не только возможность познания, но и его необходимость. Думается, что верное понимание данного обстоятельства автором книги допустимо считать неопровержимым свидетельством обладания ею опытом сопричастности рассмотренным выше кантовским и гегелевским идеям. Стоит также выразить надежду на то, что читатель найдет в себе желание и силы пойти по проторенному автором пути обретения глубоко личного опыта сопричастности этим идеям.
Очерк II. Методологический арсенал Аристотеля и Канта. Категории
Этот очерк посвящен разработке ряда вопросов, касающихся соотношения методологического инструментария, используемого двумя классиками мировой философской мысли – Аристотелем и И. Кантом.
Каждый из указанных мыслителей в своих теоретически отрефлексированных изысканиях ориентировался на традицию опоры на базисный набор категорий. Кроме того, подходы к познанию действительности, реализованные этими классиками мировой философии, допустимо именовать формальнологическими. Казалось бы, далее должно последовать указание на близость методологических арсеналов Аристотеля и Канта, однако такое впечатление будет коренным образом неверным. Попытка полного или даже частичного отождествления подходов этих мыслителей самым очевидным образом обречена на неудачу. Более того, существенные различия характерны не только для аристотелевского и кантовского подходов, но и для проистекающих из их специфики вариантов понимания того, чем должны являться и являются философские категории.
В учении Аристотеля категории – это понятия, имеющие статус основных, предельно общих и предельно абстрактных. Вместе с тем категории являют собой «не только единые основания бытия и познания, но… и языковые границы мира, а тем самым и пределы познавательных возможностей» [1, с. 32]. В аристотелевых представлениях о категориях слиты воедино сам познаваемый объект, понятие о нем и его языковое обозначение. Акцентирование данного обстоятельства, которое имело место, в частности, в исследованиях представителей схоластики, стало сегодня прерогативой логической учебной литературы.
В наши дни на повестке дня специальных изысканий, как полагает автор обсуждаемой книги, оказался ряд теоретически малоосмысленных и, как следствие, дискуссионных вопросов. Например, стоит обратить внимание на отсутствие уверенности исследователей относительно языковых эквивалентов тех конкретных значений, которые сам античный мыслитель, будь он нашим современником, приписал бы каждой из десяти выделенных им категорий.
Рассматривая нюансы аутентичных представлений Аристотеля о категориях, Тайсина подает пример читателям своей книги, демонстрируя наличие собственного опыта сопричастности идеям, принадлежащим не только античному мыслителю, но и таким интерпретаторам его интеллектуального наследия, как средневековые философы Боэций и У. Оккам, а также современные западные исследователи Г. Райт, К. Америкс и П. Штудтманн.
Заметный, хотя и не первостепенный вклад в учение о категориях внес И. Кант. Данный мыслитель под категориями понимал «априорные формы рассудка, правила упорядочивания опыта, детерминанты, которые, действуя как инструменты получения и одновременно условия существования форм необходимого и всеобщего знания, упорядочивают хаос ощущений после того, как координаты “момент и место” уже заключили их в конфигурацию феномена» [1, с. 40]. В отличие от своего античного предшественника Кант изначально ведет речь о суждениях и только потом, по мере развертывания и фиксации своих идей, частично и, как нам представляется, по большей части формально переходит к применению номенклатуры аристотелевских категорий с учетом вклада ряда интерпретаторов в их понимание, свойственное XVIII веку. Впрочем, заимствование Кантом предложенной Аристотелем терминологии не нивелирует различий тех способов мыслительных действий, которые при использовании определенных категорий подразумевает каждый из них.
Предлагая свое видение философских категорий, Кант не только отказывается от львиной доли наследия Аристотеля, но и критикует сделанный им выбор понятий, объявляя его случайным, не основанным на каком-либо принципе. Свой же подход, позволяющий выстроить классификацию на основе четко очерченного признака, он полагает плодотворным. Здесь стоит признать правоту Тайсиной, отмечающей, что всякая попытка выработать основания выбора категорий для их каталогизации неминуемо вызовет у философов фундаментальные трудности. Кроме того, автор книги подчеркивает, что в случае с рассматриваемыми теоретическими построениями Аристотеля и Канта имеет место «различие подходов к методологическому арсеналу мышления» [1, с. 44], которое она конкретизирует и философски корректно подвергает критическому анализу, что, безусловно, подтверждает мысль о ее обладании специфическим опытом сопричастности.
Очерк III. Гегель критикует Канта (и преодолевает его?)
В следующем очерке автор возвращается к противопоставлению кардинально различающихся аспектов содержания философского наследия И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. Указанных мыслителей, классиков немецкой философии сближает, с одной стороны, то, что они оба выступают с позиций идеализма, рационализма и диалектики. С другой стороны, результаты творческого поиска каждого из них существенно разнятся. В данном очерке во главе угла оказалось критическое отношение создателя абсолютного идеализма Гегеля к субъективно-идеалистическим и агностицистским идеям Канта. При этом основное внимание Э.А. Тайсиной было направлено на «сравнительную оценку законов природы, двуступенчатого разбиения мышления и рассмотрение функций опыта обоими классиками» [1, с. 56].
В процессе сопоставления избранных философских идей автор делает вполне уместный акцент на «преодолении Гегелем Канта». Состоялось ли оно? акой вопрос она, вслед за своими предшественниками, ставит и намечает контуры ответа не него. От определенного ответа на данный вопрос она не уходит, однако дает его в резюмирующей части своих размышлений в следующей формулировке: «Гегель действительно преодолевает Канта – но не отменяет его философию навсегда» [1, с. 83]. Данное обстоятельство может, на наш взгляд, интерпретироваться следующим образом: знакомя читателя с особенностями представлений Гегеля о системе Канта в целом и о некоторых ее деталях, автор демонстрирует свой опыт сопричастности к тому, в чем концентрированно выразились различия позиций двух классиков. Вместе с тем отсутствием спешки с обозначением собственных взглядов она, как представляется, вполне недвусмысленно побуждает читателей к обретению подобного опыта сопричастности.
Оценивая трансцендентальную логику, составляющую весьма весомый компонент содержания кантовского философского наследия, Гегель заявляет о присутствующем в нем неподобающем отношении к природе и к разуму как ее жалкому подражателю. Выступая против того, что ему видится некорректным во взглядах «противника», он стремится абсолютным образом преодолеть «признание существования внешней к сознанию, принципиально непознаваемой “вещи-в-себе”, устранить разрыв между явлением и сущностью и общую “недостроенность” философии Канта» [1, с. 61]. Роль едва ли не универсального инструмента, пригодного для того, чтобы придать кантовской философии, неспособной преодолеть взаимополярности противоположностей, импульс к развитию в должном направлении, Гегель отдает рефлектирующему разуму. Истинной, по Гегелю, является та философия, которая есть область разума, свободного от гнета обыденного сознания. Только такая философия имеет потенциал избавления разума, низведенного у Канта до рассудка, от множества заблуждений, ограничивающих его возможности.
Гегель – мыслитель, творчество которого приближало масштабы философии к тому, что метафорически можно обозначить термином «масштабы бытия». Он, «добиваясь совершенства от своих предшественников, себя самого и философии в целом, пишет законченную картину абсолютного идеализма» [1, с. 82] и получает заслуженную известность как «создатель непревзойденной диалектики как метода, равно как и системы, первой универсальной концепции развития. <...> В целостности, последовательности, законченности его философия выигрывает, конечно, у философии Канта» [1, с. 83]. Тем не менее в наше время, характеризующееся процветанием постмодернизма, кантовское наследие востребовано весьма широко. С одной стороны, в теоретических построениях Канта находят опору для своих изысканий как позитивисты, так и весьма, казалось бы, мировоззренчески далекие от них феноменологи и экзистенциалисты. Однако, с другой стороны, его идеи не чужды и современным философам, стремящимся не только выдвигать и обосновывать нечто новое, но и обеспечивать взаимопонимание с коллегами посредством корректного применения сложившегося понятийно-терминологического аппарата. Так, эвристическая ценность принятых в сфере логики кантовских определений основных форм мышления – понятий, суждений и умозаключений – не подвергается сколько-нибудь обоснованному сомнению благодаря их практической эффективности.
Очерк IV. Принцип единства бытия и познания в метафизике Аристотеля и диалектике Гегеля
В настоящем очерке нашла отражение попытка автора соизмерить идеи, составляющие неотъемлемые части хронологически локализованных воззрений двух классиков мировой философии, касающихся единства бытия и познания как фундаментального философского (онтогносеологического, а точнее – онтогносео-лингвологического) принципа. Этот принцип более или менее явственным образом обозначается и наполняется определенным содержанием в трудах многих мыслителей – носителей европейской культуры. В данном случае автор рецензируемой книги сосредоточилась на раскрытии особенности идей соответствующего рода, характерных для «позднего Аристотеля и раннего Гегеля – в силу внятной рациональности демонстрации позиций и сходства взглядов в отношении совпадения основ бытия и основ познания» [1, с. 88].
Поставив перед собой задачу восстановления в правах обсуждаемого принципа, Э.А. Тайсина обратилась «к истокам философской классики, дабы вернуть на авансцену современности эссенциализм “больших нарративов”, достоинство и фундаментальность рационалистической функции философии» [1, с. 86]. Стремясь как можно более точно зафиксировать позиции Аристотеля и Гегеля относительно рассматриваемого принципа, она уделяет значительное внимание лингвистическим проблемам, сопряженным, прежде всего, с корректностью межъязыковой трансляции нюансов значений, которые в рамках избранных ею конкретных систем философских взглядов придаются отдельным терминам. Добиваясь высокой продуктивности своего исследования, она обращается к получившим известность мыслям идейных предшественников Аристотеля – Парменида, Эмпедокла, Пифагора, Анаксагора, Демокрита, анализирует особенности трактовки деталей концепции Гегеля, представленные в работах Е. Дюринга, Ф. Энгельса и других более поздних философов.
Отталкиваясь от представления о том, что «для Аристотеля совпадение мышления и предмета мышления было возможно только в уме (философского) бога – сознающего себя разума» [1, с. 91], Тайсина погружается в бездну противоречий, преодоление которых требует верного понимания духа и буквы тех положений, которые представлены в дошедших до нас произведениях великого философа. Четкой фиксации позиции Аристотеля по обсуждаемому вопросу препятствует не только и не столько сложность вычленения и воспроизведения его подлинных мыслей сама по себе. Более весомым здесь является то, что при наличии спорных результатов деятельности переводчиков весьма нелегко признать что-то из их числа всецело приемлемым, не имея к тому должных оснований, пусть даже являющихся конвенциональными. Вследствие этого, надо полагать, Тайсина не доходит до заявлений типа: «У Аристотеля рассматриваемый принцип выступает как...», ограничиваясь глубоким, надо отдать ей должное, анализом тяготеющих к объективности обстоятельств, что представляет собой залог обоснованного выбора верного вектора дальнейших философских поисков. Тем самым автор, возможно непреднамеренно, личным примером побуждает читателя, заинтересованного в получении опыта сопричастности прошедшим многовековую проверку идеям Аристотеля, к совершению собственных интеллектуально-творческих усилий.
А вот относительно того, «как был воспринят, изложен и трансформирован Гегелем принцип единства бытия и познания» [1, с. 91], в очерке имеется информация, представленная в удобной для восприятия читателем форме. При усвоении этой информации, проникновении в ее суть, нахождении места для нее в собственной философской картине мира читатель также получит шанс на обретение уже имеющегося у Тайсиной опыта сопричастности идеям незаурядного немецкого мыслителя.
Гегель, преодолевавший в процессе разработки избранного круга вопросов кантовский дуализм, сделал упор на диалектику субъекта и объекта и сформировал установку на рефлектирующий разум. При этом он много размышляет о раздвоении как форме «поляризации противоположностей в противоречии, которые у Канта, да и в формальной логике вообще, застывают в неподвижности» [1, с. 101]. В фокусе его нашедшего продуктивное воплощение внимания оказываются также свойственное И.Г. Фихте «чистое мышление самого себя (тождество субъекта и объекта в форме Я есмь Я)» [1, с. 102] и принцип тождества Ф.В.Й. Шеллинга. Осмысление и творческое преобразование этих и многих других сопутствующих им вариантов концептуализации бытия, познания и их соотношения позволили «раннему» Гегелю выйти на размышления «о согласованности/совпадении разума/мышления и бытия/природы именно в ключе абсолютного идеализма» [1, с. 105]. Создаваемый немецким мыслителем вариант абсолютного идеализма, призванный охватить собой весь универсум, сконцентрировал в себе колоссальный объем оригинально структурированной информации о различных аспектах бытия. Представление о единстве бытия и познания в его рамках наделено статусом принципа, из которого проистекает и концентрированно его выражает понятие абсолютной идеи. Это единство, будучи всеобщим, проявляется соответственно во всем; в частности, любое развитие, согласно Гегелю, происходит по одним и тем же законам.
Очерк V. Истоки зарождения античного скепсиса, философии Эпикура и стоицизма в эпоху империй
Содержательное наполнение последнего из очерков, включенных в книгу Э.А. Тайсиной, в сравнительно небольшой степени тематически корреспондируется с теми сведениями, которые читатель может почерпнуть из рассмотренных нами выше фрагментов рецензируемого материала. Обратившись к анализу философских реалий эпохи эллинизма, автор осознанно ограничивает предметную сферу своих изысканий особенностями учений мыслителей, являющихся представителями трех направлений, выбранных из числа доминирующих в соответствующий период: скептицизма, эпикуреизма и стоицизма.
Античная философия – отправной пункт весьма сложного процесса становления западной философской мысли. Вместе с тем это исключительно важная часть мировой философии, на протяжении многих веков оказывающая влияние воистину беспримерного масштаба на самые разные культурные феномены.
Эпоха эллинизма, ставшая объектом философского анализа, может, по мысли Тайсиной, помочь нам «лучше понять сегодняшний день» [1, с. 117]. При работе над данным очерком автор поставила перед собой две задачи: во-первых, «показать, как сходные условия социального бытия порождают сходные приемы и способы мышления» [1, с. 117], и, во-вторых, «вызвать интерес читающей публики, используя близкую к художественной манеру изложения, ради того, чтобы исторические сведения обратить в запоминающиеся “постигающие” представления» [1, с. 117]. Анализ содержания очерка позволяет вести речь о том, что обозначенные задачи были в целом решены. Причем если эвристическая ценность сколько-нибудь интенсивного обсуждения второй задачи в контексте процесса и результата ее решения не выглядит высокой, то первая задача имеет, надо полагать, право на внимание со стороны любого из читателей соответствующего очерка.
То, что мы «живем в эпоху перемен», сомнению не подлежит. Современный человек утратил ранее незыблемую, казалось бы, укорененность в бытии. Он «в известном смысле является наследником всех предыдущих эпох – и ни одной конкретно» [1, с. 116]. При этом реалии вчерашнего дня уходят в прошлое семимильными шагами, а приходящие реалии, не успев закрепиться, то есть социокультурно опредметиться и синхронизироваться с человеком, утрачивают толком не проявившуюся актуальность. Нечто подобное – с поправкой, конечно же, на особенности исторически обусловленных деталей – имело место в эпоху эллинизма. Приобщаясь, пусть даже фрагментарно, к основам философии мыслителей данной эпохи, читатель рецензируемой книги имеет реальную возможность получить, по примеру ее автора, опыт сопричастности соответствующим идеям. Кроме того, у читателя появляется перспектива проецирования на конкретные ситуации, в которые его вовлекает реально-жизненный процесс, потенциально плодотворное содержание, присущее этому опыту.
Сочетая в своих исследованиях использование исторического и логического методов познания, расширяя их возможности посредством присовокупления к ним ряда иных составляющих философского инструментария, Тайсина выявляет основные варианты хода мыслей философов эпохи эллинизма.
Так, она показывает, что участие Пиррона из Элиды в военных походах Александра инициировало формирование мировоззрения скептиков; вследствие этого в философский обиход вошли такие понятия, как «“адиафорон” – “безразличие”, “атараксия” – “бестревожность”, “апатия” – “бесстрастие”, “эпохэ” – “воздержание от суждения” и “эвдемония” – “блаженство”, состояние мудреца» [1, с. 122–123]. Общий «настрой» содержания, мыслимого в перечисленных понятиях, симптоматичен. Сомнение, которое явилось базисом обсуждаемого мировоззрения, постепенно усилиями Тимона Флиунтского, Секста Эмпирика и их единомышленников не только обрело теоретико-эмпирические основания, но и стало точкой отсчета при выдвижении идей, востребованных не только внутри сообществ скептиков, но и за их пределами.
«Наиболее оптимистичное, светлое и спокойное мировоззрение, – как вполне резонно отмечает Тайсина, – сложилось у первых эпикурейцев. Пришли, например, выдержка и усмешка: а что случилось? Вспомните о спасающей силе разумной деятельности! Вы же философствующие субъекты – так примите эту реальность» [1, с. 124]. Автор показывает, что в мировоззрении представителей данного направления нет места негативному восприятию чего-либо из происходящего вокруг. Людям, как учили Эпикур и его последователи, следует избегать того, что их волнует, страшит и разобщает. Не надо заниматься политикой, вести идейные споры. Наряду с этим необходимо стремиться к счастью, усматривая его «в отсутствии жажды, голода и холода, а пуще всего в невозмутимом спокойствии философа» [1, с. 125].
Мировоззрение, категорически противоречащее тому, которым обладали эпикурейцы, было выработано и получило распространение усилиями представителей стоицизма – от Зенона до Марка Антонина Аврелия. Космос есть, согласно их представлениям, «большой живой организм, целесообразный до мелочей: поэтому следует делать свое дело на своем месте и радоваться, что этим служишь вселенскому телу» [1, с. 127]. Если эпикурейцы проповедовали этику счастья, то для стоиков приемлемой оказалась этика долга, диктующая необходимость бесстрастия, терпения, жизнестойкости, покорности судьбе.
Трудно не согласиться с Тайсиной, завершающей рассматриваемый очерк следующим утверждением: «Более глубокое знакомство с эллинизмом должно помочь обрести самосознание и/или утраченную идентичность современным людям. И понять если не философию, то политику всех диктаторов: правь, иначе управятся тобой» [1, с. 130].
Сумма представленных выше результатов анализа каждого из очерков, составляющих содержание обсуждаемой книги, являет собой только некоторую часть возможной целостной картины изложенного автором историкофилософского материала. И чем значительнее будет глубина и точность приобщения читателя к этой картине, тем больше шансов на эвристическую ценность обретаемого им опыта сопричастности идеям, соприкасающимся и противоборствующим в книге, обобщающим их философским концепциям и выдвинувшим их мыслителям, а также взглядам автора, имплицитно и эксплицитно присутствующим в книге.
В сущности любое достаточно грамотное историко-философское исследование может трактоваться, да и на самом деле является презентацией имеющегося у автора собственного уникального опыта сопричастности соответствующему кругу философских идей. Внимательное чтение рецензируемой книги свидетельствует о том, что ее автор приобщилась к идеям выдающихся мыслителей, являющихся представителями античной и классической немецкой философии. Стоит надеяться, что обретенный и продемонстрированный ею опыт сопричастности выступит действенным побуждающим началом для тех, кто только стоит на пороге приобщения к историко-философскому знанию. Здесь имеет смысл упомянуть известный немалому числу людей принцип армейского обучения, обозначаемый фразой: «Делай как я». Думается, содержание обсуждаемой книги можно интерпретировать как призыв автора к своим читателям делать как она, искать и находить свой глубоко личный путь приобщения к философской классике.
Таким образом, материал книги Э.А. Тайсиной «Очерки о философской классике» следует признать достойным вкладом в осмысление идей ряда выдающихся мыслителей прошедших эпох. Рекомендуя книгу к прочтению, считаем необходимым особо подчеркнуть то, что она может использоваться как достойный образец грамотного осуществления историко-философского поиска и как ценный источник информации философами с разным уровнем профессиональной квалификации, занимающимися проведением собственных исследований. Вместе с тем стоит обратить внимание предполагаемых читателей и на педагогический потенциал рецензируемой книги. В этом отношении книга Эмилии Анваровны Тайсиной принесет практическую пользу вузовским педагогам, преподающим дисциплину «История зарубежной философии» и, надо полагать, в еще большей степени студентам, изучающим ее.
Об авторах
Игорь Александрович Беляев
Оренбургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: igorbelyaev@list.ru
SPIN-код: 8918-7755
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии, культурологии и социологии
Россия, г. ОренбургСписок литературы
- Тайсина, Э.А. Очерки о философской классике / Э.А. Тайсина. – Пенза: Социосфера, 2023. – 134 c.
- Платон. Сочинения: в 4 т. / Платон. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007. – Т. 2. – 626 с.
- Карпицкий, Н.Н. Всеединство как основа ощущения жизни / Н.Н. Карпицкий // Соловьевские исследования. – 2008. – № 3 (18). – С. 5–13.
Дополнительные файлы