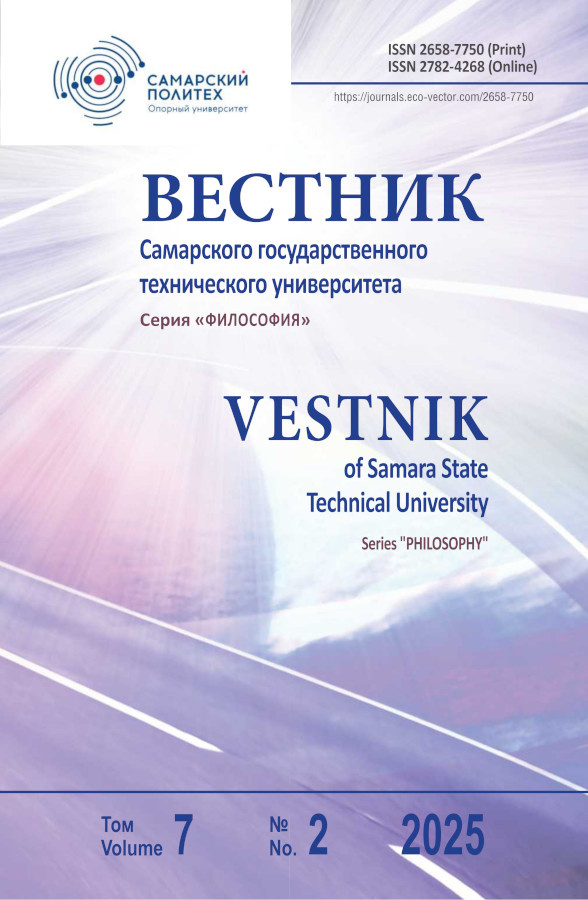Traditional values: the logic of the concept
- 作者: Tyugashev E.A.
- 期: 卷 7, 编号 2 (2025)
- 页面: 5-13
- 栏目: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692794
- ID: 692794
如何引用文章
全文:
详细
The article examines the concept of traditional values in the context of specific traditions, as well as taking into account the distinction between values and various phenomena of reality.
全文:
Актуальность темы статьи обусловлена развернувшейся в современном мире битвой за традиционные ценности. В фокусе идейной борьбы оказываются конкретные институты и практики. Но общее представление о традиционных ценностях не сформировано.
В частности, в авторитетном международном исследовании констатируется, что общепринятого определения понятия «традиционные ценности человечества» пока не существует [9]. Признается отсутствие в международном праве однозначных определений понятий «традиция» и «ценность» [15, с. 204]. Едва ли эти понятия «понятны всем и не требуют каких-либо разъяснений», как допускает Н. Семёнова [15, с. 204]. В результате возникают неопределенность и произвольность в выделении традиционных ценностей.
Разрешение соотношения неопределенностей видится в твердом соблюдении логики концепта. Традиционные ценности должны быть именно традиционными, относящимися к конкретным традициям. А объекты, идентифицируемые как ценности, должны быть именно ценностями, а не любыми объектами окружающей действительности. Необходимо начать, как учил Конфуций, с «исправления имен».
Историко-философская параллель
За последние два десятка лет исследователями предложен не один перечень традиционных ценностей, в том числе духовно-нравственных ценностей России, они обозначены и в официальных документах. Тема начинает обсуждаться. Выдвигаются конкурирующие версии, что напоминает ситуацию в ионийской натурфилософии, где относительно количества и вида начала не все учили одинаково [1, с. 71].
Неудовлетворенность вызывают длинные списки ценностей. В.И. Слободчиков убежден, что нужна короткая формула, подобная триаде «православие – самодержавие – народность» [16, с. 50]. Наиболее подходящей и универсальной он считает формулу «вера – народ – Отечество» [16, с. 51].
По оценке Г.А. Борщевского, классификации традиционных ценностей, содержащиеся даже в официальных документах, лишь частично пересекаются между собой [3, с. 71]. Кроме того, предлагаемые наборы традиционных ценностей слабо согласуются с положениями мировых религий [3, с. 83].
По верному наблюдению Д.А. Давыдова, «традиционные ценности на поверку оказываются далеко не всегда российскими и тем более традиционными» [5, с. 51]. А.В. Петров справедливо полагает, что многие ценности, декларируемые как традиционные российские ценности, вполне можно назвать универсальными, по крайней мере, для христианского мира [12, с. 37–38].
Отмечается крайняя обобщенность представлений о содержании конкретных ценностей, что угрожает «огромным релятивизмом их интерпретации» [8, с. 72]. Ведь та же «семья» может быть и «шведской», государство – фашистским, а религия – сатанистской.
Далеко не все традиционные ценности, относимые к духовно-нравственным, являются таковыми. Очевидно наличие среди них феноменов правовых, политических и др.
Из-за неоднозначности понятия «ценность» (смысл, значимость, идеал, ориентир и т. д.) нельзя вообще быть уверенным в том, что выделяемые объекты (например, природа) действительно являются ценностями.
По ироничному замечанию Е.А. Степановой, списки традиционных ценностей составляются по принципу включения «всего хорошего», т. е. всех возможных добродетелей [20, с. 103]. Это напоминает первичную смесь гомеомерий Анаксагора.
Высказываются сомнения в существовании традиционных ценностей. Постсоветский дискурс традиционных ценностей С.В. Чапнин предлагает «воспринимать не в контексте аксиологии, а лишь как прагматический идеологический инструмент» [19, с. 137]. Концепт «традиционных ценностей» предлагается интерпретировать в функции политического симулякра, проекта конструирования «изобретенной традиции» России [8, с. 73].
Достигнутый уровень философского осмысления проблемы традиционных ценностей демонстрируют результаты научного проекта «Национальные ценности России: трансформация исторических смыслов в XXI веке», выполненного в рамках деятельности выдающейся научной школы МГУ имени М.В. Ломоносова «Трансформации культуры, общества и истории: философско-теоретическое осмысление». По итогам реализации проекта национальными духовно-нравственными ценностями предложено считать безопасность, семью, справедливость, религию, патриотизм [11, с. 54–56].
Как можно заключить, традиционные ценности выделяются весьма произвольно и без достаточного основания. Думается, что к актуальному, во многом наивному дискурсу философии традиционных ценностей вполне можно отнести давние слова Аристотеля: «Ибо похоже на лепет то, что говорит обо всем прежняя философия, поскольку она была молода и при своем начале» [1, с. 92].
Феноменологическая ситуация
Рассматривая проблему выделения традиционных ценностей, исследователь оказывается в феноменологической ситуации. Ее особенность состоит в том, что некоторый феномен традиционных ценностей в рамках сложившейся структуры сознания признается существующим и на уровне естественной установки фиксируется ряд его возможных проявлений. Существование этого феномена представляется онтологически допустимым, но признаки феномена, его сущность и проявления надежно не определяются.
Для решения проблемы репрезентации феномена традиционных ценностей можно применить процедуры феноменологической редукции. При этом предложенные Э. Гуссерлем процедуры следует воспринимать не буквально, а лишь как примерные ориентиры. Методическая эффективность процедур выступает главным критерием оправданности их использования.
Первый этап исследования можно соотнести с «феноменолого-психологической» редукцией. Выключим естественную установку, воздержимся от номинирования конкретных ценностей, вынесем их «за скобки» и выясним, что нам требуется знать о традиционных ценностях. Во-первых, требуется перечень ценностей, и желательно – перечень небольшой (очевидно, 5–7 единиц, доступных для запоминания). Во-вторых, запоминаемость традиционных ценностей (и их воспринимаемость) в массовом сознании должна быть апробирована (и пролонгирована) в историческом процессе. В-третьих, традиционные ценности должны быть выделены с учетом их социокультурной специфики: традиционные ценности разных государств, конфессий, этносов должны различаться. Универсальные «общечеловеческие ценности» (безопасность, справедливость и т. п.) этнокультурную специфику не отражают и не должны включаться в перечни традиционных ценностей. При желании они могут быть отнесены к архаическим ценностям (богатство, здоровье, порядок, сила, чистота и т. п.).
На этапе эйдетической редукции необходимо произвести отбор эйдосов, в которых отображаются традиционные ценности. С философской точки зрения проблему традиционных ценностей предпочтительно обсуждать в рамках философии истории, поскольку именно в этой дисциплине вводится представление о традиционности. Аксиологическое понимание ценности при этом снимается и используется как абстрактное методологическое средство, релевантное предмету философии истории.
В философии истории имеются две парадигмальные позиции, позволяющие предложить альтернативные интерпретации традиционных ценностей. С позиции классической философии истории традиционные ценности желательно соотносить с конкретными традициями. С позиции современной философии истории традиционные ценности следует выявлять в традиционном обществе (в его противоположности либеральному, техногенному обществу).
При интерпретации традиционности целесообразно исключить такой критерий традиционности, как принадлежность к традиционному обществу. Проблема традиционных ценностей актуализировалась именно в техногенных обществах. Она обусловлена не только ретенцией – актуально данными следами прошлых восприятий, но и протенцией – предвосхищением устойчивого существования этих ценностей в будущем. Кроме того, ограничение традиционных ценностей традиционным обществом не продвигает нас в решении проблемы выделения традиционных ценностей, так как любые проявления этого общества могут быть интерпретированы как традиционные ценности. Поэтому под традиционными ценностями в результате эйдетической редукции следует понимать ценности, принадлежащие конкретным, достаточно авторитетным традициям.
Эйдос магистральной традиции
Искомые традиции, как предполагается сущностными структурами сознания, должны быть: 1) авторитетными, то есть устойчиво существующими на протяжении длительного времени и транслирующими оптимальные для социума образцы поведения, к которым неизбежно происходит возврат; 2) не узколокальными, а достаточно масштабными для общества; 3) не частными (например, духовно-нравственными), а фундаментальными, то есть выступающими основой всех сфер общественной жизни социума. Такие традиции можно обозначить как магистральные традиции [17].
Термин «магистральная традиция» одним из первых использовал, по-видимому, М.М. Бахтин, который писал: «Нас интересовала лишь магистральная традиция народно-праздничного смеха, подготовлявшая Рабле (и вообще Ренессанс), и ее постепенное затухание в последующие два века» [2, с. 133]. В современной научной литературе термин «магистральная традиция» используется редко. Судя по различным контекстам употребления термина, традиция данного типа воспринимается как существующая исторически длительное время и сравнительно мощная. Другие традиции по сравнению с ней оцениваются как малозначимые.
Очевидно, что не все традиции можно оценивать как магистральные традиции. Необходимо отличать консолидированные магистральные традиции от повседневно-бытовых традиций или, например, от внешне похожих, но довольно широких христианской или буддийской традиции. Так, в рамках буддизма обычно дифференцируют три магистральные традиции (тхеравада, махаяна, ваджраяна).
Ввиду неопределенности признаков демаркации магистральных традиций последние пока можно выделять только интуитивно. Некоторые известные традиции (например, конфуцианская традиция десяти тысяч поколений) действительно обладают свойствами магистрали. Наряду с конфуцианством в духовной культуре Китая параллельно развивались сопоставимые по значимости традиции даосизма и легизма. Поэтому можно говорить о существовании нескольких магистральных традиций в одной национальной культуре.
Дискурс сохранения и возрождения традиционных ценностей ориентирован на ценности, принадлежащие именно к магистральным традициям. Так, В.Н. Дежнев и О.В. Новикова среди основных признаков традиционных ценностей отмечают историческую давность, фундаментальность, социокультурную специфичность [6, с. 74]. З.Я. Рахматуллина характеризует традиционные ценности как нормы и образцы жизни, которые на протяжении длительного исторического времени определяют жизненный мир людей [14, с. 15]. Таким образом, феноменологическое решение проблемы экспозиции традиционных ценностей состоит в выделении магистральных традиций и соответствующих им комплексов ценностей.
Реперные точки в идентификации ценностей
Поскольку в модусе эйдетической редукции фактическая сторона феноменов не элиминируется полностью и используется в качестве примеров, то желателен исследовательский консенсус в отношении хотя бы одного убедительного примера выделения традиционных ценностей. Думается, авторитетным примером могут служить пять конфуцианских постоянств. С учетом практики выделения пяти столпов ислама и панча шила (пяти добродетелей) буддизма представляется возможным ориентироваться на пятеричный состав комплекса ценностей конкретной магистральной традиции.
При реализации предлагаемого подхода свод ценностей конкретного социума становится вполне обозримым и исторически конкретным. Удается избежать обычного произвола и потенциальной «дурной бесконечности» в выделении ценностей. Ценность – не просто любое явление действительности. Каждое явление имеет ценность только при определенном способе обращения с ним, а этот способ как раз выражен и закреплен в традиции.
При этом следует учитывать, что в социуме может существовать несколько соперничающих магистральных традиций. Каждая из них транслирует специфический для нее комплекс ценностей. Аксиологическое различие традиций в официальном дискурсе может преодолеваться либо переходом на уровень так называемых общечеловеческих ценностей (жизнь и пр.), либо композицией ценностей, принадлежащих к разным традициям.
Философское представление о ценностях – положительных, нейтральных или отрицательных (в зависимости от ситуации) – допускает интерпретацию как ценностей любых явлений. В рамках парадигмальной ориентации на соотнесение традиционных ценностей с конкретными традициями привлекают внимание следующие определения традиционных ценностей. Т.А. Рассадина определяет традиционные ценности как «разновидности ценностей, в которых отселектирован, передан и воспринят от человека к человеку, от поколения к поколению исторический социальный опыт, аккумулирующий в виде образцов, принципов представления о лучшем, авторитетном в культуре; повторяющий почти в идентичной форме эти ценности, соответствующее поведение на протяжении нескольких поколений или в течение длительного времени в рамках одного общества или регионов, имеющих в какой-то степени общую культуру» [13, с. 12]. А.В. Щербина пишет, что «традиционные ценности – это образцы, которые показали свою жизнеспособность, устойчивость, воспроизводимость, эффективность» [18, с. 67].
В данных определениях традиционные ценности понимаются как оправдавшие себя образцы (модели, нормы) поведения, передаваемые по традиции. Примером образца поведения может послужить конфуцианское благоразумие (чжи). Оно требует адаптироваться к обстоятельствам, обхоcдить препятствие, подобно воде, проявлять изворотливость, что позволяет «“идти вместе с миром вперед”, а если нужно, то и “вслед миру сменить свой путь”» [10, с. 27].
Таким образом, эмпирическая идентификация традиционных ценностей ориентирует на трактовку ценности как нормы (модели, образца) поведения. В связи с трактовкой ценности как регулятивной компоненты сознания возникают исследовательские перспективы: а) дифференциации объекта оценки и стандарта оценки (т. е. собственно ценности) [4, с. 3]; б) трактовки нормы не как регулятивной модели (правила) поведения, а в общенаучном смысле – как наиболее часто встречающегося значения некоторого параметра.
Традиционные ценности русской культуры
Выделение традиционных ценностей русской культуры затрудняется из-за имеющегося представления о том, что в России исчезли магистральные традиции. С.В. Чапнин убежден в том, что «единственная живая традиция в России – это, по сути, советская традиция» [19, с. 131]. Это мнение перекликается с заключением Г.А. Борщевского о фактическом совпадении перечней ценностей в официальных документах и ценностного содержания Морального кодекса строителя коммунизма [3, с. 83].
Впрочем, общепризнанным является существование и продолжение в современной России кирилло-мефодиевской традиции. Это одна из магистральных традиций, унаследованных от Древней Руси. Кроме нее выделяются и другие общественно значимые традиции. «После семи с половиной веков развития русская литература пришла к Новому времени с многообразными традициями. Какие из них главные? Ясно, что нельзя замыкаться в пределах узко литературных традиций, идейных или жанровых, вне связи с обществом, – пишет А.С. Демин. – В данном случае речь пойдет о традициях общественного мышления и общественной психологии, которые складывались веками и формировали лицо литературы» [7, с. 199]. Очевидно, что эти многообразные традиции не исчезли и актуализиру-ются сегодня, как и многие другие черты российской цивилизации.
Внимательное изучение литературы по истории духовной культуры России позволило мне выделить шесть соперничающих магистральных традиций: 1) кирилло-мефодиевскую, 2) киево-печерскую, 3) святогорскую (афонскую), 4) софийскую; 5) домостроевскую, 6) миростроевскую. Эти традиции существуют параллельно друг другу в духовной культуре российского общества на протяжении всей его истории. Различия между этими традициями не обозначались, хотя временами полемика между представителями этих традиций была напряженной, в частности: в XV–XVI веках – между традициями софийской («стяжатели»), миростроевской («жидовствующие») и святогорской («нестяжатели»); в XIX–XXI веках – между традициями домостроевской (славянофилы, почвенники) и миростроевской («жидовствующие», западники).
Таким образом, традиционные ценности России могут быть дифференцированы в соответствии с магистральными традициями (и соответствующими субкультурами). В серии наших предыдущих публикаций по аналогии с пятью конфуцианскими постоянствами обосновано выделение следующих традиционных ценностей:
1) в кирилло-мефодиевской традиции – ценности миролюбия (а не воинственности), гетерархии (как альтернатива иерархии), «делай, как я» (в противоположность формуле «делай, как я говорю»), неизменной верности, подвижничества;
2) в киево-печерской традиции – ценности радостного терпения, инверсивной иерархии, творческого смирения, блаженного фатализма, бытового подвижничества;
3) в святогорской традиции – ценности сохранения себя, новоначалия, среднего пути, общительного жития, внутреннего делания;
4) в софийской традиции – ценности человеколюбия без человекоугодия, послушания без рассуждения, целомудрия, соборного спасения, благоразумной хитрости;
5) в домостроевской традиции – ценности уживчивости (а не угодливости), добропорядочного партнерства (а не патриархальности), осмотрительности (а не самодурства), домовитости (а не скопидомства), чистой совести;
6) в миростроевской традиции – ценности самовластия, взаимного почитания, живости, поновления, хитроумия.
Как можно заметить, в этих параллельных традициях отдельные ценности сходны и аналогичны конфуцианским постоянствам («человеколюбие», «миролюбие»). Имеются ценности («сохранение себя», «средний путь»), которые, как принято считать, не присущи российской культуре в целом. Некоторые ценности хотя и приветствуются в официальной риторике, но малоприемлемы сегодня для населения («радостное терпение», «блаженный фатализм»). Таким образом, возникает проблема синтеза и конструирования жизнеспособного, общественно необходимого набора традиционных ценностей – интегрального набора, для которого единой традиции действительно не существует.
Заключение
Дискурс традиционных ценностей – современный исторический вызов для философской мысли. Для достойного ответа на этот вызов необходимо определиться с приоритетным предметно-дисциплинарным полем описания традиционных ценностей, с парадигмальной стратегией в интерпретации традиционности, а также с такой экспликацией понятия «ценность», которая бы не позволила включать в его объем любые объекты окружающего мира. Предлагается таким приоритетным предметно-дисциплинарным полем считать философию истории, а в ее рамках связывать традиционность не с традиционным обществом, а с конкретными магистральными традициями. Модельным примером такой традиции является конфуцианская традиция, представляющая ценности, известные как пять конфуцианских постоянств.
作者简介
Evgeny Tyugashev
编辑信件的主要联系方式.
Email: filosof10@yandex.ru
SPIN 代码: 9105-2093
Doctor of Philosophy, Associate Professor, independent researcher
俄罗斯联邦, Novosibirsk参考
- Aristotle. Metaphysics. Aristotle Writings. In 4 vol. Vol. 1. Moscow: Thought, 1976. Pp. 63–367. (In Russ.)
- Bakhtin M.M. Collected Works. Vol. 4 (2). Moscow: Languages of Slavic cultures, 2010. 752 p. (In Russ.)
- Borschevsky G.A. Traditional Russian Values: Historical Analysis. Politics. 2023;4(111): 67-93. (In Russ.)
- Burukina O.A. Promising approaches to the study of values in an interdisciplinary paradigm. Philosophical thought. 2023;12:1-20. (In Russ.)
- Davydov D.A. Progressivism vs. Art Nouveau. What do Russian traditional values oppose? Patria. 2024;1(1):50-69. (In Russ.)
- Dezhnev V.N., Novikova O.V. Traditional values: to the definition of the concept. Bulletin of the Shadrinsky State Pedagogical Institute. 2015;4(28):71-74. (In Russ.)
- Demin A.S. Social traditions of Old Russian literature. On the artistry of Old Russian literature. Moscow: Languages of Russian culture, 1998. Pp. 199–207. (In Russ.)
- Illarionov G.A., Gritskov Yu.V., Morozova O.F., Rakhinsky D.V. Traditional values: the ratio of the scientific concept and the political project. Social and humanitarian knowledge. 2023;10:71-74. (In Russ.)
- Study by the Human Rights Council Advisory Committee on the promotion of human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional human values. 2012. Dec. 6. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/185/79/PDF/G1218579.pdf? OpenElement (accessed: 02.01.2025).
- Martynov A.S. Confucianism. "Lun yu". In 2 vol. Vol. 1. St. Petersburg: Petersburg Oriental Studies, 2001. 384 p.
- Mironov V.V., Moschelkov E.N., Alasania K.Yu., Dryaeva E.D., Nikandrov A.V., Tumanovov S.V. National values of Russia: historical traditions. Bulletin of Moscow University. Ser. 7. Philosophy. 2019;6:46-58. (In Russ.)
- Petrov A.V. Universal in a special way: universal axiology in the concept of traditional Russian spiritual and moral values. SocioTime/Social time. 2023;4(36):35-50. (In Russ.)
- Rassadina T.A. Transformations of traditional Russian values in the moral orientations of Russians: abstract of Doctor’s degree dissertation. Moscow, 2005. 52 p. (In Russ.)
- Rakhmatullina Z.Ya. Traditional values of the Bashkirs: history and modernity. Ufa: IIYAL UFITS RAS, 2023. 216 p. (In Russ.)
- Semenova N. Traditional Values in International Law. Humanities and Social Sciences. 2014;3:197-211. (In Russ.)
- Slobodchikov V.I. On the principles, sources and foundations of the traditional values of the Russian world. Spiritual and moral education. 2024;2:46-55.
- Tyugashev E.A. The phenomenon of trunk traditions. Eurasianism: theoretical potential and practical applications. 2022;11:105-109.
- Shcherbina A.V. Traditional Values in Analytical Perspectives of Sociology. Discourse. 2022;8(3):59-69. (In Russ.)
- Chapnin S. The Rhetoric of Traditional Values in Contemporary Russia. Postsecular Conflicts. Ed. by K. Stoeckl, D. Uzlaner. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2020. Pp. 128–137. (In Eng.)
- Stepanova E.A. Everything Good against Everything Bad: Traditional Values in the Search for New Russian National Idea. Zeitschrift fur Religion, Gesellschaft und Politik. 2023;7:97-118. (In Eng.)
补充文件