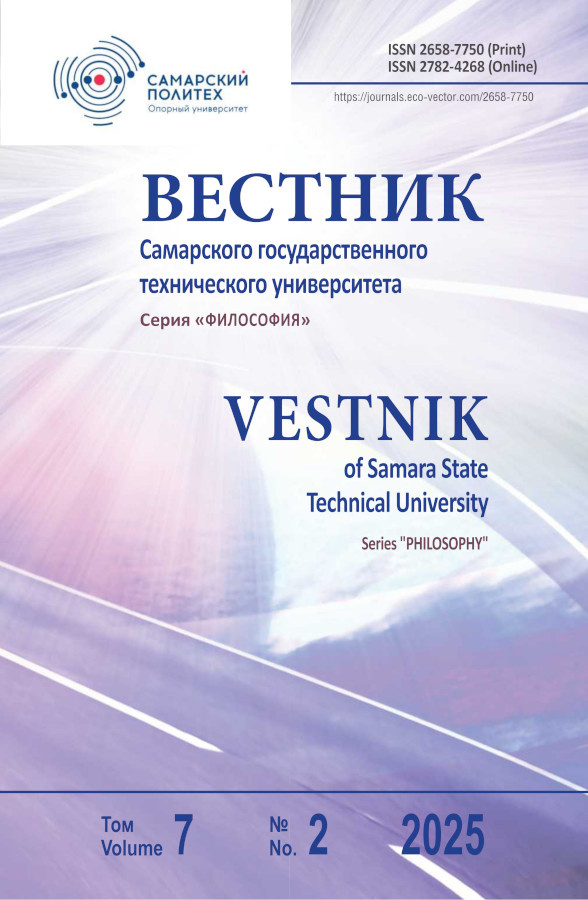Continuity of partition and confluence
- 作者: Tajsina E.A.1
-
隶属关系:
- Kazan State Power Engineering University
- 期: 卷 7, 编号 2 (2025)
- 页面: 101-124
- 栏目: PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692894
- ID: 692894
如何引用文章
全文:
详细
In the history of culture, and in philosophy in particular, there have been and continue to be many ways of thinking about man’s place in the world and our relationship with the Universe. Moving from myth to philosophy and from religion to science, human culture has acquired richness and diversity. In this connection, many trends, currents and schools of philosophy have emerged, addressing the fundamental problems of human life, consciousness, society, science and technology, ethics and logic, aesthetics and language, etc. Historians of philosophy usually try to systematize them, dividing the various schools of thought into large groups that differ from each other in one or more aspects. Most often, these are bipolar divisions, making the diversity of worldviews accessible to analysis. However, any analysis requires synthesis, which usually means “taking a higher position” by a commentator capable of generalizing and moving forward. The author’s main goal is to show the wave-like trajectories of clashing philosophical ideas, illustrating the constancy of division and the reverse movement toward synthesis, sometimes even harmony, or toward a fusion that is often unstable.The article mainly examines two pairs of opposing schools of thought in philosophy, namely essentialism/relativism and empiricism/rationalism, as well as two pairs of closely related concepts: nature/essence and reason/rationality. The author's theory of knowledge, called existential materialism, is presented.
全文:
В античной европейской культуре познание переходит со стадии мифа к научно-теоретическому и философско-мировоззренческому объяснению фактически одновременно. Когда достигается уровень научного знания, предлагаются и философские истолкования. Но это не просто последовательно восходящая «лествица» от мистики или обыденности здравого смысла. Мировоззренческое ветвление на этом пути развития вовлекало противостояние многих сторон.
Исходное положение бывает оспорено следующим же шагом: философия полемизировала с мифом, мировые религии с философией, наука с религией, методология науки с метафизикой, понимаемой как учение о ненаблюдаемой сущности, в которой бытие и сознание совпадают. Однако ничто жизнеспособное не погибает бесследно; все исторические типы мировоззрений существуют до сих пор.
В онтогенезе и филогенезе процесс философского познания, обосновывающий научное мировоззрение, привлекает ряд глосс, интерпретирующих природные и культурные явления. Первоначально демистифицирующие направления мысли распадаются на отдельные течения, образуя противоположные тенденции – ионийская философия против италийской, то есть материализм против идеализма и диалектика против метафизики: европейское наследие, пришедшее из античных времен; реализм против номинализма и haecceitas против quidditas («этовость» против «чтойности») – оппоненты Средневековья; рационализм против эмпиризма, формирующие портрет английского и французского Просвещения, или Нового времени; позитивизм против экзистенциализма, философия жизни против философии науки, опыт против теории, теория против практики и плюрализм против универсализма XIX–XXI вв. Новейшего времени, т. е. современности.
Можно также вспомнить вечные споры о добре и зле, красоте и уродстве, материи и духе, природе и культуре, свободе и необходимости, истине и лжи, любви и долге; о социализме и капитализме, тоталитаризме и демократии и т. д. и т. п.
Переступая определенную черту и нарушая меру устойчивости, разнонаправленные течения мысли, согласно закономерности ленты Мёбиуса или гераклитовско-гегелевскому диалектическому закону, превращаются каждое в свою противоположность. Радикальный скептицизм привел в конце концов к строгой систематизации аргументов (Секст Эмпирик) и догматизации критики догматизма (Энесидем). Кредо Протагора, отца софистики: «Человек есть мера всех вещей, – существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют», – совпало с убеждением средневекового схоласта Уильяма Оккама: «…Интуитивное знание о вещи есть такое знание, в силу которого можно знать, есть ли вещь или нет, так что, если вещь есть, ум тотчас же выносит суждение о том, что она éсть, и ясно познает, чтó она есть» [1, с. 99].
Наверное, самый путаный, но в то же время показательный пример на сегодняшний день – это абсолютизация относительного в постмодернизме. Место, исторически непреложно принадлежавшее Абсолюту (как бы его ни понимали), занял Релятив.
Это не просто неправильное обращение с изучаемым предметом; надлежащее исследование «распутывает» логику преобразований, свойственную раскрытию правил и закономерностей познания.
Действие и проявление основных законов диалектики можно рассматривать с помощью средств аристотелевой логики хотя бы ради наглядности и в дидактических целях. В элементарной логике выделяются три основных шага исследования: конъюнкция, дизъюнкция и импликация, или вывод.
Сознание (точнее, познающий человек, отражающий мир в своем сознании) поначалу впервые встречается с множественностью объектов и событий – и разум начинает перечислять: сущее + сущее + сущее + явление + явление + явление... → всё. Это шаги конъюнкции. На каком-то этапе процесс познания меняется. Сравнивая достаточное количество объектов, устанавливая их сходство и различие по отношению к степени, числу, времени, пространству и т. д., разум начинает действовать иначе: группировать накопленный багаж знаний, классифицировать, целенаправленно устанавливать границы, мембраны, помещая вместо числового ряда некое общее понятие. Дизъюнкция, сродни творению, рационально укрепляет границы «первых сущностей» – индивидов, а затем «вторых сущностей» – видов и родов. Вместо кумулятивного «всего» появляется и во весь рост встает универсальное «всеобщее».
Классификации делятся на два вида: либо ветвящиеся (дихотомические), либо типизирующие по специфическому признаку (решетчатые). Изменение основания деления может быть продуктивным, показывая дополнительные грани изучаемого объекта, но это изменение всегда должно производиться открыто.
Наконец, операция импликации логически отражает способность ума постигать причинность, которая является своеобразным выражением времени.
Однако формальной логики недостаточно, поскольку представляемая ею картина стабильна и лишена движения. Это «анатомия, а не физиология мышления». Чтобы понять последнее, полезна и функциональна только диалектика.
Молодой Гегель, начиная со своей первой книги, написанной в 1801 году, сосредоточил внимание на концепции «раздвоения» (Entzweiung) всех вещей, процессов и событий. В этой форме дуализма оппозиции четко различимы, но в то же время они застывают в своей контрастной взаимной полярности.
“So wie aber der Speculation… sich zum System bildet, so verläβt sie sich und ihr Princip und kommt night in dasselbe zurük; sie übergibt die Vernunft dem Verstand, und geht in die Kette der Endlichkeit des Bewuβtseyns über, aus welchen sie sich zur Identität und zur wahren Unendlichkeit night wieder rekonstruirt” [2, S. 6]. В переводе: «Но как только спекуляция выходит за рамки понятия, которое она сама себе устанавливает, и образует систему, она покидает саму себя и свой принцип и не возвращается к нему. Она препоручает разум рассудку и переходит в ряд конечных [определений] (Endlichkeiten) сознания, из которых она затем не реконструируется в тождество и в истинную бесконечность», – утверждает Гегель [3, с. 151–152].
У Канта такие состояния были определены максимально резко, но диалектика не может останавливаться на полярностях, они должны преодолеваться через их дальнейшее движение.
Таким образом, постоянно предпринимались усилия и попытки, обратные формальному разъединению, дабы стереть границы между противоречивыми явлениями, наблюдаемыми в природе и обществе либо производимыми логикой, – или объединить их в синтезе. Это отражено в основном законе диалектики, законе единства и борьбы противоположностей, который впервые выразил Гераклит, а затем сформулировали Гегель и Маркс. Не говоря уже о кантовских априорных синтетических суждениях, еще на заре европейской философии Сократ объединял интеллект и моральность в сознании, этика Аристотеля свидетельствовала о необходимости нахождения золотой середины между полярными понятиями, а совершенно новая «эпистемология добродетели» Дункана Притчарда, Шейна Райана и Артура Каримова в XXI веке снова связывает рациональность и этику [4, с. 12]. Эмпириокритицизм сто лет назад пытался провести третью линию «за пределами материализма и идеализма», а современный известный польский философ Малгожата Чарноцка предлагает воздержаться от провозглашения дихотомии понятий материального и духовного в силу их неоднозначности и размытости [5, с. 155].
Снятие разделяющих мембран сродни «растворению», утере определенного качества и границы вещей («время любви», по Эмпедоклу). Итогом может стать полнейшая эклектика и почти первородный хаос. Укажем для примера на пресловутую холистически целостнонеразличимую «ризому» постмодернистов, пропагандируемую вместо закона противоречий, будь то антагонистических или покойно единых.
Не принимая этого, мы, однако, можем напомнить о знаменитом научном принципе дополнительности.
Этот принцип, впервые разработанный в версии соответствия, был сформулирован великими учеными XX века Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом в физике и применяется в настоящее время, в том числе и в гуманитарных науках. Он разрабатывается также в философии (ср. у Джонатана Чимаконама): «Поворот к Дополнительности – это концепция, которую мы используем, чтобы уловить коллективистскую ориентацию, которая быстро набирает обороты в мировой философии. Она выступает за приспособление коллективистского подхода к мышлению» [6, с. 15]. Такая гуманитаризация современного естественнонаучного знания, вообще говоря, свойственна настоящему времени; так случилось, например, с теорией диссипативных структур, достоянием физики, которая стала синергетическим подходом, примененным гуманитариями, прежде всего философами, в конце ХХ – начале XXI вв. к объяснению социальных процессов. Упомянутый нигерийский философ продолжает: «Комплементаризм потворствует общинному мировоззрению, характерному для большинства африканских обществ к югу от Сахары, и создает метафизику, этику и социальную философию, которая рассматривает все существующее как недостающее звено реальности» [6, с. 16].
Частично это объясняет эффект коллективных обсуждений в командах («брейнстрёминг», мозговой штурм), заканчивающихся своего рода «осмосом» идей.
Таким образом, постоянство разделения, а также обратные ходы, возвращающие единство противоположностей в непротиворечивое равновесие (временами даже гармонию «золотого века»), противостоя друг другу как распад и интеграция, а также как расхождение и совпадение («сотворение» и «растворение» границ), являются предметом данной статьи.
Методология
В работе используется как формальная (Аристотелевская), так и диалектическая (Гегеля и Маркса) логика.
Анализ и синтез, индукция, дедукция и аналогия, четыре основные закона и все правила формальной логики, прежде всего определяющие отношения между понятиями, операции с суждениями и правила аргументации применяются в статье безусловно. Принимается также, что многие полезные дополнения к элементарной логике были сделаны схоластами: например, «логический квадрат» отчетливо объясняет соотношение между (простыми) суждениями одной и той же материи в аспектах количества (один или много) и качества (утверждение или отрицание). Дополнительно квадрат демонстрирует кардинальное отличие противоположностей от противоречий, что является в нем наиболее важным.
Методически полезной представляется современная разработка проблемы универсалий, – иными словами, дилеммы (средневекового) реализма и номинализма, – осуществленная отечественным логиком и философом Г.Д. Левиным, справедливо указавшим на главное логическое препятствие, мешающее решению этой проблемы в нашей философии, а именно: смешение универсального/ индивидуального и абстрактного/конкретного, соответственно [7].
Для обоснования понятий эссенциализма, эмпиризма и рационализма были привлечены современные исследования ряда авторов «Стэнфордской философской энциклопедии» [8, 9, 10, 11, 12, 13].
Переходя от формальной к логике диалектической: в работе применяются все три самых известных закона диалектики, а также четыре принципа диалектического подхода к объекту познания. Здесь можно вспомнить теоретическое расхождение между молодыми Шеллингом и Гегелем: впервые сформулированная в полемике с Шеллингом, утверждавшим полную тождественность противоречий, следующая панорама в шедевре Гегеля «Наука логики» стала впоследствии наиболее известным объяснением самого «гегелевского» закона о противоположностях как комбатантах, “an dem Bewuβtsein”, – в сознании (а именно закона отрицания отрицания):
“…Das Negative ebensosehr positiv ist, oder… sich Wiedersprechende sich nicht in Null, in das abstrakte Nichts auflöst, sondern wesentlich nur in die Negation seines besonderen Inhalts, oder… eine solche Negation, nicht alle Negation, sondern die Negation der bestimmten Sache, die sich auflöst, somit bestimmte Negation ist; …also im Resultate wesentlich das inhalten ist, woraus es resultiert; – was eigentlich eine Tautologie ist, denn sonst wäre es ein Unmittelbares, nicht ein Resultat. Indem das Resultierende, die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber der höhere, reichere Begriff, als der vorhergehende; denn sie ist um dessen Negation oder Entgegengesetztes reicher geworden, enthält ihn also, aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit seiner und seines Entgegengesetztes. – In diesem Wege hat sich das System der Begriffe überhaupt zu bilden – und im unaufhaltsamem, reinem, von außen nichts hereinnehmendem Gange sich zu vollenden” [14, S. 37–38]. «…Отрицательное равным образом и положительно или,… противоречащее себе не переходит в нуль, в абстрактное ничто, а по существу лишь в отрицание своего особенного содержания, или,… такое отрицание есть не отрицание всего, а отрицание определенной вещи, которая разрешает самое себя, стало быть, … результат содержит по существу то, из чего он вытекает; это есть, собственно говоря, тавтология, ибо в противном случае он был бы чем-то непосредственным, а не результатом. Так как получающееся в качестве результата отрицание есть определенное отрицание, оно имеет некоторое содержание. Оно новое понятие, но более высокое, более богатое понятие, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием или противоположностью; оно, стало быть, содержит предыдущее понятие, но содержит больше, чем только его, и есть единство его и его противоположности. Таким путем должна вообще образоваться система понятий, – и в неудержимом, чистом, ничего не принимающем в себя извне движении получить свое завершение» [15, с. 107–108].
В философии, помимо несравненной диалектики Гегеля, несколько кантовских идей также оказываются методически эффективными.
Автор не придерживается кантианства, но нельзя игнорировать некоторые выдающиеся прозрения кенигсбергского мыслителя; в этой статье используется опора на знаменитую «схему», помогающую философски понять суть форм, опосредующих универсалии (категории).
Сама способность суждения была принята Кантом за синтез теоретического и практического разума. В своей гносеологии Кант уделял большое внимание суждениям, называемым «схемами»: как известно, это было «нечто третье», помещенное между явлениями и понятиями.
“Nun ist klar, daß es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß, und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. Diese vermittelnde Vorstellung muß rein (ohne alles Empirische) und doch einerseits intellektuell, andererseits sinnlich sein. Eine solche ist das transzendentale Schema” [16, S. 187]. «Ясно (Nun ist klar, daß), что должно существовать нечто третье, однородное в одном отношении (einerseits) с категориями, а в другом отношении (andersseits) с явлениями и обусловливающее возможность применения категорий к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе ничего эмпирического) и, тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой – чувственным. Именно такова трансцендентальная схема» [17, c. 158].
Кант справедливо предполагал, что учение о «схемах» продемонстрирует воздействие разума на материал восприятия при помощи введения этих промежуточных ступеней [17, c. 160–161].
Переходя к диалектическому материализму, можно вспомнить четыре принципа диалектики: это всеобщая взаимосвязь, развитие, конкретность истины и практическая определенность связи объекта с потребностями человека.
«Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения. Это во-первых. Во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении… В-третьих, вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В-четвертых, диалектическая логика учит, что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна»…» [18, с. 290].
Используя эти принципы диалектики, мы также находим методически весьма полезными посвященные дилемме эмпиризма и рационализма работы советского философа М.А. Кисселя, который скрупулезно исследовал сходство и различия этих основных направлений современной философии [19].
Автор настоящей статьи не является постмодернистом, но само стремление к более «гуманной» гносеологии, – чтобы не называть ее «субъективной» из-за ненужных (негативных) коннотаций, – в определенной степени импонирует; поэтому в заключительной части представлен абрис новой теории познания с учетом возможности изменения принципа разбиения.
Постоянство разделения
Начнем обсуждение с классического утверждения, что противоречия неизбежны, а их противопоставление, часто переходящее в конфронтацию, является законом. Возьмем пример из физики: универсальные необходимые силы взаимодействия материальных частиц, направленные на притяжение частиц друг к другу, действуют до определенного момента, после чего отталкивание становится могущественнее гравитации. В этой картине мира фундаментальные частицы ведут себя неоднозначно: скажем, электрон может сталкиваться с другими частицами – и при этом дифрагировать как волна света.
Мы не можем изменить законы природы, хотя можем интерпретировать их по-разному, рисуя разные классические и неклассические картины.
Говоря материалистически, постоянство разделения является законом природы и, следовательно, мышления, но противоположности (Entgegengesetzte) отличаются от противоречий (Widersprechenden), что видно и из терминологии: dictum (sprechende) означает «высказанное», например, «тождественно» и «нетождественно», тогда как противоположности допускают некоторое промежуточное состояние: в «Категориях» Аристотеля это серое и палевое, стоящие между белым и черным. Философ указывает четыре способа, при помощи которых вещи могут рассматриваться как противоположные: «О противолежащих друг другу [вещах] говорится четверояко: или как о соотнесенных между собой, или как о противоположностях, или как о лишенности и обладании, или как об утверждении и отрицании. …Например, двойное противолежит половине как соотнесенное, зло благу – как противоположности, слепота зрению – как лишенность и обладание, “он сидит” и “он не сидит” – утверждение и отрицание» [20, с. 79–80]. Смешение или слияние противоположностей (гегелевских Entgegengesetztes) в трех первых случаях вполне может осуществиться.
Возникает проблема: можно ли называть законы природы законами, если они оказываются не необходимыми? Ср.: «Вопрос в том, существуют ли какие-либо контингентные законы природы. Сторонники необходимости продолжают работать над подкреплением своего взгляда, в то время как юмисты и другие уделяют этому относительно мало внимания» [8]. Менее строгим, чем «закон», чаще всего понимаемый как динамический, является понятие «закономерность».
Как в объективной, так и в субъективной реальности существует определенная закономерность, или «логика», развития. Есть следующие «степени заострения» противоречия: целостность – подобие – расподобление – различие – существенное различие – противоположность – противоречие – конфликт. В ходе конфликта противоположности либо уничтожают друг друга и исчезают, как электрон и позитрон, превращаясь в ходе реакции аннигиляции в два фотона, либо одна из сторон выживает – и немедленно осложняется новой противоположностью. Даже не уничтожая противоположность, одна из сторон противоборствующих сил или направлений мысли может получить еще одного-двух оппонентов в дополнение к уже существующему.
Разногласия могут прийти к примирению – многими способами и в разных формах. Если это происходит естественно, то в этом нет ничего необоснованного или вводящего в заблуждение. Скажем, в природе существует множество переходных форм – грибов и полипов, существующих между растениями и животными. То же можно сказать о явлениях в обществе: например, во времена неустойчивого социального развития формируются переходные формы, такие как кооперация.
Яркий пример двойственности, обретаемой в результате эволюции, – естественный разговорный человеческий язык, представляющий собой феномен как естественный, так и культурный. Об этом пишет М. Чарноцка: «Невозможно… идентифицировать языки и лингвистические компетенции как продукт только культуры или только как чисто биологическую структуру человеческого мозга. Это похоже на первичные формы методов познания; можно утверждать, что они возникают в биологическом мире и переходят в сферу культуры непрерывным, эмерджентным образом» [5, с. 140]. «Из расходящихся – прекраснейшая гармония» (Гераклит).
Любопытен пример объединения разных форм и перехода получившегося результата на новый уровень в истории культуры. В ранневизантийской литературе имел место эпизод схождения, или сращивания, двух разных видов стихосложения: древнегреческих «гомеотелевтов» (рифмоидных сопоставлений типа «заблудший – погибший») и восточных двустиший-бейтов; это был прославленный «Акафист» Романа Сладкопевца, родом из Бейрута. Акафист относят к VII веку. Для Византии это стало рождением рифмы; правда, задолго до этого акафиста древнегреческие гомеотелевты произвольно нанизывались в городском фольклоре в любых количествах, но арабские бейты привнесли в эту стихию регулярность: то, что на западе называлось ordo et coherentia [21, с. 243–248]. (На Западе, кстати сказать, рифма к тому времени уже давно существовала).
Да и во всех прочих областях культуры и науки можно наблюдать постоянное различение и слияние. В семиотике смысл оказывается «кентавром», он принадлежит как к чувственной, так и к рациональной сфере; в психологии ощущения помещаются между физиологическим (телесным) и ментальным (идеальным); в эстетике красота противопоставляется не только уродству, но и лжи [22], причем эти последние играют в унисон. В метаязыке наблюдателя – комментатора – интерпретатора это так называемая “higher standing” – позиция наблюдателя: скажем, «третий человек» Аристотеля, охватывающий «первого человека», реального, и «второго человека», идеальное понятие. Или это кантовские «схемы». Или позитивизм в форме эмпириокритицизма. Или социализм, допускающий частную собственность. И так далее.
В философии Гегеля промежуточной стадией между Verstand (рассудком) и Vernunft (разумом) является отрицательный диалектический разум, (по меньшей мере) указывающий на существование взаимодействующих противоположностей.
Постоянство разделения или закономерность сближения означает, что в некоторых случаях правильно говорить не только о различии, но и об определенном сходстве оппонентов: это, скажем, эмпиризм и рационализм. Однако смешение, не говоря уже об идентификации, таких prima facie аналогий, как природа и сущность, разум и рациональность, может оказаться шибочным. Кроме того, одни и те же пары категорий могут допускать как сближение, так и противополагание, в зависимости от обстоятельств. Отдельные примеры конвергенции можно было бы квалифицировать в качестве, так сказать, законных – когда авторы принимают разум и рациональность, этимологически родственные, за синонимы, – и это не редкость. То же самое верно, когда разница между генезисом и основой становится несущественной (природа = сущность), как у Нила Роули [13] или Майкла Митиаса [23]. Было бы также оправданно изменить угол наблюдения за изучаемым объектом, если это изменение четко обозначено и доказана его плодотворность.
В других случаях, однако, совокупность конвергенций может оказаться неверно истолкованной. Российский логик и философ Г.Д. Левин, критикуя пример философского спора Куайна в статье «Об универсалиях», изложенной в виде «философского спора о том, существуют ли универсалии, или абстрактные сущности...», подчеркивает: «Если бы Куайн прямо сказал, что абстрактное и общее – одно и то же, это была бы ошибка. Но эти понятия у него то сливаются, то разделяются. А это путаница» [7, c. 17]. Причина в том, что абстрактность и общность тесно связаны: чем более общим является понятие, тем оно становится более абстрактным и бедным по содержанию, указывает Левин. «В силу… метонимии… термином, обозначающим один объект, нередко обозначают и качественно отличный от него, но тесно связанный с ним соседний объект» [7, c. 16].
Один общий закон руководит допустимостью синтеза: закон взаимного перехода количественных изменений в качественные. Иногда точка изменения известна («вода замерзает при 100 °C»), но в очень многих случаях наблюдатель не может предсказать момент бифуркации. С учетом того, что поле для обсуждения не просто огромное, а бесконечное и безграничное, для более детального анализа были выбраны лишь несколько образцов оппозиций: классические философские пары таких направлений, как эссенциализм/релятивизм и эмпиризм/рационализм, а также родственные категории, имеющие решающее значение для всего исследования: природа/сущность и разум/рациональность. Рассматриваются также некоторые примеры обратного движения от явных противоположностей, стремящегося примирить контрарные тренды.
Выбранные для демонстрации философские направления глубоко изучены в литературе, поэтому сосредоточимся только на основных тезисах – относительно их переплетающегося разделения и взаимной связи.
Эссенциализм и его оппоненты
Начиная с противопоставления не отдельных парных категорий, а целых философских направлений, прежде всего следует вспомнить самое емкое и глубокое суждение, дошедшее до нас из глубины тысячелетий: Всё есть Одно. Это было абсолютным началом истинного философского поиска неизменного фундамента, на котором зиждется Вселенная.
Разные начала претендовали на роль этой вечной материи – μητέρα – т. е. матери всего сущего: вода, Гея, воздух, огонь, число, идея, логос, атом, монада, электрон, элементы... фотон, квант... спин...
Или Бог.
Однако, как уже было сказано, исходная позиция оспаривается следующим же шагом: начинается разбиение направлений, и ветви со временем обретают свою собственную специфику и обоснование.
Классические направления, эссенциализм и релятивизм, зарождаются в Античности: рационалистическая традиция Парменида – Платона – Пифагора подвергалась сомнению Гераклитом, софистами и скептиками. В Средние века главной синтагматической осью стало противопоставление (средневекового) реализма – формы эссенциализма – и номинализма. Глубоко осмысливались различия общего и единичного, сущности и существования, универсального и партикулярного. В эпоху Возрождения реализм стал эпистемологической предпосылкой новоевропейской науки Галилея и Ньютона как метод рациональной интерпретации экспериментальных данных в поисках «истины мира». Но дальнейшее развитие методологии поставило вопрос о границах между «физикой и метафизикой», а основы критики эссенциализма заложили Д. Юм и И. Кант, каждый по-своему. В дальнейшем, в ущерб эссенциализму, появился новый его оппонент: феноменология с ее дескриптивизмом и акцентом на чувственно данном (и чувственно воспринимаемом) мире явлений.
Экзистенциализм также явно оформился в самостоятельное философское направление в XIX–XX вв., и «философия жизни» бросила вызов «философии науки».
Эссенциализму тогда противопоставили себя и экзистенциализм, и позитивизм (начиная с О. Конта), отрицающий «сущности», не сводимые к наблюдениям, – и инструментализм, рассматривающий научные теории как орудия или даже «приборы», которые можно заменить в любое время в зависимости от изучаемого объекта. Позже К. Поппер использовал термин «эссенциализм» для обозначения такого направления в философии науки, которого придерживались мыслители, верящие в возможность окончательного познания вечных «сущностей», лежащих в основе наблюдаемых явлений. Наконец, у эссенциализма появился еще один соперник, названный конструктивизмом.
Если рассуждать онтологически, эссенциализм был поиском единственной объективно существующей основы, или фундамента, способного поддерживать Космос со всеми его бесчисленными свойствами и качествами. Эта основа именовалась «началом», «причиной», «сущностью», «субстанцией», «бытием», «единством», «целостностью» или просто «Единым». Поэтому эссенциализм иногда называют фундаментализмом или монизмом, а дилемма выглядит как «универсализм против плюрализма» [24, с. 137–166; 25, c. 2165–2166; 2195–2196]. (Характерно, что греческое ἓν, в русских текстах традиционно переводимое как «единое», в академических примечаниях А.А. Тахо-Годи к главным диалогам Платона трактуется как «Одно» [24, c. 498], что несравненно правильнее; то же можно сказать об английских переводах, где ἓν – всегда One, Одно). Указанная дилемма периодически вызывает к жизни старый спор об универсалиях. Это обсуждение широко отражено в литературе, поэтому будем кратки, выделим только одну проблему.
У Аристотеля «первые сущности» были единичностями, способными существовать отдельно, т. е. независимо; в то же время «вторые сущности», роды и виды, зависели от индивидов. Поскольку это деление принято, возникают вопросы, в первую очередь о том, существуют ли роды и виды вообще (номинализм это отрицает); и если существуют, как утверждает реализм, то они должны быть либо телесными, либо бестелесными. Если они бестелесны, – пояснял Боэций, обсуждая учение Аристотеля и комментарий Порфирия, – то они либо независимы от тел, как Бог, разум, душа, либо зависят от тел, как линия, плоскость, число или индивидуальное свойство. Таким образом, радикально различаются универсалии как субъекты предикации и как субъекты причастности. Субъекту сопричастно, хоть это и не часть субъекта, некое «сущее», которое не может существовать без него: например, «форма в вещи, имеющей форму». В ранней схоластике (Сократ, Платон, Вергилий) дихотомическое деление, называемое «древом Порфирия», демонстрировало, что деление главной универсалии (категории) – субстанции – сводилось к установлению «первой субстанции» (сущности). Дальнейшее разделение было бы не классификацией понятия, а «разрезанием» индивидуального тела на части. Г.Д. Левин поясняет: «Первая сущность в грамматическом смысле есть имя индивидуального предмета... Она... может быть только предметом суждения. Во втором, онтологическом смысле первая сущность есть сама индивидуальная вещь, обозначенная собственным именем, а «все остальное» – ее атрибуты, которые ее характеризуют, придают ей определенность» [7, c. 25–26].
В поисках прочного якоря, к которому надежно прикреплен Универсум, вы чувствуете гордость и счастье, когда обнаруживаете, что это usia, она же сущность, или субстанция, – но, с другой стороны, вы можете одновременно ощутить удовольствие от того, что этот Универсум, уникальный и единый в своей единственности (лучше выразить это по-немецки: в его Einheit и Einzigkeit), так обширен и многогранен, так щедр и богат содержанием. Это оппозиция высокозначимых категорий, или последних объяснительных абстракций, лежащих в основе разделения: для эссенциализма/реализма это сущность, для номинализма это содержание.
Если говорить о различии сущности и содержания, Одно всегда будет обращаться во Многое, и многие всегда будут подкреплены и поддержаны Одним.
Проблема обсуждается уже тысячелетия [24, c. 359–411; 25, с. 2354; с. 2165–2166], однако она не может быть решена посредством формальной (элементарной) логики, только посредством диалектики. Различные формулировки показывают разные пути мышления; но бытие/материя есть единое, которое есть многое, – и то же самое надо сказать и о сознании.
В настоящее время «эссенциализм в целом можно охарактеризовать как доктрину относительно того, что (по крайней мере некоторые) объекты имеют (по крайней мере некоторые) существенные свойства. Эта характеристика не является общепринятой…, но ни одна характеристика не является общепринятой; и по крайней мере наша имеет то достоинство, что она проста и понятна» [11].
Противоположное видение, называемое плюрализмом, очевидно, было явно сформировано в античной философии Эмпедоклом с его четырьмя корнями и двумя силами, а в Новое время – Декартом и особенно Лейбницем с его «монадами».
Термины «монизм», «дуализм» и «плюрализм» определяются до сих пор исходя из количества и с точки зрения онтологии; но они также иногда используются и в гносеологии, и в социальной философии, хотя и в несколько ином смысле. В онтологии это характеристики числа первичных элементов бытия; в гносеологии это характеристики числа источников знания; в социальной философии это характеристики числа ведущих политических сил или социальных факторов.
На основе установления качества фундаментальной субстанции существует различие между материализмом и идеализмом. Однако следует подчеркнуть, что и материализм, древний и современный, и объективный идеализм совместимы «эссенциалистским» образом в своем поиске ЕДИНОГО субстанциального принципа в Außerlichkeit, в кромешной тьме внешнего мира; оба ищут это ЕДИНОЕ вне человеческого разума, в противоположность субъективному идеализму.
В отличие от ситуации в теориях познания с их противопоставлением гносеологического объекта и гносеологического субъекта, в рамках теорий бытия наличие сознания не «удваивает» Вселенную, разделяя ее на две области – материальную и идеальную. Поэтому борющиеся течения мысли выражены рельефнее и ярче в теориях познания, чем в онтологии. В гносеологии, например, эссенциализм часто объявлялся догматизмом, и ему решительно противостояли: в Античности – софистика, в современности – релятивизм. Основная полемика в таких случаях касалась проблемы абсолютной истины.
Релятивизм возник как античное философское умонастроение и получил в новейшее время мощные доказательства от естественных наук. Огромную роль в этом, как уже подчеркивалось, сыграл принцип соответствия (о наличии переходов между стационарными состояниями), примененный для построения последовательной квантовой механики в 20-е годы XX века. Именно над физической интерпретацией квантовой механики размышляли в то время Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, приняв корпускулярно-волновой дуализм в 1925 году. Результатом стала концепция дополнительности, представленная в сентябре 1927 года. Принцип дополнительности учитывает соположенность оппонирующих идей, обе (или все) из которых обязательны для объяснения с точки зрения первого принципа диалектики как всеобщего метода познания, а именно – всестороннего рассмотрения предмета. Такие отношения между пропозициями противоположного качества или разных объемов называются соподчинением (координацией): это значит, что оба (или все) члена отношения подчиняются одной общей концепции. Этот принцип присоединяет новации к традиции, что для современной науки методологически эффективно.
В наши дни релятивизм можно рассматривать как тенденцию, победившую фундаментализм именно благодаря усилиям постмодернистской мысли. Однако интересно, что основные философские парные течения – реализм/ номинализм и эмпиризм/рационализм – не порывают с идеями эссенциализма. 1. Гипостазируя то «первую», то «вторую» сущность (вслед за Аристотелем), и номинализм, и реализм признают и обсуждают обе категории как познавательные ценности. 2. Спор между рационализмом и эмпиризмом об основаниях человеческого знания касался методологии, а не эссенциалистской установки основателей классической науки [19].
Дело эссенциализма могло быть проиграно с самого начала. Однако в большинстве своем античные и средневековые философы искали основу мира не в мысли, а прежде всего в бытии, лежащем в фундаменте мышления. Периодически возникает призыв «назад к вещам»! Rem tene, verba sequentur! Лейбниц, Гуссерль, Харман, Мейясу…
Кстати, ни один преданный эссенциалист никогда не становится релятивистом, экзистенциалистом, позитивистом или «инструменталистом», не говоря уже о конструктивизме: нет осмоса между основным потоком и отдельными течениями, вмешивающимися в него и/или формирующими русло реки.
Можно утверждать, что эссенциализм выступает как basso ostinato всей симфонии или хора, образуя величественный ансамбль почти пифагорейской Вселенной, и поэтому он не может исчезнуть, воплощая самую первую философскую идею в мире: Всё есть Одно.
Эмпиризм и рационализм
Разница между этими классическими течениями слишком хорошо известна, даже из афоризмов, приписываемых Джону Локку и Готфриду Лейбницу соответственно:
1) нет ничего в разуме, что прежде не существовало бы в чувствах;
2) нет ничего в интеллекте, что прежде не существовало бы в чувствах, – кроме самого интеллекта.
Действительно, спор между Лейбницем и Локком касался вопроса о «начале» познания. Однако ни один из них не придерживался односторонних взглядов: Лейбниц признавал роль опыта, а Локк не был примитивным сенсуалистом. Лейбниц апеллировал как к эксперименту, так и к рассуждению; Локк указывал, что первичные качества не даны в восприятиях фигуры, протяженности или плотности – они производятся действием тел и частиц, недоступных восприятию [19, с. 7]. Аналогично Декарт проводил многочисленные эксперименты, а Гоббс построил свою теорию познания как арифметику в произведении De corpore. Общепризнанно также, что большинство рационалистов и эмпириков поддерживают один и тот же тезис относительно способов, «которыми мы получаем обоснование в своей вере в истинность пропозиции в определенной предметной области», а именно утверждают, что интуиция – непосредственное понимание – и дедукция вместе дают нам знание, независимое от опыта [12].
Современные оценки дилеммы эмпиризма и рационализма в формате концепции эпистемологии добродетели выглядят следующим образом. «Большинство рационалистов утверждают, что существуют важные способы, которыми наши концепции и знания приобретаются независимо от чувственного опыта. Однако, чтобы быть рационалистом, не обязательно утверждать, что наши знания приобретаются независимо от вообще какого бы то ни было опыта: в своей основе картезианское Cogito зависит от нашего рефлексивного, интуитивного осознания существования происходящей мысли... Почти ни один автор не может быть четко причислен к тому или иному лагерю» [12].
Дихотомия на самом деле коренилась в осознании разницы между экспериментально-математическим естествознанием Нового времени, науки Галилея и Ньютона, и старым натурфилософским стилем мышления. Как пояснял М.А. Киссель, «чисто гносеологическое различие между эмпиризмом и рационализмом было не так уж велико, поскольку не было рационалистов, полностью отрицавших роль опыта в познании, и не было эмпириков, не понимавших значения абстрактного мышления» [19, с. 8]. Но экспериментально-математическое естествознание XVII–XVIII вв. выдвинуло новый критерий рациональности, почерпнутый из экспериментальной науки, в противовес философской традиции, поддерживаемой рационализмом, искавшим абсолютные самоочевидные принципы, чтобы на их основании описать всю существующую теоретическую картину мироздания. Прежняя «метафизика» должна была уступить место, по проекту эмпириков, экспериментальной философии человеческой природы. «В этих условиях рационализм, начиная с Лейбница и вплоть до Гегеля, выступал как реставратор метафизики, как выразитель философского традиционализма, опирающегося на духовное наследие тысячелетий, на “philosophia perennis”, в противовес «новаторам» эмпиризма» [19, с. 14]. Классический эмпиризм, законный сын Британских островов, воплотил идею преобразования самой философии по образу экспериментальной науки. Позднее это стало философским кредо континентального позитивизма.
Следует различать уровень общей гносеологии (базовых элементов познания) и уровень крупных блоков или форм научного знания, которыми занимаются эпистемология и философия науки. Если исходить из того, что эпистемология есть теория научного знания prima omnia, а философия науки, соответственно, есть направление, рассматривающее науку как эпистемологический, методологический и социокультурный феномен в качестве своего основного предмета, то противостояние эмпиризма и рационализма можно назвать бунтом истинной науки о природе против той философии, которая претендовала на роль естествознания, «и даже против философии как учения о мире в целом» [19, с. 9].
В истории философии, кроме эмпиризма, в («антиинтеллектуалистском») номинализме от Уильяма Оккама до Ричарда Рорти, в учении Ницше и в субъективизме современной социальной философии рационализму (интеллектуализму) противостоял и противостоит волюнтаризм (термин был введен Вильгельмом Вундтом; он восходит к праиндоевропейскому корню *wel-/*wol- «нравиться»). Сказанное отнюдь не значит, что указанные философы или идейные течения порывают с логикой и рациональностью, поскольку в любом случае пропоненты опираются на доказательства и опровержения, то есть на теорию и практику аргументации. Официально они считаются оппонентами догматизма или фатализма, а тезис о свободе воли является антитезой детерминизма.
Осознанно оформившийся в самостоятельное направление рационализм (Рене Декарта, Бенедикта Спинозы и Готфрида Лейбница), родившийся почти в те же годы, что и эмпиризм (Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса и Джона Локка), – в XVII веке – был подвергнут сомнению и резкой критике в лице представителя иррационализма А. Шопенгауэра в XIX веке. Шопенгауэр, правда, высоко ценил Декарта и в основном критиковал философию Гегеля, самым едким образом.
Если эмпиризм (в гносеологии именуемый сенсуализмом) и рационализм как противоположности все же имеют много общего, то рационализм и иррационализм находятся в подлинном противоречии, причем последний породил экзистенциализм, тогда как эмпиризм и рационализм вместе стали основаниями философии науки и противостоят друг другу все менее резко. «Радикальный рационализм присутствует только в теориях научного знания в рамках философии науки, тогда как в других философских областях человек рассматривается как существо с едиными инстанциями, а точнее, как существо, разум которого находится во взаимодействии с эмоциями, верой, интуицией, чувственным восприятием и инстинктами», – пишет М. Чарноцка [5, c. 136].
Понятие и направление эмпиризма шире, чем сенсуализма, поскольку включает в себя социальную проблематику. Маятник противоположных тенденций и концепций в философии и в обществе в целом часто пытаются остановить, чтобы примирить их или выработать некую «третью линию», дабы выйти за рамки конфликта. Вот лишь один недавний пример. В последнее время при решении гендерных проблем африканский философ Чиома Кэрол Опара предложила новое понятие «фемализм», используемое для того, чтобы избежать ощущения агрессии и антагонизма между мужчинами и женщинами, которые порождает общепринятый термин «феминизм». «Западный феминизм отмечен заметным антагонизмом по отношению к маскулинизму и выводит самоопределение из своей оппозиции к нему. Феминизм – это концепция, рожденная из гегелевского наследия: происхождения понятий из отрицания противоположностей. Фемализм – это знак зарождения независимых понятий, которые возникают совместно и стремятся жить в сотруднической гармонии» [26, c. 10].
Таким образом, эти классические направления мысли – эмпиризм и рационализм – пересекаются или перекрещиваются, а пересечение является вторым после тождества важным видом совместимости понятий.
Природа и сущность
Как уже упоминалось, эти понятия часто рассматриваются как синонимы. Приведем всего два примера.
Один из авторов «Стэнфордской энциклопедии» Нил Роули, рассматривая различные формы эссенциализма, пишет: «Для нормативного эссенциализма «человеческая сущность», или «человеческая природа», является нормативным стандартом для оценки... лозунгов, призванных зафиксировать «человеческую сущность» или «человеческую природу» – разум, языковую способность» [13, §1.3]. Как видим, здесь «природа» и «сущность» пишутся через запятую, как синонимы.
Современный американский философ Майкл Митиас, представляя свою новую книгу, утверждает: «…Человеческая природа по сути своей рациональна; …в качестве сущностной ткани человеческой природы, разум существует как потенциальность в человеческом теле… Вот почему я буду использовать термины «разум» и «человеческая природа» взаимозаменяемо» [23, с. 12]. Или еще: «Как человеческие существа, мы не можем позволить себе отдохнуть от своей моральной природы» [23, с. 127]. Однако во многих других случаях Митиас различает природу и сущность (см. главу II, раздел «Разум как сущность человеческой природы»). Или также: «...мы познаем сущность человеческой природы по ее проявлениям» (выделено мною. – Э.Т.) [23, с. 119].
Обсудим это.
Прежде всего природа и сущность – это разные категории. Хотя во многих работах они рассматриваются как синонимы, это, как правило, некорректно. Учитывая, что Боэций в свое время перевел аристотелевскую категорию (ουσία, usia) «сущность» как «субстанция», вспомним мысль Канта: «Так, например, субстанция, если устранить чувственное определение постоянности, означает лишь нечто такое, что можно мыслить как субъект (но не может быть ни для чего предикатом). Из этого представления я ничего не могу извлечь, так как оно мне вовсе не указывает, какие определения имеет вещь, которую следует признать за такой первый субъект» [17, c. 164]. Субстанция здесь рассматривается как почти бесполезная категория. Но никак нельзя утверждать то же самое о природе.
Кроме того, разные предметы, отчетливо обладающие различными сущностями, могут иметь одну и ту же природу. Уголь, графит и алмаз – все это углерод по своей природе. Философы, обсуждающие сегодня средневековую мысль, анализируют и используют такую характеристику бытия предмета, как haecceity – «этовость»: «…этовость необходима как составная часть бытия, которая разделяет свою природу с чем-то другим» [9]. Другие современные авторы приводят пример атома, имеющего шесть протонов, что «может считаться существенным свойством атома углерода, поскольку это свойство играет фундаментальную роль в объяснении наличия у него других свойств, таких как его связующие характеристики» [11].
Наконец, может быть и наоборот: две природы – и одна результирующая сущность. Платон приводит такой пример в «Теэтете» (203е): «…следовало бы за слог принять не совокупность букв, а какой-то возникающий из них единый зримый вид, имеющий свою собственную единую идею, отличную от букв» [24, c. 266]. Слог не состоит из звуков, он не состоит из их простой суммы; он есть некий эйдос, из них возникший, содержащий по отношению к себе единую идею. Комментируя этот сложный отрывок из диалога Платона, А.Ф. Лосев писал: «Мы имеем два различных звука. Сливая их в один слог, мы тем самым перенесли полученную сумму в некоторую, уже новую, смысловую сферу. Полученный слог уже не есть просто сумма, но по своему смысловому качеству он уже есть нечто новое. Это значит, что вместо простой суммы мы получили некий эйдос, некий новый вид смысла…» [27, c. 277].
Или рассмотрим еще более сложный случай одной сущности, двух природ и трех ипостасей («лиц», по Боэцию), существующих нераздельно/неслиянно. Не крамольное ли это предположение? Нет; это Святая Троица: 1) Бог; 2) две природы, божественная (нематериальная) и человеческая; и 3) три лица: Отец наш Небесный, Его Сын Иисус и Святой Дух.
Чтобы всуе не касаться вопросов религиозного культа, рассмотрим (с Питером Форрестом) логико-философский закон Лейбница: ∀F(Fx ↔Fy) → x=y: «Тождество неразличимых – это принцип аналитической онтологии, впервые явно сформулированный Готфридом Лейбницем в его «Рассуждении о метафизике», раздел 9. Он гласит, что никакие две различные вещи не похожи друг на друга в точности. Это часто называют «законом Лейбница» и обычно понимают так, что никакие два объекта не имеют в точности одинаковых свойств. Тождество неразличимых представляет интерес, поскольку поднимает вопросы о факторах, которые индивидуализируют качественно идентичные объекты» [10].
Таким образом, природа и сущность – это разные понятия; природа, «сфера генезиса, всеобщая мать», допускает генетические определения, в то время как сущность после многих колебаний была охарактеризована самим Аристотелем как то, что не может быть предицировано ни о чем и не может находиться внутри чего-либо. Современные авторы помогают различать явления сущности и природы, остроумно показывая, где может возникнуть смешение.
«…Мы уже сталкивались с одним утверждением, что свойство быть человеком является существенным для Сократа. Другим примером является утверждение, что биологическое происхождение Сократа – родители Сократа, или, в частности, сперма и яйцеклетка, из которых возник Сократ, – является существенным для Сократа. Первый пример – это разновидность эссенциализма сорта, тогда как второй – разновидность эссенциализма происхождения» [11].
В заключение рассмотрим этимологию рассматриваемых понятий «природа» и «сущность».
Природа (греч. physis, от phyein – возникать, рождаться; фр. лат. natura, от nasci – тот же) – то, что присуще всякому существу с момента его возникновения. Слово «природа» обозначает как изначальность вещи, так и совокупность всех нетронутых человеком вещей. Природа по содержанию есть сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их общей связи; формально – бытие вообще [28, с. 364].
Сущность (также «чтойность» – лат. quidditas) – то, что составляет «сердце» вещи в совокупности ее определяющих свойств или обозначает одно определяющее свойство, как sapiens; это субстанциальное ядро независимо существующего сущего. Иногда это ядро рассматривается как самостоятельная сущность [28, c. 444].
Сущность / природа – это не идентичные, а пересекающиеся категории; пересечение же, как уже говорилось, есть вид совместимости.
Разум и рациональность
Когда-то меня очаровывало различие разума и рациональности (Vernunft und Verstand) в немецкой классике: казалось убедительным связывать рациональность с логикой, а разум с духом. Возвышенная интенция, думалось, хорошо сочеталась с разумом, в то время как «мирская» способность к расчету выглядела как прочно укорененная на земле, характеристика скорее человеческая, чем небесная. В марксизме они не разделялись столь строго, выступая в качестве синонимов; и действительно, так оно и есть.
Reason происходит из среднеанглийского слова, восходящего к старофранцузскому reisun (существительное), raisoner (глагол), от варианта латинского rationem (именительный падеж ratio), от rat-, причастия прошедшего времени от reri – «рассматривать», «выяснять», «думать», «вычислять» (от протоиндоевропейского корня *re- «думать, рассуждать, считать»). Некоторые словари (Merriam Webster) указывают и на родство латинского reri с греческим arariskein, что означает «быть в замешательстве и поиске».
Ratio впервые пришло из латинских теологических сочинений, означая «разум, обоснование, расчет, счет, исчисление, вычисление», отсюда «бизнес, дело; курс, поведение, процедура»; также умственное действие, «суждение, понимание, та способность ума, которая составляет основу вычисления и расчета».
Математический смысл «соотношения между двумя подобными величинами в количественном отношении», измеряемого числом случаев, в которых одна величина содержит другую, был засвидетельствован в английском языке с 1650-х годов (этот смысл также присутствовал в греческом logos).
Во многих словарях reasonable, разумный, толкуется как rational, здравомыслящий, и даже как compos mentis, означая душевное спокойствие. Но в данной статье эти концепты рассматриваются как разные (хотя логически совместимые), и обсуждаться будут особенности их употребления.
Было бы ошибкой полагать, что reason, разум, всегда «разумен»; тавтология не является поводом для замены reasonable на rational (разумного на рациональное).
Рассмотрим примеры
“For what reason? On the reason that...” («По какой причине? По причине того, что...»)
Здесь reason не означает «разум» – русское (славянское) понятие, имеющее корневую морфему «ум», – а имеет значение «причина», «основание» и «аргумент». Соответствующее русское «резон», калька с reason означает то же самое: «причина», но чаще «основание» и «довод». В таких случаях использования нет ничего «духовного» или в высшей степени метафизического. Речь, безусловно, идет о пропорции и рациональности.
Это своего рода pas-de-deux, где эти понятия – reason и ratio – играют одинаково ценные роли, или партии, так что можно подумать, что классическое различие между Vernunft (разум) и Verstand (ум, логика, исчисление) слишком жестко и схематично. Это тем более выглядит так, потому что Google дает следующий перевод однокоренных терминов «рациональность» и «рациональный» с русского на немецкий: Razionalität, но vernünftig.
Однако они не равны по весу и положению: РАЗУМ поддерживает РАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Следовательно, они совместимы, но это отношение субординации, или подчинения (третий логический вид совместимости). Разум включает в себя наряду с рациональностью, означающей логику или исчисление, также дух, мораль, эстетику или, лучше сказать, калокагатию.
Называя человека Sapiens, мы, скорее всего, говорим о разуме здравомыслящего человека.
В русскоязычной литературе по эпистемологии, т. е. теории научного познания, можно найти краткое изложение того, что такое научная рациональность как разновидность рациональности вообще, как ее рода, изучаемого гносеологией – общей теорией происхождения и основ познания. (Гносеология и эпистемология не эквивалентны, хотя сопоставимы и совместимы; это род и вид, и их отношение – включение).
Рациональность вообще есть тип мышления, а также соответствующий ему продукт – рациональное знание.
Рациональность научная отличается строгой экспликацией основных свойств рационального мышления, стремлением к максимально достижимой определенности, точности, доказательности и объективной истинности рационального знания. Научная рациональность характеризуется объективностью, однозначностью, доказательностью, проверяемостью, способностью к совершенствованию [29, c. 26–27]. Однако надо заметить, что эти качества следует критически осмыслить. Так, объективность не является специфическим свойством только лишь научного познания; однозначность и в науке практически достижима только в ограниченных рамках теории; доказательность должна быть понята и как верифицируемость, и как фальсифицируемость (опыт Поппера); да и проверяемость в принципе является общепринятым требованием к знаниям, то есть одним из критериев истины; а способность изменяться и совершенствоваться следует отнести либо к категории метафор художественной и научной литературы (ср. «красные и зеленые» лептоны, «очарованные и странные» частицы, «черные, белые и червеобразные дыры», «ежи» и «струны»), либо к универсальной способности бытия к развитию.
Нельзя не отметить и «нестыковку» научных картин мира, и самодовлеющий карнавал интерпретаций в мире социальных и гуманитарных наук, и роль самой европейской постмодернистской философии, отказавшейся от этого подвига – достижения объективной истины.
Действительно, научная рациональность – это улучшенная рациональность. Но она в основном подкреплена не аргументацией, а убеждением: я верю, что снег действительно бел.
Можно согласиться с оценкой данной ситуации М. Чарноцкой: «Современная философия науки редко прибегает к традиционным классификациям разума и рациональности и обычно говорит о научном разуме и рациональности или разуме и рациональности в науке. Кроме того, философы науки погружены в «семейные распри», формулируя различные варианты разума, которые они считают… действительными в науке и которые они обсуждают между собой, но относительно редко с противниками науки и разума, включая наследников постмодернистской мысли» [5, c. 39].
Кроме того, не будем забывать о волне «цифрового цунами».
В сентябре 2024 года в Вологде прошел IV Конгресс Российского общества истории и философии науки. Мэтр российской философии В.А. Лекторский, выступая с пленарным докладом, заявил: «Наука должна быть открытой, однако сейчас этого не позволяют ни корпоративные, ни военные интересы. Но пора выделить еще одну форму рациональности – цифровую (это «огромная память», расчет «больших данных» и т. п.)».
Развивая тему, Лекторский сказал: «Сейчас происходит глубокое обучение компьютеров, которые способны к производству, хотя у них нет природной силы человеческой руки или человеческого ума. Человек должен быть не рабом машины, а ее партнером. Нам нужно не управлять, а направлять!»
Другой известнейший российский философ И.Т. Касавин, возглавлявший конгресс, задал Лекторскому вопрос: «Является ли «рациональность» искусственного интеллекта рациональностью вообще?» Лекторский тогда ответил, что ИИ не может ни объяснить, ни понять, что он делает.
Я отвечаю на вопрос И.Т. Касавина следующим образом. Есть русская критическая поговорка, применимая к компьютерам: «у машины нет ни стыда, ни совести». То, что у «них» есть, это, безусловно, рациональность. НО НЕ РАЗУМ.
В целом эссенциализм можно считать эквивалентным фундаментализму; рационализм и эмпиризм пересекаются, как в свою очередь природа и сущность; рациональность и разум находятся в отношении включения – как вид и род. Таковы логические выводы из проведенного в статье анализа двух пар противоположных тенденций и двух пар ключевых понятий в философии.
Заключение
Целью данной статьи было продемонстрировать циклоиды философских дискуссий, показывающие постоянство разделения и слияния – движение вперед и возврат: к синтезу, сильному противостоянию и/или смешению. Оппозиции могут быть явными; например, бытие и небытие, рационализм и иррационализм. Как логические противоречия они объективно не могут быть примирены. Однако существует и сближение противоречивых позиций: примирение конфликта в своего рода синтезе; прочерчивание «третьей линии»; или объединение; или слияние; или своего рода осмос.
Крайности встречаются. Тотальности разветвляются. Противоречия, сначала обостряющиеся и борющиеся, со временем могут прийти к согласию, теряя антагонизм; противоположные позиции скрывают (или показывают) согласие; разделяющие границы могут стать размытыми, поэтому явления, а также концепции, их отражающие, не могут быть четко классифицированы; борющиеся стороны могут прийти к объединению, и это так же верно для мышления, как и для законов природы, лежащих в основе мышления. «Если… кто-то… установит раздельность и обособленность идей самих по себе, таких как подобие и неподобие, множественность и единичность, покой и движение,… а затем докажет, что они могут смешиваться между собой и разобщаться, вот тогда… я буду приятно изумлен» [24, с. 350] – это заявление юного Сократа опытным метафизикам Зенону и Пармениду можно было бы сделать эпиграфом ко всей данной статье.
В качестве примера осмоса философских концепций здесь вкратце представляется авторская теория познания под названием экзистенциальный материализм. Этот пример затрагивает методологию исследования таких классических направлений, как материализм и идеализм [30].
Постоянство распадения методов анализа видно из традиционного деления форм материализма на античный, нововременной (метафизический = механистический) и диалектический (соответствующий новейшему времени), а форм идеализма – на субъективный и объективный. Следовательно, материализм всегда анализируется при помощи исторического метода, а идеализм – логически. Значит ли это, что данная методологическая дихотомия является абсолютной, то есть единственно приемлемой и вечной?
Экзистенциальный материализм изменяет принцип деления философских форм материализма с (пресловутого) исторического на логический, в параллели с логическим делением идеализма. Он также содержит обоснование такого выдвижения и новые идеи, сгенерированные тогда, когда на привычные вещи удается посмотреть под новым углом зрения, включая характеристики истины.
Экзистенциальный материализм не является иррационализмом и не порывает с логикой. Напротив, он базируется на постулате единства основ бытия и знания, который выдвинул Аристотель и поддержали многие классики, например Гегель. В то же время этот материализм принимает основную экзистенциальную категорию Dasein, бытия-здесь-и-теперь, но последнее понимается не как трепет бытия-к-смерти или ужас пограничной ситуации, а как глубокое basso ostinato всякого подлинного человеческого существования.
Экзистенциальный материализм есть именно теория познания, познания бытия, в том числе и бытия человека, включающая онтологию и утверждающая, что сознание содержит бытие в себе необходимым имманентным образом и что философия, рассуждающая о бытии, «выходит» к здесь-и-теперь-бытию-сознанию, Dabewuβtsein.
В этом совершенно особом стартовом состоянии совпадают истина и сущность, и дальнейшая цель развития и углубления познания состоит в том, чтобы обнаружить в явлениях сущность изучаемых объектов и признать такое знание истиной, что является магистральным путем развития философии в целом.
作者简介
Emilia Tajsina
Kazan State Power Engineering University
编辑信件的主要联系方式.
Email: emily_tajsin@inbox.ru
SPIN 代码: 6974-2745
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Media Communications
俄罗斯联邦, Kazan参考
- Ockham W. Selected works. Moscow: RAN IF, Editorial URSS, 2002. (In Russ.)
- Hegel G.W.F. Differenz der Fichtes’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie [Difference between the philosophical systems of Fichte and Schelling]. Hauptwerke in sechs Bänden. Band. Jenaer kritische Schriften. 2. Unveränderte Auflage. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2018. 622 p.
- Hegel G.W.F. The difference between the philosophical systems of Fitchte and Shelling in relation to Reingold's works, which aimed to facilitate an overview of the 19th century / G.W.F. Hegel // Kantian Journal: Interuniversity thematic collection of scientific papers. – Iss. 13–15. On the 200th anniversary of the publication of "The Critique of Practical Reason". –Kaliningrad, 1988. (In Russ.)
- Karimov A.R. Epistemology of virtues. St. Petersburg: Aleteya, 2019. 428 p. (In Russ.)
- Czarnocka M. Reason in Science and Beyond. Manuscript. Germany: Walter de Gruyter Publishing House, 2025.
- Chimakonam J.O. Some Currents in African Philosophy. Dialogue and Universalism. 2025;1.
- Levin G.D. The problem of universals. A modern view. Moscow: Kanon+, 2005. (In Russ.)
- Carroll J.W. Laws of Nature. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2024 Edition). Ed. by Edward N. Zalta, Uri Nodelman. Availaible from: https://plato.stanford.edu/archives/win2024/entries/laws-of-nature/
- Cross R. Medieval Theories of Haecceity. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2022 Edition). Ed. by Edward N. Zalta, Uri Nodelman. Availaible from: https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/medieval-haecceity/
- Forrest P. The Identity of Indiscernibles. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2023 Edition). Ed. by Edward N. Zalta, Uri Nodelman. Availaible from: https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/identity-indiscernible/
- Robertson T., Atkins Ph. Essential vs. Accidental Properties. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2023 Edition). Ed. by Edward N. Zalta, Uri Nodelman. Availaible from: https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/essential-accidental/
- Markie P., Folescu M. Rationalism vs. Empiricism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2023 Edition). Ed. by Edward N. Zalta, Uri Nodelman. Availaible from: https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/rationalism-empiricism/
- Roughley N. Human Nature. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2023 Edition). Ed. by Edward N. Zalta, Uri Nodelman. Availaible from: https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/human-nature/
- Hegel G.W.F. Wissenschaft der Logik. Einleitung. Hauptwerke in sechs Bänden. Band 3. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2018. Pp. 37–38.
- Hegel G.W.F. The Science of Logic. In 3 vol. Vol. I. Мoscow: Nauka, 1970–1972. (In Russ.)
- Kant I. Kritik der Reiner Vernunft. Der transzendentalen Analytik zweites Buch. Die Analytik der Grundsätze. 1. Hauptstück. Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe. Availaible from: http://www.zeno.org/Philosophie/M/Kant,+Immanuel/Kritik+der+reinen+Vernunft/ I.+Transzendentale+Elementarlehre/Zweiter+Teil.+Die+Analytik+der+Grunds%C3%A4tze/ 1.+Haupst%C3%BCck.+Von+dem+Schematismus+der+reinen+Verstandesbegriffe
- Kant I. Criticism of pure reason. Ed. by Ts.G. Arzakanyan, M.I. Itkin. Moscow: Eksmo, 2012. (In Russ.)
- Lenin V.I. Once again about the trade unions, the current situation and the mistakes of Comrades Trotsky and Bukharin. The Complete Works. Vol. 42. Pp. 264–290. (In Russ.)
- Kissel M.A. The fate of the old dilemma (rationalism and empiricism in twentieth-century bourgeois philosophy). Moscow: Mysl, 1974. (In Russ.)
- Aristotel. Categories. Collected works. In 4 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl, 1978. (In Russ.)
- Averintsev S.S. Poetics of Early Byzantine Literature. Moscow: Coda, 1997. (In Russ.)
- Fromm E. Psychoanalysis and ethics. Moscow: Respublika, 1993. Pp. 261–289.
- Mitias M. Human Dialogue. Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2023. – 203 p.
- Plato. Collected works. In 4 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl, 1993. (In Russ.)
- Plato. Parmenides. Sophist. Collected works. – Availaible from: https://www.cakravartin.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/08/plato-complete-works.pdf
- Allinson R.E. Introduction to: Deconstructing Boundaries. Nigeria: Ibadan, Press PLC, 2024. 708 р.
- Losev A.F. Essays on Ancient symbolism and mythology. Moscow: Mysl, 1993. 962 p. (In Russ.)
- Philosophical encyclopedic dictionary. Moscow: INFRA-M, 2002. (In Russ.)
- Philosophy of Science. Ed. by S.A. Lebedev. Moscow: Triksta, 2004; Мoscow: Akademicheskii Project, 2004. (In Russ.)
- Tajsina E.A. An Advance to a New Theory of Cognition. Dialogue and Universalism. 2014;3:75-79.
补充文件