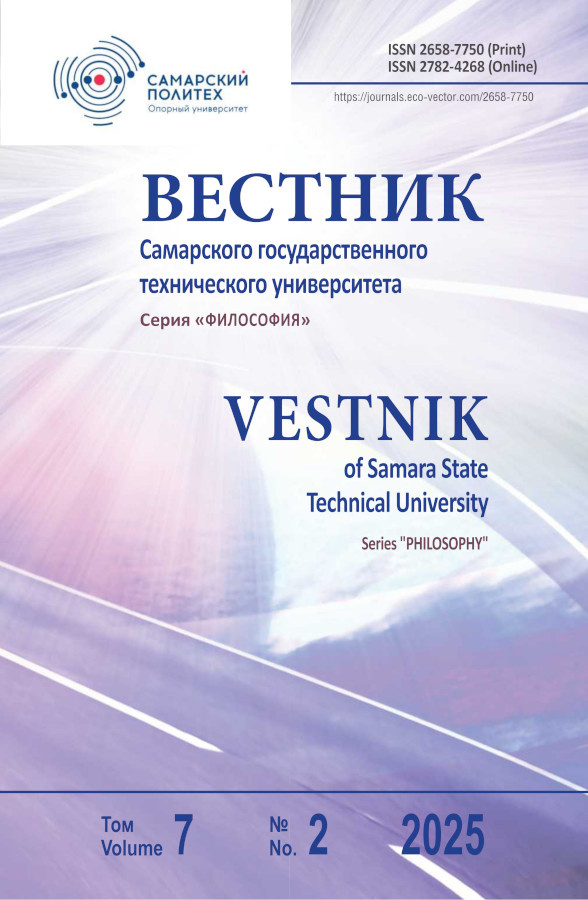Logic of the Talmud: problems of the quality of argumentation and consistency of thought in the Mishnah and THE Gemara
- 作者: Vasechko V.Y.1
-
隶属关系:
- Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- 期: 卷 7, 编号 2 (2025)
- 页面: 125-136
- 栏目: HISTORY OF FOREIGN PHILOSOPHY
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692898
- ID: 692898
如何引用文章
全文:
详细
The article is devoted to the analysis of the text of the Talmud – one of the sacred books of Judaism – in terms of the problems of consistency and formal correctness of thinking, the quality of logical argumentation and compliance with the norms of academic discussion. It is shown that the heroes of the Talmud – the Jewish rabbis who lived in the first centuries of our era – were fully aware of the value of observing the laws of formal logic, despite the absence of direct references to Aristotle's Organon in the Talmudic discourse and ignoring the achievements of ancient philosophical thought. Arguing their position and refuting the points of view of their opponents, the Jewish sages worked out the norms and rules of a fruitful theoretical dispute, designed to discover, substantiate and correctly interpret true, objective knowledge that does not depend on the will, desires and ambitions of individual subjects.
全文:
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих преемственность и поступательно-прогрессивный характер научного познания, всегда оставалось качество академической коммуникации. Для автора очередной сколько-нибудь значимой эпистемологической новации критически важным является не только сформулировать и вербализировать смысл сделанного им открытия, но и убедить в его ценности если не все человечество, то хотя бы тот ближайший круг коллег по цеху, которые призваны оценить достижение новатора объективно, квалифицированно и по достоинству. Поэтому сам сложившийся в некотором исследовательском сообществе стиль общения с его нормативными представлениями о должном и нежелательном, о дозволенном и запрещенном, о вещах достойных/недостойных обсуждения и т. д. в немалой степени определяет вероятность того, будет ли в принципе получено членами этого сообщества что-либо по-настоящему ценное, оригинальное, весомое. Тот моральный климат, в условиях которого действует субъект познания, – отнюдь не безразличный внешний фон, располагающийся где-то далеко за скобками творческого процесса, но и активный участник этого процесса, его, можно сказать, актор, способный играть как позитивную, стимулирующую, так и негативную, тормозящую роль.
Внимательный анализ обнаруживает, что нормы этики научного поиска и вообще современного академического общения уходят своими корнями далеко за пределы XVII века – того самого, который, по превалирующему среди философов и методологов науки мнению, был временем рождения «подлинной науки». Вопрос о том, как сделать противостояние взаимоисключающих точек зрения полезным, эффективным, продуктивным если не для всех, то по крайней мере для большинства из тех, кто оказался вовлеченным в состояние конфронтации, как, проще говоря, сделать, чтобы истина в споре рождалась, а не погибала, волновал людей с очень давних времен. И одним из ярких свидетельств этого являются священные книги иудейской религии, среди которых важнейшее место занимал и продолжает занимать Талмуд. Взгляд на этот древний текст сквозь призму нынешних понятий о том, каким должен быть успешный и конструктивный научный дискурс, позволяет углубить наши знания как о том давнем времени и той культуре, в лоне которой Талмуд появился на свет, так и о тех истоках, к которым восходят многие привычные нам сегодня коммуникативные правила, сюжеты, проблемы и, что особенно важно, способы решения этих проблем.
Общая характеристика Талмуда. Внешние (ситуативные) параметры талмудического дискурса
Время появления Талмуда (в переводе с иврита – «учение») – первая половина первого тысячелетия от Рождества Христова. На рубеже II–III веков появляется Мишна (ивр. «повторение»), систематизатором и редактором которой считается Иегуда га-Наси (ок. 150–220), бывший на тот момент главой иудейского Синедриона, а спустя некоторое время Гемара (ивр. «завершение, совершенство»): сначала в форме Иерусалимского Талмуда, отредактированного в основном раби Йохананом (ум. ок. 279)1, а затем Талмуда Вавилонского, создававшегося в Персии и кодифицированного в основном еврейскими мудрецами под руководством рава Аши (ок. 352–427), главы академии в г. Сура. В целом время жизни многочисленных персонажей, фигурирующих в тексте Талмуда, а также даты исторических событий, упоминаемых там, приходятся на весьма продолжительный период – от IV в. до н. э. (приход Александра Македонского в Иудею в ходе покорения им Персии) до V в. н. э. (начало упадка Вавилонской общины вследствие усиления притеснений со стороны персидских царей).
Еврейские законоучители, чьи речи, дискуссии, деяния и отдельные изречения составляют основное содержание Талмуда, делятся с точки зрения эпохи на две основные группы: 1) танаи (от арамейского тана – «повторять») и 2) амораи (от арамейского амар – «говорить»). Время активной деятельности танаев охватывает первые два века нашей эры, причем выделяются шесть сменяющих друг друга поколений (каждое от 20 до 30 лет). Соответственно период творчества амораев – от 220 до 500 гг. н. э., на этот период пришлось восемь их поколений [1, с. 43–46]. Танаи стали основными героями и авторитетами Мишны, а амораи – Гемары. Причем если танаи обычно высказываются лаконично, выверенным языком, то амораи, скрупулезно разъясняющие Тору (Пятикнижие Моисея), другие священные книги (Танах, включающий помимо Торы Небиим – книги Пророков и Кетубим – Писания) и суждения тех же танаев, часто прибегают к пространной, развернутой аргументации, упоминая как можно больше различных точек зрения и стараясь обосновать собственную с максимальной убедительностью. Стоит отметить, что Талмуд не особенно стремится к исторической достоверности и потому не отражает полных биографий даже выдающихся мудрецов и не указывает точных дат их жизни.
Основной корпус Талмуда составляют 63 трактата, в каждом из которых есть раздел, относящийся к Мишне, и, кроме того, во многих из них имеется более поздний раздел, относящийся к Гемаре2. Отдельные трактаты разделены на главы и, в свою очередь, сгруппированы в более крупные структурные единицы – разделы, которых всего шесть: 1) Зераим (Посевы) – 11 трактатов; 2) Моэд (Праздники) – 12; 3) Нáшим (Жены, Женщины) – 7; 4) Незикин (Повреждения) – 10; 5) Кодашим (Культовые повеления) – 11; 6) Тохорот (Очищения) – 12 трактатов.
Однако понятие «талмудическая литература» не исчерпывается этими трактатами. Многие ценные, согласно иудейской традиции, мысли не вошли в их тексты, зато сохранились в книгах иных жанров: Тосефта – сборник, повторяющий структуру Мишны и превышающий ее по объему примерно вчетверо; мидраши – сборники, содержащие толкования танаев на каждую из книг Пятикнижия; Барайта – высказывания танаев, не попавшие в Мишну.
В содержательном плане в Талмуде различаются два класса фрагментов: Галаха («принятый путь», «закон») – нормативная часть, регламентирующая правила поведения еврея, который стремится строить свою жизнь в согласии с Торой и всецело доверяется в этих вопросах своим мудрецам, и Агада («повествование»), которая, по сути, включает в себя всё, что не является Галахой. Агада – это и сюжеты, связанные с биографиями библейских персонажей и еврейских мудрецов, с их поведением в различных жизненных ситуациях, и назидательные притчи, и рассказы о реальных исторических событиях, и как бы протоколы заседаний Синедриона со всеми их перипетиями, и житейские истории, и анекдоты, и фольклорные зарисовки3, и просто отдельные умные изречения и моральные максимы – то, что еще называется практической философией. Галаха и Агада взаимно переплетены и не противопоставлены, но дополняют друг друга: «Если вопрос касается нормативной стороны поведения, тогда основным в трактате будет галахический способ рассуждения. Если в трактате говорится об этических и духовных аспектах, то агадическая часть будет, соответственно, больше» [1, с. 16].
Заповеди Моисеева декалога, как известно, условно делятся на две категории: регулирующие отношения человека с Всевышним (заповеди I–IV) и регулирующие отношения между людьми (заповеди V–X). Аналогичное деление обнаруживается и в многочисленных нормах Галахи: есть законы сугубо религиозного характера, касающиеся персональных обязанностей индивида по отношению к Богу, – запреты и разрешения относительно субботы («дня, посвященного Господу»), приготовления пищи, брака, храма и т. д. И есть законы, обязательные в отношениях между человеком и человеком, например, касающиеся отношений имущественного характера и вообще повседневной, частной жизни людей. Между двумя этими разнородными классами нет прямой логической связи: ответственность человека перед Богом и ответственность его перед ближним – это разнопорядковые сущности, и нельзя правила одного данного класса выводить из правил другого [3, с. 32–43, 62–64, 120–131, 153–159, 164–170].
Интеллектуальную атмосферу в Талмуде очень часто определяет персональное противостояние той или иной устойчивой четы мудрецов-современников. Из трактата в трактат описываются споры живших на рубеже нашей эры Гиллеля и Шамая, раби Йегошуа бен Хананьи (вышеупомянутого редактора Мишны) и его друга Элиезера бен Гиркана (рубеж I–II вв.), Рава и Шмуэля (середина III в.), Йоханана и Реш Лакиша (вторая половина III в.), а также живших уже в Вавилонии Абайе и Равы (IV в.). Вопросы, по которым разворачиваются их дискуссии, всегда касаются принципиальных тем и не перерастают в выяснение личных отношений. Спорящие неизменно сохраняют уважение друг к другу и стараются не просто опровергнуть позицию оппонента, но и понять при этом, на чем она основывается, вникнуть в аргументы противной стороны. И часто даже за отвергнутым, в принципе, мнением сохраняется известная правомочность, как, например, в истории с раби Элиезером, изгнанным из Синедриона за неподчинение решению большинства.
При попытках объяснения причин, порождающих талмудические диспуты, можно выявить некоторую закономерность. По сути, речь во многих случаях идет о согласовании писаной Торы с той реальной жизнью, которая за века, минувшие со времен Моисея, ее номинального автора (XIII в. до н. э.), и даже со времен Эзры, при котором Тора была обнародована (V в. до н. э.), ушла далеко вперед. Один из участников спора старается защитить святость Торы и более или менее твердо отстаивает ее неприкосновенность. Другой, напротив, занимает более прагматичную позицию и, не отвергая прямо то или иное освященное авторитетом Моисея правило, стремится дать ему такую интерпретацию, которая была бы адекватна текущему моменту. Первый является, так сказать, теоретиком, предельно абстрагирующимся от эмпирической реальности, а второй – практиком, никогда об этой реальности не забывающим. На стороне первого – Небо, на стороне второго – Земля.
Так, непреклонному, бескомпромиссному Шамаю противостоит более мягкий, уступчивый, бесконечно терпеливый Гиллель4, упорному максималисту Элиезеру – осторожный прагматик Йегошуа, бывшему гладиатору и разбойнику Реш Лакишу с его жестким и мрачным характером – брат его жены Йоханан, стремящийся, насколько возможно, сохранить в законодательстве баланс между Торой и жизнью, а формалисту и догматику Абайе, мало заботящемуся о том, чтобы его предписания были исполнимыми, – реалист Рава, пекущийся о том, чтобы Закон работал на практике и не обращался в пустую декларацию5. Впрочем, здесь можно говорить лишь о тенденции: бывает и так, что мудрец меняет свою позицию на 180 градусов, когда, например, ревностный апологет буквы Торы обнаруживает неожиданно таящуюся у него где-то в глубине души человечность и толерантность.
Неудивительно, что такой соревновательный, достаточно раскованный и ориентированный на полемику дискурс сопровождается повышенным вниманием, которое уделяется в Талмуде вопросам логики, обоснования и аргументации.
Проблема логического противоречия в Талмуде: конструктивные и деструктивные аспекты
При том высоком удельном весе, который имеют в Талмуде галахические вопросы, связанные с установлением некоей поведенческой нормы, этот текст меньше всего напоминает свод законов. Рассуждения мудрецов легко переходят с одной темы на другую, причем проследить логическую связь между ними порой почти невозможно. Сам жанр Талмуда даже сравнивается с произведением авангардистской литературы с его потоком сознания и ассоциативным сцеплением фраз [3, с. 176]. Тем не менее говорить о «логике Талмуда» вполне правомерно, если мы не ограничиваемся констатацией тех выводов, к которым приходят диспутанты, а обращаемся к анализу самих дискуссий, предшествующих вынесению решения, той напряженной работы живой мысли, которая в ходе их раскрывается. Первостепенной важностью часто обладает не формальное решение проблемы, а сам процесс поиска этого решения, в том числе, возможно, даже обнаружение допущенной на каком-то этапе ошибки.
Хотя ко времени тех дискуссий, которые запечатлелись в Талмуде, уже не один век существовали трактаты, составившие «Органон» Аристотеля, еврейские мудрецы рассуждают, не обращая внимания на греческого философа, имя которого наверняка было им знакомо. Прямо они не апеллируют к логическим законам тождества, непротиворечия и исключенного третьего, уже хорошо известным их образованным современникам из числа язычников. Но и танаи, и амораи вполне осознанно стремятся к точности, ясности, определенности и непротиворечивости своей мысли. И потому совсем не случайно проблема противоречия и все, с ней связанное, занимает в Талмуде одно из центральных мест.
Противоречия фиксируются участниками талмудических словопрений как в Агаде, так и в Галахе. В первом случае целью является достижение ясности мысли, восстановление точной картины некоторой исторической ситуации и вообще согласование между собой таких отрывков Писания, из которых не следуют непосредственно какие-либо практические выводы. Шамай и Гиллель энергично спорят, например, о том, что было сотворено раньше – небо или земля, или о том, лучше человеку родиться или пребывать нерожденным, поводом к чему является отсутствие в Торе однозначных ответов на эти вопросы [3, с. 41–42; 5, с. 246]. Во втором случае теоретически обосновывается некоторое ритуальное правило – обычно такое, которое не может быть напрямую выведено из Торы по той причине, что она предлагает слишком много или, наоборот, слишком мало вариантов. Например, неясно, считать разрешенной или запрещенной связь солдата с пленной нееврейкой, впитывает ли стеклянная посуда находящуюся в ней нечистую пищу, в какой конкретно момент начинается новый день и т. д. [1, с. 290, 297, 411].
Противоречия не скрываются и не затушевываются, напротив, их выявление даже поощряется, ибо свидетельствует об интересе, внимании и требовательности того, кто задает неудобные, даже каверзные вопросы. Ученик иногда указывает учителю на расхождение в его речах, и учитель (как настоящий ученый, для которого на первом месте всегда истина, а не пресловутый авторитет) при этом не протестует, а сам вместе с учеником начинает разбираться, в чем же дело, чтобы уточнить и разъяснить свою позицию. Танаи обнаруживают различные нестыковки в Торе, а амораи, в свою очередь, – в словах танаев, да и в словах друг друга. Один и тот же мудрец, бывает, сам себе противоречит, не теряя из-за этого своего авторитета [1, с. 147, 167]6. Фиксируются не только явные противоречия, которые на виду, но и неявные, которые вовсе не очевидны и обнаруживаются не сразу, а только благодаря дотошному анализу [1, с. 113, 115]. В ходе дискуссий спорщики иногда намеренно заостряют противоречия, доводят их до крайности, чтобы, отталкиваясь уже от этой дихотомии («либо – либо»), решить, наконец, где же истина.
Однако вся эта работа не является самоцелью, и констатацией противоречия дело не ограничивается. Мудрецы Талмуда не хуже Аристотеля и перипатетиков знают, что из противоречия ничего не следует (или, что то же самое, следует все что угодно), и поэтому отклоняют нормы и выводы, в обосновании которых обнаруживаются исключающие друг друга аргументы7. Широко используя прием reductio ad absurdum для дезавуирования позиции оппонента8, мудрецы не забывают, что такая деструктивная работа позволяет нам лишь не впасть в заблуждение и уяснить, что некоторое суждение не есть истина, но пока еще не дает позитивного знания о том, какова она, истина, и чем она является. Они хорошо понимают, что сам факт существования конкурирующих точек зрения свидетельствует не только о свободе самовыражения, но и об отсутствии ясности в данном вопросе9. И потому привлекают все свои интеллектуальные ресурсы, чтобы искомой ясности достичь.
Надо признать, что далеко не всегда этот труд увенчивается успехом. Довольно часто Талмуд честно констатирует: «Действительно, данный вопрос остался открытым», «мудрецы разошлись во мнении» [1, с. 186, 432]. Он так и не дает категоричных ответов, например, на вопросы:
– как формально зафиксировать право на приобретаемое имущество [1, с. 274];
– приравнивается ли статус прикоснувшегося к объекту идолопоклонства к статусу женщины в период месячных [1, с. 283];
– является ли животное, появившееся в результате скрещивания домашней скотины с диким животным, отдельным видом [1, с. 294];
– в каких случаях попадание некошерной пищи в кошерную делает пищу запрещенной для употребления [1, с. 316];
– является ли приготовление предметов, необходимых для исполнения заповеди, разрешенным в субботу действием [1, с. 317];
– когда можно оставить найденный бесхозный предмет себе, а когда нужно хранить его вечно в ожидании появления хозяина [1, с. 348], и др.
Окончательное решение этих галахических вопросов остаётся на усмотрение тех потомков, которым когда-то придется разбирать соответствующие казусы. Но в любом случае предполагается, что эти правоприменители должны будут перед вынесением своего вердикта принять в соображение все то, что обсуждалось в этой связи древними мудрецами.
Талмуд и Тора: проблема интерпретации сакрального текста
Для снятия противоречий в Талмуде используется ряд логических приемов, которые служат своего рода алгоритмами для тех, кто будет руководствоваться этой книгой в решении как теоретических, так и практических проблем. Например, если один из аргументов опирается на текст Торы, а другой – на общие соображения и правила вывода (пусть он даже принадлежит более чем авторитетной личности), то безусловный приоритет отдается первому10, и эти два класса суждений необходимо строго различать. Закон Моисея считается выше по рангу и других разделов Танаха: считается, что в книгах Пророков и Писаниях нет по сравнению с ним ни одного нового положения, даже самого незначительного [1, с. 206].
Чтобы сгладить остроту коллизии, иногда предлагается развести противоположные позиции в историко-культурном, ситуативном, временном или территориальном отношении. Для этого признается равноправие, плюрализм, основывающийся на принципе «каждый прав по-своему», – прав для своего времени или для того места, где в основном функционировала данная школа, прав в рамках той традиции, в понятиях которой рассуждал данный мыслитель, или того подхода, который был характерен для его учителя11. Противоречие становится лишь кажущимся, и факт его существования, при всей его неоспоримости, уже не играет фатально-деструктивной роли. Когда, например, в Иерусалимском Талмуде мы читаем, что «мудрецы на Западе», то есть в Земле Израиля, смеялись над каким-то мнением вавилонских амораев [1, с. 173], то это не означает вздорности и полной неадекватности такого мнения, но является, прежде всего, указанием на различие сложившихся в двух самостоятельных регионах аргументативных практик. «Так это понимают» – данное выражение встречается в Талмуде, когда разъяснение какого-либо высказывания израильскими мудрецами сопоставляется с разъяснением того же высказывания с точки зрения авторитетов, проживавших на территории Персии [1, с. 152].
Еще одним стандартным приемом такого рода выступает сведение области, в которой возникает противоречие, к минимуму или к частному случаю. Это осознают обычно и сами спорящие, и те, кто спустя какое-то время разбирается в перипетиях их спора. В Талмуде (особенно это относится к Гемаре) с помощью сложных и тонких комментариев разъясняется, что один источник относится к одному определенному случаю или их классу, а другой, на котором базируется противоположное мнение, относится к случаям другого типа [1, с. 111–112, 115–116].
Вот характерный пример – диалог двух вавилонских амораев: «Р. Иуда спрашивал: в одном месте написано: (Пс. 32: 1) «Блажен тот, чей грех скрыт»; а в другом месте сказано: (Прит. 28: 13) «Кто скрывает проступки свои, тот не будет иметь успеха». Не противоречие ли это? Нет, ответил р. Нахман, первый стих говорит о проступках человека в отношении к Богу, а второй – о проступках человека в отношении к своему ближнему» (Иома 86б) [6, с. 206].
Мудрец по имени Иосей находит аналогичный выход и из антиномии в самой Торе: «”Да обратит Превечный лицо Свое на тебя” (Чис. 6: 26), а в другом месте сказано: ”Который не смотрит на лицо” (Втор. 10: 17). Как объяснить это противоречие? Р. Иосей, сын Досаи, так объясняет: ”Превечный обратит лицо Свое на тебя” в делах между человеком и Богом, и ”Который не смотрит на лицо” в делах между человеком и ближним его» (Бамидбар-рабба, гл. 11) [7, с. 33].
В ряде случаев выход из логического затруднения допускается достаточно радикальный: предполагается, что в процессе передачи из поколения в поколение текст некоторого высказывания подвергся искажению, поэтому мы теперь вправе вернуться к его изначальному варианту [1, с. 198]. Однако прибегать к такому приему следует весьма осмотрительно, и претензия на исправление священного текста должна быть обоснована особенно тщательно и аргументированно. Кроме того, она не может распространяться на саму букву Писания: переосмысление возможно только в отношении некоторой устоявшейся трактовки.
Таким образом, Талмуд в известном отношении содержит и критику текста Торы – не в том смысле, что этот текст отвергается, а в том, что ему пытаются дать понятное, приемлемое для человека толкование, согласующееся с общеизвестными фактами и со здравым смыслом, а для этого приходится поставить под вопрос аутентичность того или иного места из Писания. Формулируются различные правила интерпретации12, применение которых нередко приводит к тому, что новый смысл, который мы извлекаем из исходного текста, становится мало похожим на тот, что дает непосредственное его прочтение. Хотя, разумеется, в чьих-то глазах такая методика может выглядеть как оправдание семантических искажений, натяжек и передергиваний.
«Не читай… а читай…» – такое выражение используется, когда данное место в тексте Торы или Пророков предлагается понимать не буквально и не так, как это до сих пор было общепринято, а аллегорически, с той или иной степенью иносказательности [1, с. 134–135]. Например, Реш Лакиш считает, что вполне конкретные и обстоятельные указания книги Левит о порядке жертвоприношений в Храме ныне, то есть в тот период, когда Храма давно уже нет, означают совсем другое: «… кто занимается учением, тот все равно как бы приносит всесожжение, хлебное приношение, жертву за грех и жертву за вину» (Менахот 110а) [6, с. 118]. Будучи строгим ригористом, он же в другом месте придает частному ритуальному предписанию из книги Чисел статус мировоззренческого принципа: «Слова учения прочны у того только, который готов умереть за них, как сказано: «Вот учение – когда человек умрет» (Берахот 63б) [6, с. 122].
Словам Давида, в которых констатируется, что всё в мире принадлежит Богу («Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое» (I Пар. 29:11)), толкователь придает совсем иной смысл: «Всемилосердый устраивает царство земное по образцу царства небесного» (Берахот 58а) [8, с. 27]. Там, где в оригинале Господь говорит о своем решительном намерении вмешаться в земные дела на стороне угнетаемых нищих и бедных (Пс. 11: 6), толкователь, чтобы объяснить фактическое бездействие Всевышнего, усматривает, напротив, нежелание Его воздействовать на творящих неправосудие: «От грабежа бедных, от воплей нищих Я удалюсь, говорит Господь, ныне вознесуся» (Сангедрин 6б) [8, с. 48]. Стих Екклезиаста, в котором со всей определенностью отвергается загробная жизнь («Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают» (9: 5)), интерпретируется так, чтобы лучше соответствовать уже утвердившемуся во времена Талмуда догмату бессмертия души, и делается это посредством перевода мысли из биологической плоскости в моральную: «…Живые знают, что они умрут», – это праведники, которые и после смерти называются живыми, и «Мертвые ничего не знают», – это порочные, которые и при жизни называются мертвыми» (Иерусалимский Берахот, гл. 2) [6, с. 190]. С этой же целью переосмысливается и призыв псалмопевца помогать нуждающимся: «…Когда человек дает полушку бедному, то он несомненно сподобляется лицезрения Господня (в будущем мире), как сказано (Пс. 17:15)13: «Я же за милостыню созерцаю лицо Твое, буду насыщаться при пробуждении образом Твоим» (Баба-Батра 10а) [7, с. 149]. Оказывается, что речь идет уже не об обычном утреннем пробуждении от ночного сна, а о переходе в иную, вечную жизнь.
Заключение
Корпус сочинений, которые составили Талмуд, не являющихся философскими текстами в узком смысле слова, во многом предопределил и содержательную проблематику, на которой сосредотачивалось впоследствии внимание еврейских мыслителей, и те формы, посредством которых еврейская мысль развивалась.
Практически каждый из будущих оригинальных еврейских авторов проходил школу освоения талмудических текстов и потому не мог не заимствовать из них очень многое, даже в тех случаях, когда занимал по отношению к ним весьма критическую позицию. Именно Талмуд заложил традицию комментирования, осмысления и интерпретации священных текстов, и если для танаев основным объектом были книги Танаха, а для амораев к ним добавилась Мишна, то для последующих еврейских интеллектуалов тем исходным пунктом, с которого они начинали свое духовное восхождение, обычно становился уже, помимо Танаха, весь массив талмудической литературы.
Тот дух дискуссионности, дух достаточно свободного и раскованного поиска истины, который присутствует в Талмуде, естественно, передавался и будущим мыслителям. Это проявилось, в частности, в стремлении не просто озвучить и задекларировать собственное мнение, но и найти ему максимально убедительное и аргументированное обоснование, учесть как можно больше альтернативных точек зрения, понять их истоки и дать им развернутое опровержение. Это выразилось и в стремлении отточить, отшлифовать свою мысль, найти для нее такие формы (понятийные, жанровые, стилистические), которые бы сделали ее предельно ясной не только для самого автора, но и для тех, к кому он обращается. Это дало себя знать в той чуткости к противоречиям и в потребности к их преодолению, которые стали характерными чертами еврейской мысли.
1 Работа над Иерусалимским Талмудом была остановлена в 60-е годы IV века, когда после подавления римлянами в 351 году очередного восстания евреев и серии сильных землетрясений иудейская община в Палестине пришла в упадок в экономическом отношении, существенно сократилась ее численность. Поэтому Иерусалимский Талмуд считается незавершенным.
2 Вавилонская Гемара имеется к 37 трактатам Мишны, а Иерусалимская – к 39.
3 М.И. Беленький приводит примеры того, как сами раввины оказываются порой в Талмуде объектами язвительного высмеивания и жесткой критики со стороны простых людей и отдельных мудрецов, для которых не оставались скрытыми многие пороки этого сословия [2, с. 106–114]. Приводится, в частности, такой совет раби Элеазара: «Грейся у огня мудрецов, да берегись только – не обожгись об их уголья, ибо кусаются они едко, по-лисьему; ужалят метко, по-ехидному; шипят они, словно змеи лютые, что слово, то уголь раскаленный» (Абот II, 16).
4 Вот самый известный пример полярности их подходов. «Приходит некий иноверец к Шаммаю и говорит:
– Я приму вашу веру, если ты научишь меня всей Торе, пока я в силах буду стоять на одной ноге.Рассердился Шаммай и, замахнувшись бывшим у него в руке локтемером, прогнал иноверца. Пошел тот к Гиллелю. И Гиллель обратил его, сказав:
– Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учись» [4, с. 23].
Последним советом подчеркивается, что усвоение этого краткого золотого правила, конечно, никак не подменяет собой основательной интеллектуальной работы по штудированию и осмыслению Закона.
5 «Рава оставался реалистом, прагматиком, тогда как Абайе всегда тяготел к чистоте и логике Закона. Этот Закон не позволял практической юриспруденции смутить себя хитроумными житейскими доводами и не нуждался в упорядочении извне. Абайе, подобно храмовому священнику, видел свою миссию в сохранении традиции, которой угрожали искажения. Он бдительно оберегал Закон в его первозданной чистоте и незамутненности» [3, с. 170]. По мнению А. Штейнзальца, споры Абайе и Равы вообще во многих аспектах образуют «становой хребет» Талмуда и в них можно найти ответ чуть ли не на любой вопрос, обсуждаемый в нем [3, с. 164].
6 Адин Штейнзальц приводит, в частности, следующее характерное высказывание из трактата «Шабат»: «Он оспаривает сам себя». И поясняет далее, что оно используется для того, чтобы подчеркнуть: одно из положений, которое ввел аморай, противоречит другому его положению [1, с. 184].
7 А. Штейнзальц, ссылаясь на трактат «Бава мециа», приводит термины, которые (один в Мишне, другой в Гемаре) означают, что «высказанное выше утверждение или мнение, приведенное доказательство, решение какой-либо проблемы не принимаются из-за принципиального внутреннего противоречия или противоречия с источниками» [1, с. 199].
8 «Если это так, то…» – таков распространенный оборот, используемый для получения абсурдных выводов из тезисов противника, обнаружения противоречия в его взглядах и соответственно для их дискредитации [1, с. 129, 135–136].
9 По поводу жарких споров между учениками Гиллеля и Шамая, ознаменовавших эпоху Великого Синедриона (конец I в. до н. э. – начало I в. н. э.), А. Штейнзальц отмечает, что «в этом поколении произошел раскол: из-за неспособности привести споры к какому-то общему знаменателю обе школы, по-своему подходившие к решению больших и малых и законодательных проблем, окончательно разошлись. В конце концов дискуссии достигли стадии, на которой потребовалось принятие однозначных решений» [3, с. 33–34]. Для характеристики такого состояния как кризисного, аномального и чреватого различными расколами и бедствиями приводится суждение из трактата «Сангедрин» (88б): «Когда возросло число учеников Шамая и Гиллеля, которые не учились, как должно, умножились споры в Израиле и сделалась Тора как две Торы» [3, с. 43].
10 А. Штейнзальц так разъясняет оборот «Текст Торы говорит…», используемый в трактате «Псахим» (115а): «Исходя из тех или иных предположений, мы могли бы прийти к такому-то выводу, однако вот отрывок из текста Торы, в котором содержится утверждение, не позволяющее сделать подобный вывод» [1, с. 194]. Гемара, чтобы подчеркнуть ценность приводимого в Мишне высказывания какого-нибудь аморая, указывает: «Он основывает этот закон на таком-то отрывке из текста Торы» [1, с. 154].
11 «Если мнения двух мудрецов на первый взгляд кажутся противоположными, может последовать разъяснение, что рассматриваемые высказывания являются утверждениями, относящимися к совершенно разным случаям» [1, с. 178].
12 В Гемаре есть различные кодификации этих правил, начиная с семи правил Гиллеля [3, с. 21, 28–29]: 13 правил рабби Ишмаэля, 32 правила рабби Элиезера бе-рабби Йосе га-Глили. Позднее, уже в XIX веке Мальбим (рабби Меир-Лейб бен Йехиэль-Михаэль) довел этот список до сакрального в иудаизме числа 613. Но и его, по мнению современных комментаторов, нельзя считать исчерпывающим [1, с. 200].
13 В Синодальном переводе Библии соответствующий стих находится в 16-м псалме.
作者简介
Vyacheslav Vasechko
Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: vyacheslavpetro@yandex.ru
SPIN 代码: 3610-5534
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Leading Researcher
俄罗斯联邦, Yekaterinburg参考
- Rabbi Adin Even Israel (Steinsaltz). Introduction to the Talmud. Moscow: Lechaim, 2018. 480 p. (in Russ.)
- Belen’kiy M.I. What is the Talmud: An Essay on the History and Worldview of the Talmud and Modern Judaism. Moscow: Nauka Publ., 1970. 216 p. (in Russ.)
- Steinsaltz A. Sages of the Talmud. Ed. 2nd, ispr. Moscow: Institute for the Study of Judaism in the CIS, 2005. 192 p. (in Russ.)
- Sages of the Talmud. Collection of Tales, Parables, Sayings. Rostov-on-Don: Phoenix, 2005. 208 p. (in Russ.)
- Steinsaltz A. Point of View. Moscow: Institute for the Study of Judaism in the CIS, 2005. – 304 p. (in Russ.)
- The Worldview of the Talmudists: A Collection of Religious and Moral Teachings in Excerpts from the Main Books of Rabbinic Writing. In 3 vol. Vol. I. Of Man and his Duties to God. St. Petersburg: Tip. E. Hoppe, 1874. 344 p. (in Russ.)
- The Worldview of the Talmudists: A Collection of Religious and Moral Teachings in Excerpts from the Main Books of Rabbinic Writing. In 3 vol. Vol. II. Man's Duties to His Neighbor. St. Petersburg: Tip. E. Hoppe, 1876. 234 p. (in Russ.)
- The Worldview of the Talmudists: A Collection of Religious and Moral Teachings in Excerpts from the Main Books of Rabbinic Writing. In 3 vol. Vol. III. Duties of a Person in Public and Civil Life. St. Petersburg: Tip. E. Hoppe, 1876. 92 p. (in Russ.)
补充文件