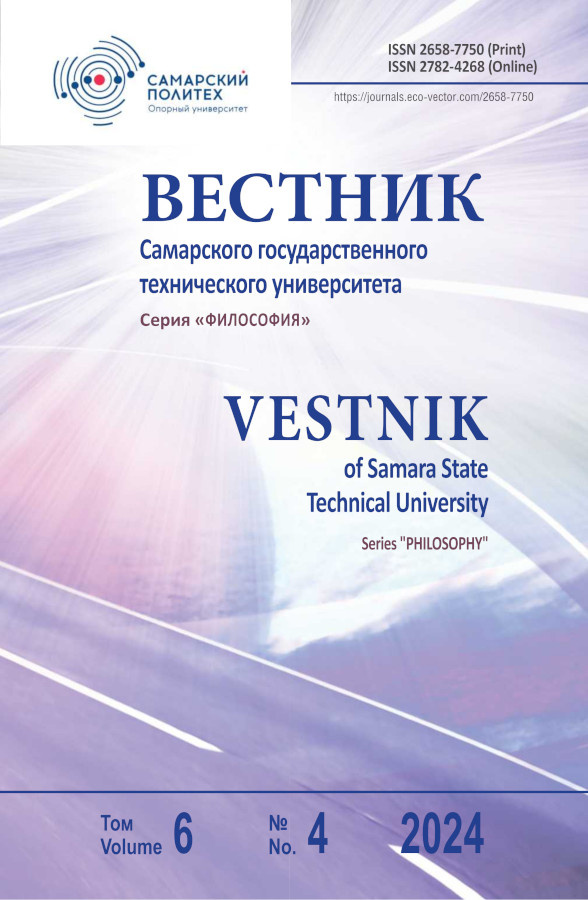Transcendence in the context of theories of mystical and religious experience
- 作者: Gabeev V.V.1
-
隶属关系:
- Gorsky State Agrarian University
- 期: 卷 6, 编号 4 (2024)
- 页面: 16-31
- 栏目: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692908
- ID: 692908
如何引用文章
全文:
详细
The article considers the reflection of the practice of religious transcendence in the theories of religious experience. The essentialist and constructivist approaches to the study of religious experience are highlighted, and the advantages of the essentialist approach to the study of the phenomenon of transcendence are substantiated. The topic of transcendence in the context of theories of religious experience is investigated in works of Russian religious philosophers of the first half of the twentieth century (P.A. Florensky, S.N. Bulgakov, S.L. Frank, I.A. Ilyin). Alongside these theories, the religious experience theory of the American sociologist P. Berger (the 2nd part of 20th century) is comparatively presented in the article to demonstrate the relevance of Russian religious philosophy in understanding religious experience. It is concluded that the studied concepts of religious experience allow us to consider it as an experience of transcendence.
全文:
Исследования религиозного опыта начинаются с сочинения Ф. Шлейермахера «Речи о религии, направленные к образованным людям, находящимся среди её недоброжелателей» (1799 г.), а в активную фазу входят в начале ХХ в. после выхода «Многообразия религиозного опыта» У. Джеймса (1902 г.) и «Священного» Р. Отто (1917 г.). Однако до настоящего времени исследователи религиозного опыта не достигли единства не только в понимании его природы, но и в определении его специфики.
Во-первых, выделяются две исследовательские линии в отношении самого определения религиозного опыта – эссенциализм и конструктивизм или контекстуализм [1]. Представители эссенциализма (Э. Андерхилл, Р. Генон, У. Стейс, Р. Форман, О. Хаксли и др.) формулируют определения сущности (или сущностных характеристик) этого феномена. Контекстуалисты (Б. Гарсайд, С. Кац, Д. Меркур, У. Праудфут и др.) исходят из убеждения в отсутствии таковой. Конструктивисты утверждают приоритет культурно-исторических условий и традиций, которые и сделали возможным тот или иной опыт; то есть мистический опыт в их определении – не что иное, как «расширение», «продолжение» религиозного опыта и религиозной традиции в целом. Согласно эссенциалистам религиозный опыт характеризуется невыразимостью, интуитивностью, кратковременностью, бездеятельностью воли (эти характеристики выделил ещё Джеймс), субъективностью, непосредственностью, направленностью на трансцендентное. Но эмпирические исследования (опросы) показывают, что эти признаки не являются общезначимыми и не могут охватить всех явлений, описываемых как религиозные или мистические переживания. Опираясь на данный факт, конструктивисты отрицают существование религиозного опыта как разновидности опыта, заявляя, что существуют лишь отдельные мистические опыты, описания которых детерминированы концептуально-культурным контекстом. Понятия, верования, ценности и ожидания, уже имеющиеся в сознании верующих, конструируют структуры опыта, поэтому можно сказать, что характер религиозного или мистического опыта определён эпистемологическими рамками.
Справедливо будет указать, что Т.В. Малевич описывает и третью исследовательскую линию, появившуюся совсем недавно по сравнению с эссенциализмом и конструктивизмом и претендующую на синтез сильных аргументов конструктивизма и эссенциализма, – так называемый атрибуционный подход. Его авторы предлагают исследовать содержание концептов, в которых выражается мистический и религиозный опыт, с пониманием того, что это содержание именно концептов, а не особого типа реального [1, с. 23]. Однако некоторые исследователи религии придерживаются мнения о несостоятельности этого подхода в решении проблем понимания специфики религиозного или мистического опыта: «Как представляется, такой подход не решает проблему определения мистического опыта, а лишь методологически более точно ставит ее, заставляя задуматься не только о том, чем обусловлено убеждение субъекта мистического опыта считать свой опыт именно мистическим, но и о том, что вынуждает исследователя соглашаться с этими убеждениями» [2, с. 108].
Во-вторых, не у всех авторов прослеживается дистинкция религиозного и мистического опыта. Одни авторы отождествляют (например, русские религиозные философы первой половины XX века), другие различают их, причём ряд исследователей утверждает, что мистический опыт является частью религиозного опыта, а для остальных исследователей такое утверждение неприемлемо. Так, У. Джеймс и М. Вебер под мистикой понимали такой тип религии, который утверждает непосредственное общение с Богом, живое сознание божественного присутствия, Н. Смарт считал, что религиозный и мистический опыт основаны на разных типах переживаний, а Г. Кюнг рассматривал понятия религиозного и мистического опыта как пересекающиеся: «Мистика – это больше, чем религиозный опыт, который есть в каждой религии наряду с учением, этикой и ритуалами. Есть бесчисленные виды религиозного опыта, которые нельзя считать мистикой: возвышенное чувство во время богослужения, восторг при встрече с прекрасными творениями природы или человеческой культуры, состояние глубокого покоя и безопасности на священном месте, ощущение единения на массовом религиозном мероприятии, радикальный пересмотр мировоззрения, детская связь с Богом…» [3, с. 137].
Австралийские исследователи религии Б. Мур и Н. Хабель предлагают определение религиозного опыта как «структурированного пути, на котором верующий в рамках определённой религиозной традиции вступает в отношения со священным или обретает осведомлённость о священном… религиозный опыт по самой своей природе выходит за пределы обыденности (трансцендирует)» [4]. Это определение представляется наиболее удачным, поскольку учитывает все моменты, конституирующие специфику религиозного опыта.
Во-первых, религиозный опыт понимается не как совокупность или набор переживаний, а как структурированное образование, это отличает указанное определение от большинства имевших место в исследованиях второй половины ХХ в. Как отмечает С.Н. Астапов, «…религиозный опыт часто отождествляется с религиозными переживаниями. Свидетельством тому служит употребление в англоязычной религиоведческой литературе концепта «религиозный опыт» в форме множественного числа – religious experiences. При этом в понимании религиозного переживания акцент чаще всего ставится на характеристике аффективного состояния субъекта, а не на представленном в переживании знании. […] Опыт больше, чем переживание, если под переживанием понимать только некоторое эмоциональное состояние, не имеющее когнитивной значимости. Несмотря на то, что опыт лежит по преимуществу в чувственной сфере, ею он не ограничивается. Уже Кант считал опыт результатом чувственно-рационального познания…» [5].
Во-вторых, данное определение указывает на то, что религиозный опыт неотделим от религиозной традиции, он проверяется и объективируется традицией, он выражается в тех концептах, которые использует определённая религиозная традиция. Понимание диалектики субъективных религиозных переживаний и объективирующей силы религиозной традиции устраняет односторонности как эссенциализма, так и конструктивизма в дискуссиях о сущностных характеристиках религиозного опыта. П. Бергер в работе «Еретический императив» указывает, что религиозная традиция «опосредует опыт иной реальности как для тех, кто никогда таким опытом не располагал, так и для тех, кто имел его, но всегда в опасности позабыть его. Любая традиция есть коллективная память. Религиозная традиция есть коллективная память тех моментов, в которые реальность иного мира врывается в преобладающую реальность повседневной жизни» [6, с. 352].
В-третьих, в определении Мура и Хабеля отмечается специфическая предметность религиозного опыта – священное. Независимо от того, насколько по-разному оно понимается в различных религиозных традициях, священное не только вызывает у всех верующих схожие переживания, но и формирует готовность действовать определённым образом, о чём замечательно написал Р. Отто в «Священном». Наконец, в этом определении указано, что религиозный опыт есть опыт трансцендирующего субъекта, что является предельно важным для нашего исследования, направленного на обоснование понимания религии как практики трансцендирования.
Мур и Хабель разделяют религиозный опыт на непосредственный и опосредованный: «Опосредованный опыт верующий обретает при помощи вспомогательных средств – таких, как ритуалы, особые личности, религиозные группы, тотемные объекты или природа…, непосредственный опыт приходит к верующему без какого-либо вмешательства. При этом божество или божественное воспринимается напрямую» [4]. На основании данной типологии становится ясно, что виды опыта отличаются качественно: «непосредственный опыт» – это опыт мистический, «опосредованный» – религиозный.
П.С. Гуревич полагает, обращаясь к этимологии слова «мистика», что оно происходит от греческого глагола μυείν со значением «закрыть глаза и рот» и его «первоначальный смысл был связан с обетом хранить молчание, быть посвященным в мистерии – тайные культы, которые представляли собой пережитки древней религии поклонения Матери-Земле» [7]. В христианской традиции мистическое означает нечто невыразимое в силу принадлежности к иной, трансцендентной реальности, – то, чему невозможно найти аналогии в нашем мире. Так у Псевдо-Дионисия Ареопагита термин «мистическое богословие» означает апофатическое богословие, а Максим Исповедник называет «Мистагогией» свою книгу, толкующую символизм евхаристического богослужения. Исходя из этого условимся понимать мистический опыт как разновидность религиозного опыта, главной характеристикой которого выступает непосредственность переживания встречи со сверхъестественным (трансцендентным).
Религиозный опыт как опыт трансцендирования наиболее ярко представлен в русской религиозной философии первой половины ХХ в. (С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, И.А. Ильин). При этом трансцендирование понималось в общем как выход за пределы ограниченных предметно-эмпирических и рационально-отвлеченных состояний, как движение от разрозненности, зла, вражды и разных несовершенств мира, постигаемых в повседневном опыте, к бытию, в котором этих несовершенств нет. Такой выход, по мнению русских философов, полноценно обеспечивается только в религии единобожия, которую поэтому можно назвать единственно истинной религией.
С.Н. Булгаков следующим образом определяет сущность данной религии: «Религия есть опознание Бога и переживание связи с Богом. Если эту формулу перевести на язык философский, она получит такое выражение: религия есть переживание трансцендентного, становящегося постольку имманентным, однако при сохранении своей трансцендентности, переживание трансцендентно-имманентного» [8, с. 27]. В акценте на трансцендентном Булгаков стремился противопоставить истинную религию религиозному имманентизму, приводящему к пантеизму и «человекобожничеству».
Булгаков считает религиозный опыт опытом трансцендирования, в котором человек преодолевает «зияние» между миром и Богом, но не своими силами, а с Божьей помощью, поэтому Бог – это не только объект религиозного опыта, но и его субъект, поскольку в религиозном акте Бог и человек содействуют, отчего трансцендентный Бог становится имманентным человеку: «Объект религии, Бог, есть нечто, с одной стороны, совершенно трансцендентное, иноприродное, внешнее миру и человеку, но, с другой, он открывается религиозному сознанию, его касается, внутрь его входит, становится его имманентным содержанием» [8, с. 99].
По Булгакову, религиозный опыт – это один из типов духовного опыта человека и сравним в плане сочетания субъективного и объективного с опытом других предметных сфер: научным, философским, эстетическим, этическим. Но он невыводим из этих или других видов опыта, потому что имеет свой специфический предмет – встречу с Божеством. Она носит исключительно индивидуальный характер и является единственным источником религиозной автономии личности. Переживание встречи с Божеством представляется для субъекта настолько очевидным, что не требует доказательств. Предвосхищая возможные возражения, что эта очевидность лишь кажущаяся, иллюзорная, Булгаков заявляет: «Но в таком случае не есть ли, поставим мы перекрестный вопрос, такая же иллюзия вот это море, которое я вижу, и этот его шум, который я слышу, эта синева неба, которую я созерцаю? Конечно, возможно допустить, что я могу заблуждаться в своём чувственном опыте, возможно, что это не море и не его шум, а мне только показалось, и что никакой синевы неба в действительности нет, а я ошибся. Но в этом я могу убедиться, только опираясь на чувственное или эстетическое восприятие, его исправляя и углубляя, логическими же доводами никто не может обессилить непосредственной силы и убедительности моего впечатления» [8, с. 44]. И так же, как любой опыт формируется на основе восприятий, имеющих физиологическую основу, религиозный опыт имеет свою физиологию: как есть у человека органы зрения, слуха и прочих чувств, так имеется и орган религиозного чувства – сердце, регистрирующee воздействия Бога, и существует различная степень развития этого органа – «религиозная одарённость» [8, с. 37].
В понимании сердца не только как главного органа системы кровообращения, но и как органа восприятия Булгаков следует христианской святоотеческой аскетике, которая унаследовала понятийный аппарат от позднеантичной антропологии, считавшей сердце и мыслящим органом познания, и вместилищем души. Воспроизведение позднеантичной и средневековой антропологии после физиологических открытий Нового времени, прочно связавших сознание с мышлением, а мышление с деятельностью головного мозга, кажется странным для образованного человека начала ХХ в., тем более для университетского профессора, каковым был С.Н. Булгаков. Однако нужно учитывать то обстоятельство, что Булгаков был одним из числа тех мыслителей, которые сознательно противопоставляли христианское мировоззрение, несущее значительный отпечаток античных и средневековых представлений, популярным в то время позитивизму и материализму, имевшим сильнейший естественнонаучный заряд. Главную задачу своего философствования они видели в утверждении христианской картины мира, в эпистемологической составляющей которой наука играет хоть и важную роль, но далеко не исключительную, и не имеет исключительного права на истину, тем более в высказываниях о таких сущностях (Бог, духи, душа и др.), которые наука не исследует.
К суждениям о феноменах, не входящих в область научных исследований, С.Н. Булгаков относит и веру. Казалось бы, вера – психологический феномен и изучается психологией, к началу ХХ в. уже вполне сформировавшейся наукой. Но психология расширяет понятие «веры», выводя за пределы религии, а Булгаков считает такое расширение ложным. Оно не способно, по мнению Булгакова, отразить антиномию веры и знания, а в сфере исследования религии объяснить принципиальное отличие религии от оккультизма и таких его форм, как теософия и антропософия. Областью веры Булгаков провозглашает исключительно трансцендентное Божество, а необходимым элементом веры – откровение. Он проводит чёткую границу между верой и знанием, понимая под последним по большей части знание рациональное. По его словам, вера для разума и для логики – это hiatus, то есть зияние, дыра. Самая точная характеристика веры представлена в средневековой формуле “сredo, quia absurdum est” («верую, ибо это нелепо»), ведь вера оправдывает самые нелогичные поступки. Булгаков также отделяет веру от интуиции как сверхрациональное от дорационального, он выделяет три признака веры, отличающих её от интуиции: вера, во-первых, имеет направленность к трансцендентному, в то время как интуиция коренится в эмпирической действительности во-вторых, свободна, так как не зависит ни от каких естественных условий, в третьих, носит личностно-творческий характер, поскольку является актом свободного воления трансцендирующей личности, то есть личности, стремящейся к тому, чего нет в её наличном опыте. Интуиция же принудительна (потому что обусловлена естественными закономерностями), праксеологична (в том смысле, что отдаёт предпочтение наиболее важному для жизненной деятельности, наиболее вероятному с точки зрения практического опыта) [8, с. 44–51].
Сердцевиной религиозного опыта у С.Н. Булгакова как православного мыслителя выступает молитвенный опыт. Булгаков считает, что в молитве, обращённой к Богу и содержащей его имя, происходит мистическое соединение человеческих и божественных интенций, движения человека к Богу – трансцендирования человека – и Бога к человеку, его энергийное сошествие в мир: «…в молитве Трансцендентное становится предметом человеческого устремления как таковое, именно как Бог… Она получает Трансцендентное как имманентное…» [8, с. 25–26].
В том, что молитва творится с использованием многих эпитетов и метафор, проявляется «осторожность» языка в отношении именуемого Бога, чтобы не умалить понимание его трансцендентности аналогиями повседневного мира. Когда речь мистика замерла в апофатическом молчании, это означает, что явившееся ему оказалось чрезмерным для сознания, и оно будет выражено потом, когда сознание найдёт для этого адекватные и «осторожные» слова.
Схожие с суждениями С.Н. Булгакова мысли высказывает П.А. Флоренский. Он считает религиозный опыт непосредственным переживанием Бога. В этом смысле Флоренский отождествляет мистический и религиозный опыт, отмечая, что религиозный опыт основан на мистической интуиции. Главными особенностями предмета религиозного опыта, по Флоренскому, являются его трансцендентность для разума и субъектность. Бог переживается не как объект, а как субъект. Непосредственность религиозного опыта преодолевает дискурсивность рассудка, позволяя познать то, что для рассудка запредельно.
Согласно П.А. Флоренскому разум в попытках познать область божественного наталкивается на антиномии. Преодоление этих антиномий и, как результат, постижение непостижимого возможно посредством трансцендирования, которое с гносеологической точки зрения можно назвать интуитивным созерцанием. Начинается оно с веры, которая является своего рода победой над рассудком и приводит к аксиоматическому принятию трёх условий достоверного опыта: «1) абсолютная истина есть, т. е. она – безусловная реальность; 2) она познаваема, т. е. она – безусловная разумность; 3) она дана как факт, т. е. является конечною интуицией; но она же абсолютно доказана, т. е. имеет строение бесконечной дискурсии» [9, с. 42]. Именно потому, что интуитивное созерцание является прекращением дискурсии рассудка, то есть мышления в понятиях, понятийное выражение содержания религиозного опыта предельно затруднено, а пережитое состояние трансцендирования – совсем невозможно, оно апофатично.
Своё самое крупное философское произведение – «Столп и Утверждение Истины» П.А. Флоренский заканчивает своего рода гимном мистическому опыту: «Чтобы прийти к Истине, надо отрешиться от самости своей, надо выйти из себя; а это для нас решительно невозможно, ибо мы – плоть. Но, повторяю, как же именно в таком случае ухватиться за Столп Истины? – Не знаем и знать не можем. Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь Вечности. Это непостижимо – но это так. И знаем, что “Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и учёных” приходит к нам, приходит к одру ночному, берёт нас за руку и ведёт так, как мы не могли бы и подумать. Человекам это “невозможно, Богу же всё возможно (Мф. 19, 26, Мр.10, 27)”» [9, с. 489]. В этих словах Флоренский выражает христианскую идею о неоставленности мира Богом. Проявление воли Бога в виде разного рода знамений, чудес и даже принципов миропорядка, которые учёные называют законами природы, и есть та «лазурь Вечности», которая побуждает верующего человека искать истину и влечёт его к Истине, то есть Богу как абсолютной истине и безусловной реальности.
С.Л. Франк в сочинении «Непостижимое» описывает содержание религиозного опыта как реальность, которая осознаётся субъектом этого опыта в качестве первичной и абсолютной, порождающей чувство трепета и восхищения. С точки зрения Франка любой познавательный акт выступает как трансцендирование, потому что он является соединением сознания с реальностью, отличной от него. Трансцендентный сознанию предмет становится имманентным ему. Чтобы объяснить, как это происходит, Франк позиционирует онтологическую основу сознания: «…то сверхвременное единство, в котором мы усмотрели основу отношения сознания к “предмету”, как таковое дано нам не в форме сознания, а в форме бытия. Мы сознаём это единство, т. е. наше сознание может направляться на него только потому, что независимо от потока актуальных переживаний, образующего жизнь нашего сознания, мы есмы сверхвременное единство, мы пребываем в нём и оное нас. Первое, что есть, и что, следовательно, непосредственно очевидно, есть не сознание, а само сверхвременное бытие» [10, с. 155–156]. Указанная основа сознания, а вместе с тем и субстрат всякой конкретности и множественности, то есть тотальность бытия, должна характеризоваться как сверхлогическое, из чего следует наличие в логическом сверхлогического, выходящего за пределы мышления. Прорыв к этому сверхлогическому и является трансцендированием. В чистом виде такой прорыв осуществляется в интуитивном акте – через самоотрицание разума, и в этом смысле – в акте апофатическом.
Так же, как П.А. Флоренский, С.Л. Франк пишет, что понятийное познание предполагает дифференциацию реальности и фиксацию результатов этой дифференциации в понятиях. Выработав систему понятий, познающий субъект подводит под них всё многообразие единичного. Такой способ познания представляется разуму совершенно естественным и потому предпочтительным, а с появлением науки он абсолютизируется. Однако при подведении под общее понятие утрачиваются специфические черты индивидуальности, теряется её уникальность. Поэтому выработанное наукой субъект-объектное познание нерелевантно в отношении индивидуального бытия, а тем более в отношении абсолютного сверхвременного бытия, представляющего собой единичность, и должно быть заменено субъект-субъектным познанием, высшим и наиболее адекватным проявлением которого у Франка, как и у других современных ему русских религиозных философов, является любовь.
С.Н. Астапов, исследуя проблему познания Бога в философии религии С.Л. Франка, следующим образом описывает познавательное значение любви у Франка: «Погрузив сознание индивида в тотальность Абсолютного бытия, Франк отказывается от рассмотрения познания как субъект-объектного отношения. По Франку, в процессе познания происходит взаимопроникновение сторон, участвующих в познавательном акте. Таким образом, познание есть субъект-субъектный акт, а наиболее адекватным его переживанием выступает любовь. Гносеолого-онтологическое осмысление любви типично для мистицизма, в том числе христианского. В акте такого познания-любви Божество становится Богом: непостижимый трансфинитный и трансдефинитный Абсолют становится Личностью, которая идет навстречу ищущему её индивиду. Встреча души с Богом, по Франку, составляет основу религиозного опыта» [11, с. 59].
Итак, С.Л. Франк рассматривает любовь (подобно П.А. Флоренскому [9, с. 74–78]) как познавательную деятельность, то есть деятельность, результатом которой является истинное знание, а не как психологическое состояние, имеющее результатом переживание: «Любовь по своему существу не есть просто «чувство», эмоциональное отношение к другому; первичный смысл феномена любви состоит в том, что она есть актуализованное, завершенное трансцендирование к «ты» как подлинной, я-подобной, по себе и для себя сущей реальности, открытие и усмотрение «ты» как такого рода реальности и обретение в нем онтологической опорной точки для меня» [10, с. 528]. Любовь к конкретному единичному предмету служит условием познания во всей его полноте.
В отличие от П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова С.Л. Франк не считает, что мистико-интуитивное познание отрицает дискурсивно-понятийное познание, а рассматривает понятийное познание как следующий, производный от мистико-интуитивного, но необходимый этап. Интуиция выражает предмет в его металогической цельности, а понятийное («отвлечённое») знание представляет целостность в виде совокупности обособленных элементов, раскрывая и обогащая первичную интуицию. В связи с этим Первичную реальность или Абсолютное единство Франк описывает не как единичность в отношении множества, а как особое условие самого множества – такое, которое содержит это множество в себе, а не предполагает существование его вне себя. В таком контексте русский философ размышляет о невыразимости Первичной или Абсолютной Реальности, то есть Божества.
Невыразимость и непостижимость у Франка не тождественны неведению. Божество недоступно для понятийного («постигающего») познания, но это не значит, что оно вообще недоступно для нашего понимания. Наряду же с «постигающим познанием» существует знание непонятного – docta ignorantia («учёное неведение»), о котором писал Николай Кузанский. Вслед за Кузанцем Франк указывает, что реальность в своей целостности трансдефинитна (не имеет никаких понятийных определений) и трансфинитна (превосходит любую величину), именно поэтому интуитивное созерцание Абсолюта предстаёт у Франка как docta ignorantia. Впрочем, Франк различает понятия «Божество» и «Бог». Божество, сокровенное по существу, обнаруживает себя в глубинах духовного опыта человека как Бог, то есть божественная личность. Восприятие Бога возможно только в субъект-субъектном отношении «я – ты», предельно выраженном в любви.
У Франка Бог трансцендентен сознанию, но не миру. Он исходит из концепции Николая Кузанского possest (Абсолют как «бытие-возможность»). Это означает, что мир больше, чем он есть сам по себе, – он есть мир в Боге. Бог есть всё, ничто не существует вне Его, но ни мир в целом не тождественен Богу, ни тем более Бог не тождественен миру. Несмотря на то, что о Боге мы мыслим по аналогии с миром, потому что в познании не можем перешагнуть границы нашей действительности и нашего языка, полностью непостижимым является только Божество как Абсолют, а Бог, то есть Божество в Его отношении к человеку и миру, открывается познанию, присутствуя в человеке посредством божественной благодати.
В книге «С нами Бог» Франк подробно рассматривает особенности религиозной веры. Главную черту, отличающую её от веры обыденной жизни, он видит в том, что она ориентирует индивида не на наиболее вероятное, а на наименее вероятное, ведь что может быть менее вероятным для рациональной мысли, чем бытие Бога. Религиозная вера существует только потому, что опирается на самообнаружение Бога. Однако в отличие от С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского С.Л. Франк не противопоставляет веру и знание. Он считает веру особым знанием – знанием-доверием или верой-достоверностью. Такое знание вызывается реальным присутствием самого предмета знания в нашем сознании, что и составляет сущность опыта. Это означает, что вера у Франка имеет характер интуиции, а так как интуитивное «живое знание», по его мнению, предшествует «предметному знанию», вера служит его предпосылкой и основой.
Итак, С.Л. Франк считает, что трансцендирование происходит посредством мистической интуиции, а религиозный опыт представляет собой вершину внутреннего опыта человека, потому что является переживанием трансцендентного как наиболее достоверного, а своим результатом имеет «постижение Непостижимого». Религиозный опыт, по мысли Франка, реален и сверхреален. Он настолько реален, насколько несомненна реальность содержания любого другого опыта, выходящего за пределы чувственно воспринимаемого бытия: эстетического восприятия, восприятия времени, геометрических форм, общих свойств, отношений и прочего. Но так содержание религиозного опыта относится к сфере трансцендентной первичной реальности, и очевидно, что первым актом к получению такого опыта является вера.
Понимание религии как выражения стремления человека к абсолютности было характерно и для А.Ф. Лосева. В «Диалектике мифа» он так определяет религию: «…религия есть всегда то или иное самоутверждение личности в вечности… та или иная попытка утвердить личность в бытии вечном, связать её навсегда с бытием абсолютным» [12, с. 92]. При этом Лосев указывает на чувственность, даже физиологичность религии, понимая под последним словом то, что религия именно жизнь, в которой задействован весь организм человека, а не только интеллект, чувства или воля.
Ещё один русский религиозный философ первой половины ХХ в. – И.А. Ильин, чтобы рассмотреть сущность религии, редуцирует религию к религиозному опыту: «Религия как человеческое состояние есть прежде всего религиозный опыт» [13, с. 16]. Религиозный опыт, по Ильину, – это опыт видения реальнейшего и лучшего путём «отвязывания» чувства и созерцания от внешнего мира и его закономерностей. Но такое «отвязывание» не означает исчезновения предметности: предметом религиозного опыта выступает «Совершенство, обладающее объективной реальностью», то есть Бог. Началом религиозного опыта выступает «предчувствие полноты совершенства»: «Быть религиозным совсем не значит иметь сверхъестественные видения или предаваться экстазам, или переживать мистические «посещения»; всего этого может и не быть, и в духовном отношении, может быть, даже лучше, чтобы этого не было. Но нельзя стать религиозным, не имея хотя бы малого опыта объективного совершенства и не принимая этого совершенства сердцем» [13, с. 135].
В структуре религиозного опыта И.А. Ильин выделяет три составляющие: религиозный акт, религиозное созерцание и религиозный предмет. Религиозный акт – это то, как человек верует, то есть религиозное переживание, «состояние души», слагающееся из психических функций: чувства (эмоций и аффектов), воображения, мышления, воли, ощущений и инстинктивных влечений. Религиозное содержание – то, во что человек верует, что исповедует в качестве абсолютной истины. Оно есть не личное переживание, а то, что принимается личностью, то есть имеет объективированные формы, например догматы, молитвы, славословия. От строения религиозного акта зависит религиозное содержание. Христианство, по мнению Ильина, есть религия сердца, ислам – религия воли, индуизм – религия воображения. Новое религиозное содержание требует нового религиозного акта, так возникают реформы, секты и ереси.
Обращает на себя внимание то, что Ильин в опыт включает мышление – этим он отличается от Ф. Шлейермахера, У. Джеймса и современных ему западноевропейских исследователей религиозного опыта, провозглашавших полную иррациональность такового. Он пишет о целостном характере религиозного опыта, в котором определённая роль принадлежит и мысли. Своим оппонентам, утверждающим, что религиозный опыт у большинства людей слагается и зреет не в сфере сознания, а в иррациональных тайниках чувства и воображения, Ильин отвечает тем, что невозможно отделить разум от таких «чувственных» составляющих религии, как любовь, созерцание, воля. Кроме того, религиозный опыт не исключает сомнения; религиозное сомнение подразумевает предметное отношение к Богу: «В религиозном сомнении человек уже одержим тем самым Предметом, в котором он сомневается и о котором всё ещё не решается сказать себе ни «да», ни «нет». Эта одержимость есть сама по себе, до наступления религиозной очевидности и без неё – религиозное событие…» [13, с. 265].
Как и большинство других исследователей, И.А. Ильин утверждает, что религиозный опыт является приоритетным опытом (опытом «по-главному») и наиболее интенсивен по сравнению с другими видами опыта. Он становится главным потому, что носит характер катарсиса (очищения): освобождает душу человека от недуховных, пошлых и ничтожных содержаний и создаёт, а затем укрепляет «религиозно верные акты»: живое ощущение тайны; смирение; благодарность; дар сердечного созерцания; доброту. Эти акты не извлекаются из личного опыта, а создаются религиозной общиной или Церковью: «религия не «выдумывается», а восприемлется» [13, с. 380]. Обладая собственным религиозным опытом, человек стремится к «религиозно-опытному» общению, способному утвердить его в верности избранного пути.
В этом пункте И.А. Ильин обращается к социальной составляющей религиозного опыта. Для русского мыслителя нет дихотомии индивидуальных мистических переживаний и конфессионального религиозного опыта. Индивидуальная религиозность обусловлена коллективной (конфессиональной), хотя неколлективная религиозность является источником религиозного опыта; индивид может сформировать специфическое содержание своего религиозного опыта, что потребует нового религиозного акта, от чего возникнет конфликт с религиозной общиной, но если у данного индивида возникнут единомышленники, то образуется новая религиозная общность (секта).
И.А. Ильин считает, что часто человек смешивает предмет и содержание религиозного опыта и выдаёт содержание за предмет. Так возникает иллюзорный (фантастический, химерический, беспредметный) опыт – те самые «ложь и предательство». Кроме того, в качестве Предмета религиозного опыта может оказаться несовершенный предмет, и тогда у человека возникает ложный религиозный опыт.
Вершиной религиозного опыта, согласно Ильину, является переживание единения с Богом, которое ощущается как свет, дающий высшее счастье или блаженство. Тема светоносных переживаний присутствует в различных религиозно-мистических традициях. Но у Ильина основой описания опыта единения с Богом является исихастская доктрина созерцания Фаворского света, догматически закреплённая в православной традиции. В духе этой традиции Ильин указывает, что единение с Богом возможно, только если человек воспринимает «божественный Предмет» всей глубиной сердца, вовлекая в это приятие силу сознания, воли, разума, и придает этому опыту определяющее значение в личной жизни.
Итак, определение религиозного опыта И.А. Ильин начинает с предельно общей констатации того, что этот опыт является восприятием Бога индивидом в пределах своей субъективной и личной человечности и заканчивает также общим, по крайней мере для религиозных мыслителей, суждением о том, что религиозный опыт есть опыт единения с Богом. Между ними – более двадцати конкретных характеристик религиозного опыта и условий его осуществления, рассеянных во всём содержании книги «Аксиомы религиозного опыта». Из них главные таковы: это опыт непосредственного видения реальнейшего и лучшего, он носит автономный характер, предполагает любовь, характеризуется постоянной, устойчивой направленностью и напряженностью, не исключает сомнения, нуждается в очищении, углублении и обновлении, является приоритетным в жизни индивида, цельным и искренним, смиренным и молитвенным, вызывает желание совершенствоваться, верность Богу и острое ощущение своего греха.
Отсюда следует, что, по Ильину, религиозный опыт настолько специфичен, что может быть понят только из себя самого, в слабом варианте – из описаний тех, кто был носителем подлинного религиозного опыта. Эти описания, а также религиозные предметы, догматы, книги, правила, слова, обряды, здания и священнослужители служат объективациями религиозного опыта. В силу своего приоритетного характера он выступает основой других видов опыта. Вследствие этого встаёт вопрос о критериях истинности. Тем более что Ильин категорически возражает Ф. Шлейермахеру, призывающему освободить субъективное религиозное созерцание и оправдать его в деле религиозного постижения, вопреки мнению, что религиозное верование может быть истинным или ложным. В призыве Шлейермахера Ильин увидел утверждение права человека на религиозную разнузданность.
И.А. Ильин считает, что религиозная истина познаётся не чувствами (эмоциями и аффектами), не логикой (интеллектом), а сердечным созерцанием – особой интуитивной деятельностью, которую можно назвать ещё и любовью. Игнорирование последней приводит к мысли, что человек от вожделеющего животного отличается только способностью к формально-логической деятельности. Любовь связана по крайней мере с двумя качествами – смирением и благодушием. Смирение происходит от понимания человеком своего несовершенства перед предметом своей веры. Благодушие наступает в результате осознания своей связи с предметом веры, неоставленности им, его объективности, а значит, данности его в опыте и другим людям, их причастности ему, что, в свою очередь, позволяет ощутить свою духовную общность с этими людьми или хотя бы надежду на эту общность. Таким образом, в отличие от Ф. Шлейермахера и Р. Отто, говоривших о пассивном характере религиозного опыта, И. Ильин доказывал его деятельный характер и считал, что человек ответственен за его чистоту, как ответственен и за все свои дела и поступки.
От рассмотренных выше концепций отличается концепция Н.А. Бердяева, в которой мистический и религиозный опыт разделяются. Если религиозный опыт есть институализованная форма опыта богообщения, то мистический – личная. Но «личная» не означает «субъективная». Мистик, преодолевая тварность, видит истинную реальность, то есть реальность божественную. Это означает, что мистик – религиозный человек, но выражает он свой опыт не в понятиях, как это делает теология, а в образах: «Мистики описывали переживания своего опыта как преодоление бездны между Богом и человеком. В этом опыте, уверен философ, трансцендентное становится имманентным, Бог раскрывается изнутри, а не снаружи, или сверху, с неба» [14, с. 29; 15, с. 163–166].
Рассмотренные выше рассуждения русских религиозных философов первой половины ХХ века о религиозном опыте – это рассуждения религиозных мыслителей, для которых данный вид опыта являлся наиболее значимым личностно, и поэтому к этим рассуждениям можно относиться как к субъективно окрашенным, не выдерживающим строгой научной критики с объективистских позиций. Но проблема состоит в том, что религиозный опыт не может быть проверен ни научными доводами, ни тем более экспериментами, ни предметно практической деятельностью, поскольку все они направлены не на трансцендентный предмет религиозного опыта, а на предметы «имманентного» мира, повседневной реальности. В результате же религиозного трансцендирования осуществляется своего рода «прорыв» ткани повседневности, и индивид оказывается в особой области опыта, находящегося за пределами как его собственного повседневного жизненного опыта, так и тех знаний, норм и оценок, которые ему транслированы обществом как внешней для него средой. Осмысливая же свои религиозные переживания, он испытывает личностную трансформацию, изменяющую, иногда весьма радикально, его взгляды на жизнь, окружающую действительность и способы взаимодействия с ней.
Вместе с тем аргументу об ангажированности рассуждений русских религиозных философов о религиозном опыте как опыте трансцендирования противостоит концепция религиозного и мистического опыта П. Бергера. П. Бергер как исследователь религии стоит на позиции «методологического атеизма», согласно которой религиозные идеи и отношения нужно рассматривать только как продукт человеческой деятельности, не включая в число их продуцентов Бога [16]. В концепции Бергера в связи с такой позицией «религия может быть определена как человеческое отношение к космосу (включая сверхъестественное) как к священному порядку» [6, с. 348], как то, что «включает набор установок, верований и действий, связанных с двумя типами опыта – опытом сверхъестественного и опытом священного» [6, с. 346].
Основываясь на теории множественных реальностей А. Шюца, согласно которой трансцендированием является любое прерывание повседневности, будь то транс, погружённость в разбор научной теории или созерцание художественной картины, П. Бергер писал о том, что мистический и религиозный опыт основаны на переживании прорыва в такую реальность, по сравнению с которой повседневная реальность утрачивает свой онтологический статус преобладающей реальности, превращаясь либо в иллюзию, либо в несовершенную копию истинной реальности, открывшейся в этом прорыве. При этом переживание «радикально и ошеломляюще иной реальности» – это опыт сверхъестественного или мистический опыт [6, с. 346–348]. Религиозный же опыт – это переживание встречи с совершенно иным бытием, которое для человека обладает спасительной значимостью: «С точки зрения индивида священное есть нечто подчёркнуто иное, чем он сам, и в то же время именно оно укрепляет его в самом центре его бытия, соединяет его с космическим порядком» [6, с. 349].
Рассуждения Бергера об опыте сакрального, несмотря на указанную позицию «методологического атеизма», ведутся в духе Р. Отто, протестантского пастора, и сам Бергер неоднократно указывает, что Отто принадлежит классическое описание священного. Можно провести аналогию между суждениями Бергера о религии и идеями М. Элиаде и других религиозных мыслителей западной цивилизации, и все эти аналогии будут свидетельствовать лишь об одном – выражение религиозного опыта без учета обращения к его характеристике как опыта наивысшей реальности или, по крайней мере, реальности, превосходящей реальность окружающего мира, оказывается неполноценным и неудачным. Таким образом, религиозный опыт имеет свою специфику, касающуюся предмета и силы переживаний, причём ни предмет, ни сила этих переживаний не зависят от социокультурных условий и обстоятельств, будучи трансцендентны им. Поэтому религиозный опыт следует считать опытом трансцендирования, независимо от того, как понимается само трансцендирование.
作者简介
Valery Gabeev
Gorsky State Agrarian University
编辑信件的主要联系方式.
Email: v.gabeti@mail.ru
SPIN 代码: 5505-7217
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Social Sciences
俄罗斯联邦, Vladikavkaz参考
- Malevich TV. Theories of mystical experience: historiography and perspective-you. Moscow: IFRAN, 2014. 175 p.
- Mironova AM, Astapov SN. Sociocultural and anthropological contexts in the definitions of mystical experience. Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political science. 2022;69:104-112.
- Kyung G. What I believe. Moscow: BBI Publishing House, 2013. 288 p.
- Moore B, Habel N. When religion goes to school: Typology of religion for the classroom. Adelaide: South Australian College of Advanced Education, 1982. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/1
- Astapov SN. Epistemology of religious experience. Scientific thought of Kavkaz. 2009;3(59):62-66.
- Berger P. Religious experience and tradition. Religion and society: Anthology on the sociology of religion. Moscow: Aspect Press, 1996. 352 p.
- Gurevich PS. Mysticism as a cultural tradition. Social sciences and modernity. 1994;5:136-145. Available from: http://ecsocman.hse.ru/data/599/139/1231/014Gurevich.pdf
- Bulgakov S. Light is not evening // Prototype and image: in 2 vol. St. Petersburg: INAPRESS LLC; Moscow: Art, 1999. Vol. 1. 416 p.
- Florensky PA. Pillar and the Statement of Truth. Connections: in 2 vol. Moscow: Pravda, 1990. Vol. 1. Part 1. 490 p.
- Frank SL. Incomprehensible. Writings. Minsk: Harvest; Moscow: AST, 2000. Pp. 247–796.
- Astapov SN. Knowledge of God as a problem of the philosophy of religion S.L. Frank. Thought (Journal of the St. Petersburg Philosophical Society). 2014;16:55-61.
- Losev AF. Dialectic of myth. Philosophy. Mythology. Culture. Moscow: Politizdat, 1991. Pp. 21–186.
- Ilyin IA. Axioms of religious experience: a study. Moscow: AST, AST-Moscow, 2006. 586 p.
- Mironova AM. Specificity of the concept of religious experience in the works of Russian philosophers of the late XIX - early XX centuries. Scientific thought of the Caucasus. 2018;4:27-30.
- Berdyaev NA. Philosophy of the free spirit. Moscow: Republic, 1994. Pp. 163–166.
- Bubnov E. Methodological atheism of Peter Berger. State, religion, church in Russia and abroad. 2023;41(1):269-298.
补充文件