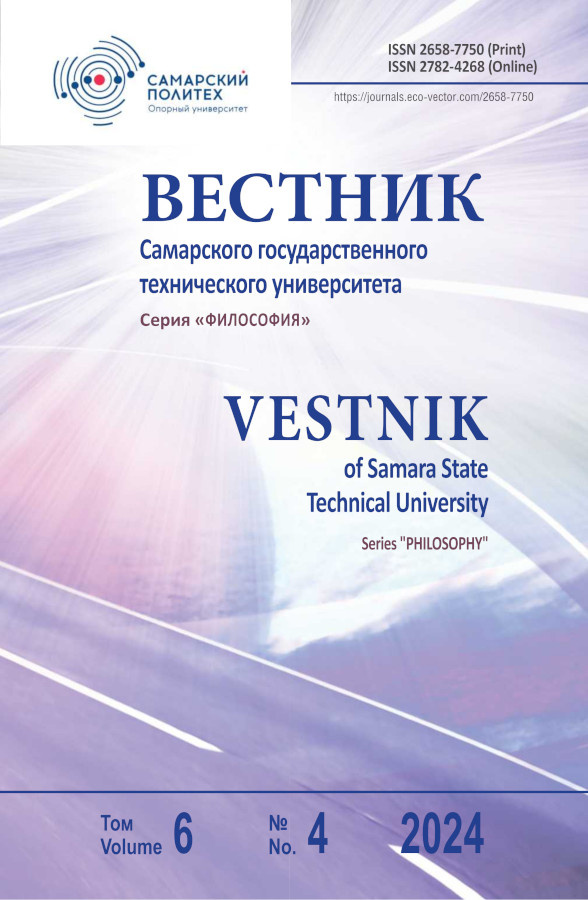Identity in the context of blurrizing the boundaries of public and private
- 作者: Tikhonova I.Y.1
-
隶属关系:
- Voronezh State University
- 期: 卷 6, 编号 4 (2024)
- 页面: 38-43
- 栏目: ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692910
- ID: 692910
如何引用文章
全文:
详细
The article analyzes identification processes in the situation of leveling out previous methods of legitimation and the disappearance of models for identification under the influence of identity politics. It is noted that the personal characteristics of the individual are brought to the fore as the basis for self-determination and the transformation of personal searches for oneself into a political project.
全文:
В современном обществе при осмыслении идентификационных процессов представляется необходимым обратить внимание на стремление к формированию новых легитимностей, позволяющих осуществлять идентификацию исходя из индивидуальных предпочтений. Это становится возможным в связи с разрушением традиционной системы публичного – приватного: по мере исчезновения публичной сферы, которая защищала индивидов от проникновения в их интимное пространство, открывается доступ к индивидуальным аспектам бытия человека. Последнее стимулирует желание видеть и представлять себя как собственное творение, устраняя любые формы зависимости и ограничений. И если прежде отстаивание права на самоопределение происходило в публичной плоскости и касалось социального образа личности, то теперь борьба ведется за автономию Я и за индивидуальные стандарты поведения.
Культурный релятивизм и политика автономий оправдывают уверенность человека в правомерности своих притязаний на то, чтобы быть тем, кем он себя видит вне общественных образцов и стандартов, позволяя свести образ Я исключительно к персональным характеристикам. Идентификация предполагает установление как тождественных с Другим свойств, так и различий. Но в современном обществе индивидуализация способствует обесцениванию роли Другого в процессе самоидентификации, нивелируя представления о нем как отличном от меня, чьи особенности необходимы мне для установления собственного Я. Индивида мало интересует сущность Другого, если он не признает меня и ценность моей жизни.
Однако нельзя забывать о том, что утверждение индивида не может протекать в ацентричном пространстве, для отстаивания собственной уникальности необходим иной в качестве моей противоположности, а также общая идея, которая позволит достичь социальной идентификации. Но погоня за самоуважением и признанием возводит собственные предпочтения субъекта в ранг всеобщего, исключая возможность построения единого смыслового пространства на базе признаваемых в сообществе ценностей. Субъект требует признания своей уникальности и права иметь собственный смысл, утверждая приоритет своего Я над социальными нормами и институтами.
Ж. Бодрийяр пишет о современности как эпохе производства Другого [1, c. 179]. Этот Другой зачастую искусственно воссоздан как отличный и дифференцированный в своей чуждости от меня. Его признание мной манифестируется как необходимое в толерантном обществе, но понимание его подлинной сущности и особости отсутствует, поскольку нет общего ценностного основания, лежащего в основании сообщества, включающего Я и Других. В обществе, где образ значимого Другого размыт и не предзадан для каждой группы как идентификационная модель, индивиды вынуждены постоянно заниматься искусственным воссозданием Других: через противопоставление себя Другим в болезни, в национальной ненависти и пр. Негативные примеры воссоздания Другого в обществе не случайны, поскольку именно противопоставление себя иным через фиксацию их отличности, враждебности и чуждости наиболее удобно в социальном пространстве, которое от этих противопоставлений пытается искусственно себя оградить и зафиксировать самость. Замечательно пишет об этом процессе Р. Рорти: «Солидарность не раскрывается рефлексией, но созидается!» [2, с. 20]. И созидание это возможно на пути следования определенной идее, которая позволит посмотреть на своих как на заслуживающих доверия, сострадания, а на чужих – как противостоящих этой солидарности. Так рождается идентификация как обособление: каждый, кто не разделяет мои ценности, является угнетающим и притесняющим меня. Особенно следует сделать акцент на том, что формирующийся образ становится все более узким, соответствующим личным ощущениям, возможно, непроницаемым для Другого, но от этого требующим еще большего признания. Такая замкнутая на себе личность претендует на особость в силу права на инаковость, выраженного в новой этике толерантного общества.
Стандарты поведения в обществе могут формироваться как снизу вверх – путем отстаивания индивидуальных потребностей и мотивов, так и сверху вниз – со стороны властных органов. Современный «антропологический сдвиг» связан с тем, что мораль мыслится в строго профанных категориях, она отражается исключительно как потребность индивидов в установлении своей исключительности. Преувеличенное внимание к личным целям и личному достоинству ведет к исчезновению представлений об общих целях. Общество перестает играть ведущую роль в детерминации биографии ввиду индивидуализации и делегитимации, вследствие чего пропасть между Я и внешним миром неимоверно разрастается. Поиск себя и утверждение собственного направления развития становятся для индивида первоочередным занятием.
Еще в 80–90-е годы XX века в западном обществе наблюдалось стремление легитимизировать свои отличия. Такое движение за признание идентичности подавляемых групп получило название «политики идентичности» и стало аналогичным прежним движениям за религиозную и национальную идентичность. Последние, правда, были ориентированы на признание общих прав, свойственных большим социальным группам, тогда как политика идентичности все более способствовала локализации и обособлению жизненного опыта малых групп, прежде невидимых и зачастую угнетаемых. В конечном счете данное движение способствовало не столько переопределению идентичностей подавляемых групп и признанию их статуса, сколько еще большей дифференциации внутри социума, постулированию особых прав, на которые претендуют разного рода меньшинства.
Движение за признание таких локальных особенностей и возведение их в ранг социальных идентичностей имеет несколько важных причин. Во-первых, модернизация порождает сложно дифференцированное общество, в котором мобильность индивидов, плюрализм образа жизни, разделение труда и глобализация рабочей силы вместе с усложнением коммуникации (ввиду ее технологической опосредованности и сетевого характера) ведут к формированию мелких групп поверх прежних страт. Во-вторых, распространение образования позволяет индивидам осознанно заявить о возможности признания их особенностей в качестве нормотипичных и выдвинуть рациональные аргументы в их защиту. Не случайно многие идентичности начинают формироваться на основе биометрических показателей. Кроме того, немаловажной причиной распространения политики идентичности является деколониальный дискурс, связанный со стремлением опровергнуть статус прежних доминирующих моделей и заявить о праве на отличие от этих моделей. Пересмотр этих бинарных оппозиций привел к развитию этнических движений и феминизма, которые, в конечном счете, инициировали другие движения, выступающие за признание различий сообществ. Таким образом, прежняя иерархия, основанная на устойчивых ценностях и универсализме, была отменена в связи с распространением идеи плюриверсальности, предполагающей возможность существования множества миров и микронарративов в качестве оснований для идентификации.
Важно понимать, что в социуме осознания индивидами своих отличий и их ценности недостаточно, необходимо их публичное признание. Поэтому конечной целью политики идентичности стало не уравнивание и признание имеющихся стандартов существования прежде дискриминируемых групп, а создание такого общества, которое ориентировано на признание особенностей и способствует установлению отличий.
В современном обществе политика идентичности все более способствует переносу идентификационных процессов из публичной плоскости в приватную. От отстаивания признания прежде стигматизированных идентичностей и деконструирования прежних форм идентификации субъекты переходят к «развертыванию идентичности» [3]. Последнее представляет собой расширение прав и возможностей для разных категорий людей, которые своим индивидуальным особенностям (вес тела, психические особенности, физические недостатки) придают статус оснований для социальной идентификации.
Последнее направление наиболее широко представлено в повседневности за счет стремления этих групп исключить стигматизацию и осуществить институциональные изменения, превратив раскрытие и осмысление индивидуальных особенностей в политический проект.
Большое значение в формировании ценностей сегодня играет информационное пространство, получившее статус инстанции контролирующей, оценивающей и формирующей контекст нашей идентификации. Во многом информационное пространство выполняет в обществе идеологическую функцию за счет формирования привычек, стиля мышления и стандартов существования. СМИ формируют образ обобщенного Другого, который детерминирует взгляд большинства на реальное положение дел. Именно это видение повседневности становится легитимирующим общественное мнение, отвергающее или закрепляющее определенные модели поведения и мышления. Таким образом, мы видим очевидный процесс установления норм «снизу». Не общественная мораль задает иерархию ценностей, а человеческая оценка, основанная на стереотипах информационного пространства, определяет возможность и правильность того или иного поведения. Базовым определением такого поведения является ориентация на себя – тот постулат, к которому, в конечном счете, приводит нас политика идентичности. Если индивидуальные особенности вступают в противоречие с узаконенным обществом взглядом, необходимо отменить этот закон, устранить все то, что сковывает человека. Через осознание своего несовершенства как особенности, уникальности мы приходим к пониманию недостаточности для нас имеющихся условий, необходимости сформировать такие сообщества, где этих ограничений удастся избежать и уникальность будет пережита совместно. Зачастую этот путь прогрессивен, поскольку действительно позволяет увидеть существующие в обществе ограничения. Но есть и другая сторона – отрицание прежних норм способствует их стигматизации. Теперь прежде «нормальный» индивид в пространстве признанных прежде «аномальными» субъектов обесценивается. И это необходимо понимать, оценивая будущие направления трансформации общества. Кроме того, в процессе утверждения индивидуальных характеристик в качестве новых легитимностей утрачиваются основания для социальной солидарности.
Говоря о роли нормативного и ценностного регулирования в процессе идентификации и улавливая ощутимое навязывание стереотипов со стороны СМИ, мы не можем не видеть тех особенностей, которые отличают процесс формирования традиций в сегодняшнем обществе и в прежних типах обществ. При значительном влиянии информационной идеологии она всегда учитывает предпочтения отдельных индивидов. Воздействие и манипуляция ориентируются не на массу как таковую, а на прагматические императивы, персонализированные потребности в признании и т. п. Установление толерантного отношения к культурному релятивизму отчетливо проявляется в постмодернистском праве. Оно все больше ориентируется не на манифестирование равенства как такового, а на плюрализм ценностей, заставляя задуматься о необходимости отстаивания собственных прав, о выдвижении приоритетов. Именно плюрализм ведет к толерантности, которая предполагает право человека на своеобразие и, в конечном счете, право на признание этого своеобразия [4].
Тем не менее плюрализм и толерантность не должны быть абстрактными принципами. Как бы идеалистично это не звучало, в обществе универсальные принципы должны быть представлены как необходимые помимо имеющихся у каждого сообщества плюральных ориентаций. Многочисленные ценности можно объединить под одним флагом уважительного отношения к себе и другим. Каковы бы ни были притязания сторон в обществе, диалог между людьми должен быть ориентирован на возможность сделать собственную точку зрения предметом дискуссии и даже поставить под сомнение свою правоту, преодолевая тем самым изоляцию и атомизацию субъекта и взаимное непонимание и непризнание. Ну, и конечно, рефлексивное отношение к ценностям должно сосуществовать с идеей морального универсализма. Ведь задача общества сегодня – выработать общее мировоззренческое пространство. Уважение к личности должно иметь под собой коллективное представление о месте и роли человека в публичном пространстве, формирующее общие для данного сообщества ценности и идеалы, а не только болезненное отстаивание своих приватных пристрастий и характеристик.
作者简介
Irina Tikhonova
Voronezh State University
编辑信件的主要联系方式.
Email: tikhonovaiu@yandex.ru
SPIN 代码: 3873-1285
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Ontology and Theory of Knowledge
俄罗斯联邦, Voronezh参考
- Baudrillard J. Fatal Strategies. Moscow: RIPOL classic, 2017. 288 p.
- Rorty R. Randomness, irony and solidarity. Moscow: Russian Phenomenological Society, 1996. 282 p.
- Bernstein M. Identity Politics. Source: Annual Review of Sociology. 2005;31:47-74.
- Höffe O. Justice: A Philosophical Introduction. Moscow: Praxis, 2007. 192 p.
补充文件