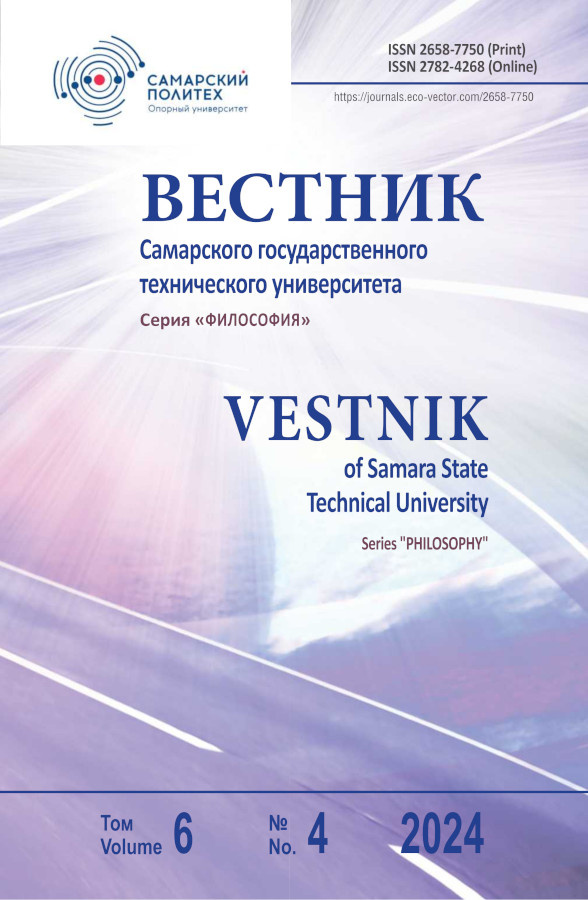Civilizational identity of Russia as a philosophical problem
- 作者: Faritov V.T.1
-
隶属关系:
- Samara State Technical University
- 期: 卷 6, 编号 4 (2024)
- 页面: 89-101
- 栏目: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692917
- ID: 692917
如何引用文章
全文:
详细
The article is devoted to the study of the path of Russian philosophy in light of the problem of Russia’s civilizational identity. The thesis is substantiated that for Russian philosophy the problem of civilizational identity is the source, while in European philosophy the appeal to this problem is associated with the crisis of European metaphysics and the decline of Western civilization.
全文:
Проблема цивилизационной идентичности находится в центре внимания представителей как европейской, так и русской философской мысли. Однако значимость данной проблемы с точки зрения историко-философского процесса в Европе и в России принципиально различается. В истории западной философии вопрос о цивилизационной идентичности в течение длительного периода либо вообще не поднимался, либо находился на самой периферии философских поисков. В центре внимания европейской мысли исконно стояли вопросы онтологии и гносеологии. Социально-политическая философия, которой отводилось третье место, разрабатывалась вне контекста проблемы цивилизационной идентичности. Долгое время исторический процесс в целом в западной философии мыслился как единый и единонаправленный, а европейская цивилизация приравнивалась к цивилизации вообще. Наиболее полно и последовательно данная позиция представлена в лекциях по философии истории и истории философии Гегеля [1–4]. Обращение к проблеме цивилизационной идентичности в западной философии происходит поздно – фактически лишь в ХХ столетии – и обусловлено кризисом европейской метафизики. До тех пор, пока европейская метафизика движется по восходящей линии, вопрос об идентичности не попадает в центр философского дискурса. После того как начинается упадок, проблема цивилизационного статуса Европы перемещается с периферии в центр. Обнаруживается, что западная цивилизация не равнозначна цивилизации как таковой. Одновременно появляются пессимистические мысли о начинающемся закате Европы [5]. Таким образом, для западной философской мысли проблема цивилизационной идентичности не является характерной, а обращение к ней является одним из признаков кризиса европейской метафизики [6].
На то обстоятельство, что поворот философии к исторической проблематике есть начало конца, недвусмысленно указывает Шпенглер: «Систематическая философия бесконечно далека нам в настоящее время; философия этическая закончила свое развитие. В пределах западного мира остается еще третья, отвечающая эллинскому скептицизму возможность, а именно та, которая отмечена признаком не применявшегося до сего времени метода сравнительной исторической морфологии. Возможность – это значит необходимость. Античный скептицизм чужд историчности; он сомневается и просто отрицает. Западный скептицизм, если он хочет быть внутренне необходимым и явить собой символ нашей клонящейся к концу душевной стихии, должен быть насквозь историчным. Он упраздняет, признавая все относительным историческим феноменом. Приемы его психологические. В эпоху эллинизма скептическая философия проявляется в отрицании философии – ее признают бесцельной. В противоположность этому мы имеем в истории философии последнюю серьезную философскую тему. В этом заключается скептицизм. Дело сводится к отказу от абсолютных точек зрения, причем греки посмеиваются над прошлым своего мышления, мы же стремимся понять его как организм» [5, с. 68–69].
В русской философии ситуация иная. Если обращение к проблеме цивилизационной идентичности в истории западной философской мысли знаменует упадок, то в русской философии это начало. Русская философская мысль начинается именно с постановки проблемы культурной и цивилизационной идентичности России. Разработка сугубо метафизических вопросов идет уже следом и непосредственно вытекает из первоочередной задачи поиска российской идентичности. И когда проблемы онтологии и гносеологии начинают выходить на передний план, они все равно остаются вписанными в контекст исходной проблемы российской идентичности. В этом аспекте заключается принципиальное отличие русской философии от западной. Запад поднимает вопрос о собственной цивилизационной идентичности post factum, когда историко-философский процесс уже приближается к своему завершению. В России проблема цивилизационной идентичности ставится в ситуации фактического отсутствия философии. Во время формулирования доктрины о третьем Риме, в XVI веке, не было никакого намека на русскую философию. Существовали лишь предпосылки для формирования богословских учений. Последовавший за тем период европеизации (или псевдоморфозы в терминологии Шпенглера) привел к тому, что в XIX столетии российская идентичность стала действительной проблемой, настойчиво требовавшей поиска путей разрешения. Проблема эта в силу своего философского характера не могла быть решена средствами сугубо исторических исследований. Возникла насущная потребность в философии, которой и на тот момент, к XIX веку, все еще не было. «Философические письма» обнаруживают скорее растерянность, нежели наличие твердой и однозначной позиции: «Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» [7, с. 18]. Российская идентичность определяется апофатически, через отрицание: не Запад и не Восток.
Западники и славянофилы будут двигаться именно в этом семантическом поле отрицательного, негативного определения российской идентичности. Для западников Россия не Восток – поскольку, с их точки зрения, ни Восток православный, ни тем более Восток азиатский не определяют цивилизационную идентичность России, но лишь отделяют ее от цивилизованного мира. Но Россия и не Запад – как раз в силу своей отъединенности от западного мира. У славянофилов то же самое двойное отрицание представляется в ином направлении: Россия не Запад, поскольку Запад в корне не соответствует ее цивилизационной идентичности, а лишь ведет на путь подражания чужеродным началам. Но Россия и не Восток, поскольку именно в результате европеизации утратила связь с исконными традициями православия. Впоследствии евразийцы будут искать корни российской идентичности на Востоке азиатском – и снова в контексте двойного отрицания. Россия не Европа, поскольку истоки ее идентичности находятся совсем на другом полюсе. Но и к своей евразийской идентичности Россия еще не пришла – опять же по причине европеизации, которую евразийцы трактуют сугубо негативно вслед за славянофилами. Во всех трех направлениях идентичность России рассматривается исключительно в модусе потенциальности [8]. Для западников Россия – потенциальная Европа, для славянофилов – потенциальная самобытная православная цивилизация, для евразийцев – потенциальная Евразия.
Из трех названных магистральных направлений поиска российской идентичности берут начало различные векторы формирования русской философской мысли. Западническое направление через левое крыло гегельянства выливается в русский марксизм, который очень быстро утрачивает свою философскую составляющую, вырождаясь в набор клишированных формулировок научного коммунизма. В постсоветский период западники переобуваются из марксистов в постпозитивистов и постмодернистов, сменив марксистский словарь на заимствованный лексикон из переводов работ Витгенштейна, Куна, Лакатоса, Фуко, Делеза и Бодрийяра.
Славянофильское течение, исчерпав свой первичный потенциал в концептуальных разработках Н. Данилевского и К. Леонтьева, дает начало русской религиозной философии. Философские и богословские изыскания П. Флоренского, С. Булгакова, С. Трубецкого и Е. Трубецкого были инициированы положениями А. Хомякова о том, что основой российской идентичности является наследие восточной православной Церкви [9, с. 98]. Исследователь А. Валицкий был прав, отмечая, что на формирование воззрений Киреевского повлияли представители «общеевропейского консервативного романтизма», в первую очередь Шеллинг [10, с. 202]. Но он был неправ в том, что свел все учение Киреевского к разновидности этого европейского консервативного романтизма, не увидев в нем ничего принципиально иного, к европейской философии несводимого. Как раз «зародыш совершенно новой философии» (выражение Валицкого) в учении Киреевского был. Был он в установке на философское усвоение святоотеческого наследия восточной Церкви.
Наконец, евразийство становится источником третьего направления русской философии, которое берет свои истоки в постановке проблемы цивилизационной идентичности России. В неоевразийстве был разработан самостоятельный подход к осмыслению истории русской и европейской философской мысли именно в контексте проблемы цивилизационной идентичности. Данный подход получил свою реализацию в многотомной «Ноомахии» А.Г. Дугина.
Проблема состоит в том, что названные три вектора русской философии не являются строго отграниченными друг от друга. В западническую линию проникают элементы славянофильского направления, в то время как в неоевразийских концепциях присутствуют мотивы западничества. В философских учениях В. Соловьева и Н. Бердяева западнический элемент выражен достаточно ярко, хотя в целом не он является доминантой их воззрений. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что собственно русская философская мысль все еще находится в стадии брожения и формирования. Сама возможность русской философии непосредственно зависит от разрешения проблемы цивилизационной идентичности России. Поскольку данный вопрос до сих пор не получил окончательного разрешения, русская философская мысль продолжает носить преимущественно потенциальный характер.
1. Кризис западничества: В. Вейдле
Уже многие высказывания Чаадаева о России характеризуются парадоксальной амбивалентностью, поскольку наряду с крайним пессимизмом содержат указание на нереализованный потенциал и возможное величие в будущем. Вот характерная сентенция из «Философических писем»: «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру» [7, с. 21]. Данная формулировка может быть прочитана и как крайняя степень самоуничижения, и как столь же крайняя степень самопревознесения. Амбивалентность высказывания усиливается приведенной дважды модальной частицей «как бы». Психолог К.Г. Юнг отмечал, что гипертрофированному чувству собственной неполноценности всегда соответствует столь же гипертрофированный комплекс сверхполноценности в бессознательной установке [11]. Одно никогда не бывает без другого. Позиция Чаадаева подтверждает этот тезис. Характеристику России как исключения среди народов можно понимать и как недостаток (пресловутый тезис об отсталости России от цивилизованного европейского мира), и как превосходство: ведь нам предстоит преподать миру великий урок. В свете этой сверхзадачи величие Европы безвозвратно меркнет. Высказывания Чаадаева приобретают оттенок эсхатологичности: «И, конечно, не пройдет без следа то наставление, которое суждено нам дать, но кто знает день, когда мы найдем себя среди человечества, и кто исчислит те бедствия, которые мы испытываем до свершения наших судеб?» [7, с. 21]. Впоследствии отец западничества все больше будет склоняться к признанию мессианического предназначения русского народа: «Потрясенный революционными событиями в Европе, Чаадаев начал ценить собственное отечество; под влиянием споров с будущими славянофилами, особенно с Иваном Киреевским, начал смотреть на Россию как на резервную силу Провидения, предназначенную для особой цели и как раз потому доселе изолированную от великой семьи исторических народов» [10, с. 142]. Так недостаточность России как цивилизации оборачивается утверждением ее сверхполноты.
Мессианические мотивы «Философических писем» станут доминантными в концепции славянофилов. Но и в учении западников представление об особом предназначении России будет играть роль парадоксального элемента, нарушающего целостность и монолитность их позиции. Ярким примером чему служит работа В. Вейдле «Задачи России». Автор мыслит в полном соответствии с канонами западничества, настаивая на осознании России «как неотъемлемой составной части европейско-христианского мира, временно выделенной из него (от XIII до XVII века), но имеющей вернуться в его лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое национальное лицо» [12, с. 20]. В культурно-цивилизационном плане Россия для Вейдле – часть Европы. От отдельных европейских народов мы отличаемся не больше, чем сами европейские народы отличаются друг от друга, не переставая при этом входить в состав единой западной цивилизации. Правда, в силу исторических коллизий Россия оказалась отчужденной от Европы, но эта отъединенность носит временный характер. Цивилизационная задача России состоит в том, чтобы вернуться в материнское лоно западно-христианского мира. Идентичность России – сугубо европейская, и без Европы она немыслима: «Утверждаясь в Европе, Россия утверждается и в себе» [12, с. 39]. России вовсе не нужно стремиться стать Европой, поскольку она уже Европа. Петр Великий не совершал никаких псевдоморфоз, но лишь выполнял задачу по воссоединению России с Западом и восстановлению европейского единства.
Весь этот комплекс идей вполне укладывается в структуру западнического дискурса. Своих предшественников-западников Вейдле критикует за то, что они недостаточно глубоко проникли в исконно европейскую сущность российской идентичности. Старые западники, западники XIX столетия, делали упор на отсталость России от Европы и требовали, чтобы Россия встала на путь буквального копирования современной просвещенной Европы. Они не учли, что Россия именно в своей национальной самобытности (на которую так сильно упирали славянофилы) уже принадлежит Европе. В этом пункте Вейдле оказывается более радикальным западником, чем его предшественники. Однако другие выдвигаемые им положения скорее сближают его с представителями противоположных направлений. Для Вейдле не только Россия не может быть собой без Европы, но и Европа не может оставаться собой без России. Россия входит в состав европейской идентичности, является неотъемлемым компонентом ее сущности. Но и это еще не все. Россия не просто часть Европы. В современном мире только Россия сохраняет дух подлинной Европы, который сам Запад уже начал терять. В этой связи отчуждение России от Европы будет катастрофично не только для России, но и для самой Европы, поскольку без России она уже не сможет быть собой: «Лишаясь России, она теряет источник обновления, более чем когда-либо ей нужный, она лишается единственной страны, своей «отсталостью» способной ее омолодить, самой своей чуждостью напитать, потому что эта чуждость не такая уж чужая, потому что эта отсталость может ей напомнить ее собственную молодость. Но мало того. Россия за последние века была средоточием всей восточно-христианской, славяно-византийской традиции; утратить ее – это значит для Европы окончательно замкнуться в свое половинчатое, только западное бытие, отказаться навсегда от полноты своей исторической жизни, своего духовного, и в частности религиозного бытия, своего христианства» [12, с. 21].
В приведенной цитате видно, как в западнический дискурс проникают элементы славянофильского дискурса. Представление России как «средоточия всей восточно-христианской, славяно-византийской традиции» нехарактерно для западников, которые в византийском наследии видят источник катастрофической отъединенности России от всего цивилизованного западно-христианского мира. Византизм, восточное христианство и славянство суть узловые пункты славянофильского дискурса. И если западники видели в Европе единственно возможный путь цивилизации и истории, то для Вейдле только западное бытие является половинчатым, а полнота исторической и религиозной жизни возможна лишь при условии возвращения в Европу России. Если западники видят задачу России в преодолении своей отсталости и просвещении на европейский манер, то для Вейдле сама Европа нуждается в России для обретения целостности собственной идентичности. Оставаясь западником и либералом, Вейдле стремится преодолеть определяющую для западнического дискурса оппозицию России и Европы, в которой Россия наделяется статусом негатива Запада. Славянофилы идут путем обращения этой исходной оппозиции: для них Европа оказывается негативным «другим» для России. Однако путь обращения оппозиции бесперспективен, поскольку сохраняет саму оппозицию. Вейдле конструирует дискурс другого типа, в котором и Россия, и Западная Европа выступают в качестве частей единой европейской цивилизации. Негативная идентичность, которой Россия наделялась в классическом западническом дискурсе, здесь снимается. Россия мыслится как полноценный и полноправный член западно-христианского мира.
Сказанного уже было бы достаточно для указания направления трансформации западнического дискурса. Однако Вейдле идет по этому пути еще дальше. Россия в его учении не просто представляется полноценным и необходимым компонентом европейской идентичности, но наделяется чертами сверхполноценности. Такова в целом скрытая внутренняя логика западнического дискурса: отрицание цивилизационной идентичности России есть крайняя установка, которая неизбежно провоцирует энантиодромию [13, с. 583–584]. За отрицанием обязательно следует утверждение сверхполноценности. Сначала в этом направлении шли славянофилы, а когда их потенциал был исчерпан, на этот путь встали сами западники. Как было показано выше, поворот в этом направлении намечен уже у самого Чаадаева. Вейдле принимает и разрабатывает положение о том, что современная Европа вступила в фазу кризиса цивилизационной идентичности. Кризис этот заключается в последовательном превращении «старой семьи органически выросших и жизненно сросшихся между собой национальных культур в интернациональную научно-техническую цивилизацию» [12, с. 39]. Подобное превращение ведет к утрате собственной идентичности: «Европа чем дальше, тем больше перестает быть тем, чем она была» [12, с. 39]. Не будучи сторонником цивилизационного подхода, Вейдле оказывается близок к позиции Данилевского, Шпенглера и Тойнби, для которых положение о кризисе современной Европы является центральным пунктом их учения. В ситуации кризиса европейской цивилизации отсталость России оборачивается ее преимуществом: Россия отстала как раз от критической фазы Европы и благодаря этому сохранила те начала европейской идентичности, которые в современной Европе безвозвратно утрачиваются. «Отсталость» России оборачивается ее сверхполноценностью. Теперь уже не России нужно догонять Европу, но Европе необходимо обратиться к России, чтобы найти в ней саму себя. Потому что только в «отставшей» России еще сохранились черты «старой» Европы. И миссия России теперь состоит в том, чтобы передать самой Европе забытую ею ее же собственную идентичность. В противном случае Европа будет все дальше двигаться в направлении обезличивающего и унифицирующего, губительного для культуры научно-технического прогресса. А в этом случае Европе не миновать того сценария, который был подробно описан Шпенглером. Только Россия может спасти Европу, восстановить культурную и цивилизационную преемственность.
Вейдле заходит так далеко, что возобновляет тезис о молодости и исторической непробужденности России. Тот самый тезис, который был центральным пунктом учения славянофилов вплоть до Данилевского и который поставил под сомнение уже Леонтьев. Вейдле вновь ставит славянофильский вопрос: «Родилась ли вообще Россия или так и пронежилась тысячу лет в материнском лоне, так и не вышла до революции из предрассветного, утробного бытия?» [12, с. 81]. И высказывается в духе сторонников консервативной революции: «Россия, несмотря на Петра и продолжателей Петрова дела, все еще была широко раскинутой деревенскою страной, жившей в значительной мере старой патриархальной жизнью. Обе ее культуры, горизонтальная и вертикальная, крестьянская и барская, продолжали быть едва ли не одинаково далеки от городской, научно-технической, стандартно-утилитарной цивилизации, которая уже начала вытеснять на Западе древнее наследие его подлинной духовной жизни. На эту цивилизацию не только славянофилы, но и наименее поверхностные из западников, как Герцен, взирали не без отвращения и угадывали в ней знамения конца. Начало было в России, будущее принадлежало ей; ее младенчество, ее непробужденность были залогом ее величия» [12, с. 81].
Таким образом, Россия не «отстала» от Европы, но сохранила, удержала в себе ее подлинную идентичность, которую сама Европа утратила, зайдя слишком далеко по пути модернизации. Тем самым западник и либерал Вейдле склоняется к дискурсу консерватизма, а идея мессианического предназначения России сближает автора с дискурсом славянофилов и евразийцев. Различие состоит в том, что последние видят путь России вне Европы, а для Вейдле неевропейского пути России не существует – в этом пункте он остается верен западническому дискурсу. Однако признание цивилизационного кризиса Запада и перехода культурно-исторической доминанты к России свидетельствует о кризисе западнической парадигмы.
2. Постмодернистский консерватизм: А. Дугин
Среди современных авторов Дугин является одним из наиболее последовательных сторонников теории кризиса западного мира и негативных последствий европеизации России. Данной позицией обусловлен его взгляд на русскую философию. Если для западника Вейдле русская философия, как и русская литература, и русская музыка, начинается с Шеллинга и Гегеля [12, с. 40–41], то для Дугина речь все еще идет об основах и предпосылках. Предпосылки русской философской мысли были сформированы еще в эпоху «великого перевода», когда шло активное и творческое усвоение наследия исихастов и апофатического богословия: «Хотя «Ареопагитики» были переводом, но сам факт наличия этих фундаментальных текстов на церковнославянском языке менял параметры русского мышления. Отныне был открыт терминологический и концептуальный простор для очень тонких философских различий, на проведение которых трудно было рассчитывать без соответствующего аппарата» [14, с. 67]. Однако дальнейшее раскрытие заложенных оснований было прервано преобразованиями, связанными с Собором 1666–1667 годов и реформами Петра I: «Московский Логос был низринут и заменен на совершенно иную политико-религиозную модель» [14, с. 122]. В культуре и во все еще зарождающейся философии началась эпоха «второго перевода», ориентированного на западные источники. Причем в качестве образца для заимствования и копирования выступала именно современная Европа XVIII столетия: западники были ориентированы «не просто на Запад, но на современный постхристианский просвещенческий секулярный и научно-материалистический Запад Нового Времени» [14, с. 178].
Европеизация означала для России фактический отказ от уже сформировавшейся цивилизационной идентичности, которая впоследствии могла получить свое оформление в русской философии. Была осуществлена замена культурной и духовной основы российской государственности. Первая идентичность ушла в сферу потаенного и сокровенного: «В область потенциального, тайного, незримого удалилась Святая Русь, замещенная новым Вавилоном» [14, с. 160]. Эта внутренняя раздвоенность культурного самосознания проявилась в возникновении течений западников и славянофилов, которые задавали различные направления русской философии в соответствии с постулируемым ими пониманием российской идентичности. Для Дугина аутентичным вектором становления русской философии является направление славянофилов, в то время как западники осуществляют лишь заимствование чужеродных для России идей: «Любомудры и славянофилы заложили основы русской философии. Именно в этом контексте она и могла, и должна была возникнуть, поскольку западники лишь повторяли философские идеи западноевропейского модерна, причем преимущественно «прогрессивного» и буржуазного – англо-французского, где преобладали либерализм и демократия» [14, с. 226]. Сказанное не означает, что линия славянофилов отличалась от направления западников полной самобытностью и оригинальностью. Философии как таковой в России на тот момент не было, не было и не могло быть самостоятельного категориально-понятийного аппарата философской мысли, хотя фундамент для его появления был заложен в эпоху «великого перевода». Однако «второй перевод» привел к тому, что этот фундамент оказался надежно погребенным под наслоениями европейской псевдоморфозы. И славянофилы были вынуждены в данной ситуации обращаться к тому же Западу, подобно тому, как мыслители европейского Средневековья обращались к наследию античности, используя категории Аристотеля и неоплатоников для выражения совершенно чуждого античности комплекса теологических представлений. Славянофилы с этой же целью активно изучали концептуальные разработки Фихте, Шеллинга и Гегеля. И в отличие от западников здесь было не подражание и заимствование, а приложение конструкций немецкой классической философии к комплексу богословских представлений восточной православной Церкви. Само по себе такое приложение не было бесспорным, но несло целый ряд сложных проблем, над разрешением которых будут трудиться представители русской религиозной философии. Далеко не каждому удастся избежать на этом пути всевозможных уклонений и аберраций. Кто-то будет склоняться в сторону западничества, кто-то – в сторону гностицизма в его различных вариантах и ответвлениях. Но в данной ситуации иного пути не было вообще.
Преимущество славянофилов состояло в том, что наследие европейской, а также античной философии было, по выражению Дугина, «осмыслено по-русски» [14, с. 226]. Одной из лучших работ о философии Гегеля является книга И.А. Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» [15]. Данная работа не может быть сведена к изложению гегелевской системы, поскольку в ней предпринимается весьма дерзновенная попытка разбирательства с Гегелем в рамках проблемы теодицеи. Гегелевский вариант решения данного вопроса признается русским мыслителем неудовлетворительным, что, в свою очередь, приводит к экспликации границ гегелевской системы. Рецепция учения Ницше в контексте русской религиозной философии была осуществлена целым рядом русских мыслителей: Л. Шестов, А. Белый, Е. Трубецкой, С. Франк [16]. Многотомные фундаментальные труды по античной философии были написаны А.Ф. Лосевым. И наследие античной мысли здесь снова было осмыслено по-русски: исходя из перспективы богословия восточной Церкви.
Линия западников, согласно Дугину, лишена «укоризненности» в русской идентичности: «Так, англо-французский Запад привел западников к простой имитации Европы нового времени и заблокировал становление самобытной мысли, тогда как немецкий романтизм и консерватизм вдохновили славянофилов на построение собственных оригинальных философских учений, не следуя строго за немецкой мыслью, но, напротив, ища опору в русской традиции и культуре» [14, с. 226].
Такова в общих чертах позиция Дугина в вопросе о пути русской философии и цивилизационной идентичности России, позиция, выраженная, на первый взгляд, последовательно и однозначно. В условиях становящегося все более явным кризиса европейской метафизики задача русской философской мысли становится ясной и очевидной. Состоит она не в том, чтобы копировать структуры западноевропейского постхристианского мировоззрения, но в том, чтобы осуществлять обнаружение вечной истины христианства в новых условиях. Поэтому путь русской религиозной философии остается единственным, который 1) соответствует цивилизационной идентичности России, 2) соответствует современной кризисной ситуации европейской философии и 3) соответствует стадии цивилизационного развития России, ее цивилизационному возрасту. Если в Европе постметафизическая философия является закономерным следствием логики историко-философского процесса, то в России никаких условий для перехода на эту финальную стадию мысли не существует. Русская философия еще не пережила своего кризиса метафизики, поскольку сама метафизика все еще находится в зачаточном состоянии. Даже период секуляризированной метафизики для нас все еще преждевременен, поскольку эпоха сугубо религиозного философствования не была у нас пройдена в полной мере. Отсюда следует, что все попытки движения философской мысли в секулярном и постметафизическом ключе являются у нас исключительно беспочвенными казусами заимствования и копирования позднеевропейских образцов.
Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой фактического отсутствия в русской мысли собственного философского языка. Проблема настолько серьезная, что не только западники пользуются сплошь заимствованными категориями, но и сторонники самобытного пути русской философии вынуждены формулировать эту самую самобытность на языке немецкой, французской или англо-американской мысли. Работы Дугина являются достаточно ярким примером в этом отношении. Характеризуя и описывая русский Логос, автор «Ноомахии» активно использует категориально-понятийный аппарат хайдеггеровской философии, причем, как правило, без перевода: «Для описания крестьянской философии можно обратиться к основополагающей идее Мартина Хайдеггера о Dasein’e» [14, с. 329]. И далее следует буквально ошеломляющий тезис о русском народном сознании: «Именно этот глубинный пласт народной культуры и представляет собой русскую фундаментальную онтологию, которая есть образ мысли русского народа. Эта философия является экзистенциальной и феноменологической и строится в соответствии с теми принципами, которые совокупно использовал Хайдеггер в ходе развертывания своих взглядов. Народное сознание оперирует экзистенциалами, а не категориями, Dasein’ом, а не субъектом, осмысленной онтичностью, а не априорной картиной мира» [14, с. 330]. Проблема не в том, что сам русский народ едва ли когда-либо подозревал, что он оперирует экзистенциалами и Dasein’ом… Проблема в том, что для философского осмысления русского Логоса, как в его государственно-церковном, так и в народно-крестьянском варианте, не находится других слов, кроме Dasein, Geworhenheit и т. п. И вот получается, что Пушкину во всем его грандиозном масштабе открылось не чудное мгновенье и не упоение бездны мрачной на краю, но Geworhenheit [14, с. 450]. И Пушкин в своем творчестве «выявляет русский Дазайн, помогая в лице «маленького человека» русскому народу [14, с. 451]. Даже обращаясь к богословскому наследию восточной Церкви, Дугин оперирует категориями феноменологической философии: «Ангелы – ноэматические субъекты, конституируемые интенциональными актами души» [14, с. 390].
Следует учитывать, что Дугин реализует дифференцированный подход к наследию западной философии. Английская и французская мысль, являясь преимущественно материалистически-механистической, прогрессивной и либеральной, безусловно, чужда русскому Логосу и составляет основу подражательной философии западников. Напротив, немецкая философская мысль в лице Фихте, Шеллинга и Гегеля консервативна и представляет собой идейный противовес движению европейской модернизации, а потому обнаруживает родство с линией славянофилов. Согласно Дугину Хайдеггер в XX столетии занимает по отношению к русской философии такое же положение, как немецкие классики в веке XIX: «Немецкий антисовременный романтический и эсхатологический Логос в очередной раз оказался чрезвычайно созвучен русскому сознанию, освобождающемуся от влияния тоталитарного кибелизма, и присущему ему в русских условиях подражательному западничеству» [14, с. 746]. Таким образом, Мартин Хайдеггер оказывается у истоков самой возможности русской философии [17].
Принять данный тезис можно, но с определенными уточнениями. Для русской философии значима исключительно негативная, деструктивная сторона учения Хайдеггера. А именно: Хайдеггер осуществляет деструкцию западноевропейской онтологии на ее историческом пути, начиная с самых истоков. Специфически западноевропейское прочтение наследия античной философии, специфическое схоластическое истолкование христианства, утверждение специфически европейской метафизики Нового времени – все это было осмыслено Хайдеггером как путь европейского нигилизма [18]. В этом сугубо деструктивном плане для русской философии принципиальное значение имеет не только Хайдеггер, но и Ницше, Шпенглер, а также Деррида и Бодрийяр. Все названные авторы в том или ином направлении осуществляли работу по деконструкции западноевропейской метафизики. Соответственно значимость их учений для русской философии ограничена именно этим негативным аспектом. Русская мысль может, наконец, освободиться от давления претензий европейской метафизики на универсальность и первородство и двигаться своим путем. Однако здесь же заложена опасность для русской философии: деструктивные формы западной мысли периода кризиса европейской метафизики могут быть усвоены в положительном ключе. Тогда вместо освобождения мы получим новую волну заимствованной и подражательной философии. На этот раз копированию и переносу на русскую почву подлежит кризисный, нигилистический фас европейской метафизики. Появляется русский постмодернизм. Но если на Западе постмодернизм является закономерной и потому оправданной и необходимой фазой завершения и разложения философской мысли, то для русской метафизики, все еще находящейся в стадии зарождения, постмодернизм есть только очередной виток эпигонства по отношению к западным формам мысли. Русское хайдеггерианство представляет собой столь же псевдоморфозное явление, как и русский марксизм. Чужеродность языка этой философии русской цивилизационной идентичности проявляется в том, что все эти сплошь заимствованные формулировки очень быстро вырождаются в клише, начисто лишенные способности к органическому развитию. Освободившись от штампов научного коммунизма, мы бросаемся в новую яму. Все эти «дазайны», «экзистенциалы», «ноэматические корреляты», «симулякры» и «сингулярности» уже успели превратиться в удобные затычки, маскирующие бреши в нашем философском мышлении.
Обретение русской идентичности невозможно без русской философии, в чем с Дугиным нельзя не согласиться: «Не могущество Империи, не государство, не геополитика, но становление русской метафизики есть высшая цель исторического – этического, мессианского – бытия русского народа» [14, с. 520]. Но решение этой задачи требует колоссальной работы по созданию собственного философского языка. Вероятнее всего, двигаться здесь следует в том же направлении, в каком шел Пушкин, создавая язык русской литературы. Но Пушкин русской философии еще не появился. Во многом наша философия все еще идет по пути формального, внешнего заимствования словаря западной философской мысли, а не по пути синтеза и творческого усвоения. Сказанное относится не только к мыслителям западнической ориентации, но и к последователям славянофилов и евразийцев.
作者简介
Vyacheslav Faritov
Samara State Technical University
编辑信件的主要联系方式.
Email: vfar@mail.ru
SPIN 代码: 2668-5946
Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social and Humanitarian Sciences
俄罗斯联邦, Samara参考
- Hegel GVF. Lectures on the history of philosophy. Book One. St. Petersburg: Science, 2006. 350 p.
- Hegel GVF. Lectures on the history of philosophy. Book Two. St. Petersburg: Science, 2006. 424 p.
- Hegel GVF. Lectures on the history of philosophy. Book Three. St. Petersburg: Science, 2006. 564 p.
- Hegel GVF. Lectures on Philosophy of History. St. Petersburg: Science, 1993. 480 p.
- Spengler O. Decline of Europe. Minsk: Harvest, Moscow: AST, 2000. 1376 p.
- Faritov VT, Borisova TN. Arnold Toynbee as a philosopher and theologian: (post) metaphysical meanings of history. Bulletin of the Samara State Technical University. Series: Philosophy. 2023;5(2):61-68.
- Chaadaev PYa. Works. Moscow: Pravda, 1989. 656 p.
- Balakleets NA. The specifics of the Russian are identical: Russia as a potential space. Bulletin of the Ulyanovsk State Technical University. 2014;2:27-30.
- Khomyakov AS. There is only one church: the experience of the catechetical presentation of the doctrine of the Church. Moscow: Orthodox St. Tikhon Humanitarian University, 2018. 448 p.
- Valitsky A. In the circle of conservative utopia. Structure and metamorphoses of Russian Slavophilism. Moscow: UFO, 2019. 704 p.
- Jung CG. Psychology of the Unconscious. Moscow: AST; Canon +, 2001. 400 p.
- Veidle VV. Tasks of Russia. Minsk: Belarusian Right-Glorious Church, 2011. 512 p.
- Jung CG. Psychological Types. Moscow: AST, 1998. 720 p.
- Dugin AG. Noomahia: Wars of the Mind. Russian Logos III. Images of Russian thought. Solar king, glare of Sofia and Russia Underground. Moscow: Academic project, 2021. 980 p.
- Ilyin IA. Hegel’s philosophy as a doctrine of the concreteness of God and man. St. Petersburg: Science, 1994. 544 p.
- Nietzsche: pro et contra / Yu.V. Sineokaya. St. Petersburg: RHGI, 2001. 1076 p.
- Dugin AG. Martin Heidegger. The possibility of Russian philosophy. Moscow: Academic project, 2021. 308 p.
- Heidegger M. European nihilism. Time and being. Moscow: Republic, 1993. Pp. 63–177.
补充文件