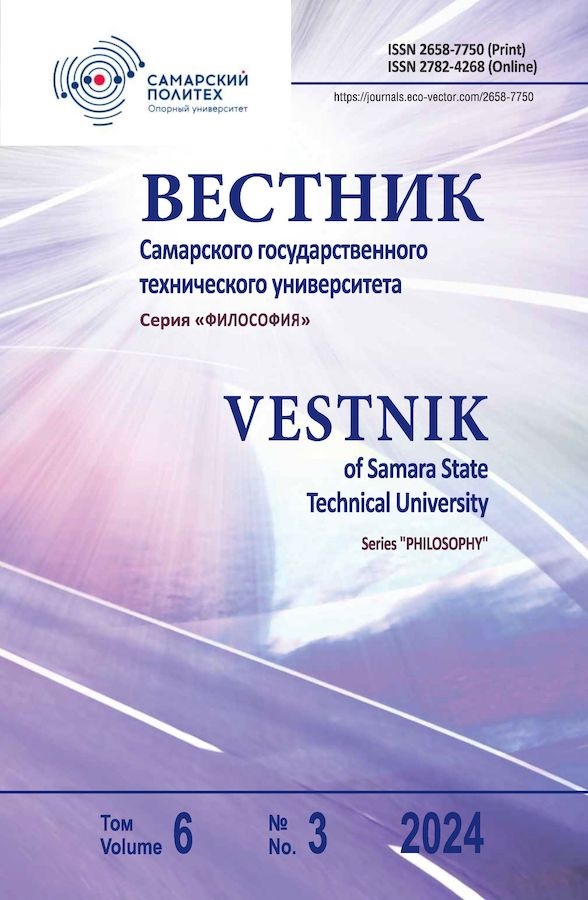The review of the monograph by S.Yu. Kolchigin "Ithaca: A Metaphysical Diary"
- 作者: Faritov V.T.1
-
隶属关系:
- Samara State Technical University
- 期: 卷 6, 编号 3 (2024)
- 页面: 107-111
- 栏目: SCIENTIFIC LIFE. REVIEWS
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7750/article/view/692995
- ID: 692995
如何引用文章
全文:
详细
The review is devoted to a new monograph by Sergei Yuryevich Kolchigin, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Institute of Philosophy and Political Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, “Ithaca: A Metaphysical Diary”, published in 2023.
关键词
全文:
Книга Сергея Колчигина написана в непривычном для рецензента академических работ формате. «Итака» – не научное исследование и не философский трактат. Перед читателем «метафизический дневник». И вот мы вспоминаем, что в нашей философии были не только монографии А.В. Гулыги и Т.И. Ойзермана, не только трактаты В.С. Соловьева, С.Л. Франка и Н.О. Лосского. Были и «Опавшие листья» В.В. Розанова, «Апофеоз беспочвенности» Л. Шестова. Были мистические озарения Андрея Белого. И даже такой до мозга костей академический мыслитель, как А.Ф. Лосев, не пренебрегал жанром философского эссе. Мы вспоминаем, что философия – не только и не столько наука, это в первую очередь непосредственный и живой опыт осмысления бытия. Образ мысли и образ жизни. И метафизика – не только тяжеловесные интеллектуальные построения в духе Канта и Фихте, но и живой диалог с основами мироздания. В эпоху засилья позитивизма, прагматизма и «аналитической философии» обо всем этом стали забывать. И вот мы открываем совершенно неожиданную в современных условиях книгу и отправляемся на Итаку.
«Однажды я что-то искал в моей сокровищнице книг, рукописей, забытых фрагментов прошлого. И обнаружил пожелтевшие страницы, испещрённые странным текстом. Это был какой-то свиток, манускрипт, подобный тем, что порой находят в бутылке, брошенной в море. И повествовал он о высоком и загадочном. Так в Океане дней, в Космосе жизни бывают порой неожиданные открытия. Если не сказать решительней – откровения. И я, старый Улисс, Агасфер, Путешественник во времени, подозреваю, что в незапамятные времена это я сам в отчаянии забросил этот манускрипт, потеряв надежду на то, что его когда-нибудь прочтут. Теперь эта рукопись, древняя, из прошлого тысячелетия, всматривается в меня» [1, с. 4]. Так начинается книга. Дальше – фрагменты. Небольшие или на несколько абзацев. С заглавием и без. Иногда датированные.
Ницше писал, что его книги предназначены для путешественников. Его сочинения не предполагают последовательного и методического изучения. Но их можно в любой удобный момент открыть на любой странице и на какое-то время выйти из горизонта привычного и обыденного. Увидеть все в ином свете. Метафизическое путешествие предполагает переход от перспективы конечного, временного и относительного к перспективе вечного и абсолютного. Если использовать устоявшуюся философскую терминологию – переход от имманентного к трансцендентному. Или обнаружение присутствия трансцендентного в имманентном. Но жанр метафизического дневника не располагает к понятийным абстракциям. Место категориально-понятийного аппарата занимают метафоры: «Ты – крохотное зерно, и ты под землёю, во мраке. Твоя задача – расти, подниматься из тьмы к свету солнца и, возвысившись до того, чтоб увидеть весь мир и возрадоваться его красоте и бескрайности, – забыть о своей корневой природе, шагнуть миру навстречу и, быть может, взлететь, свершая метаморфозу от зерна подземелья до парящей души небожителя. А пока ты – зерно в подземелье. Не медли, расти, доколе чья-то тяжёлая оступь не утрамбовала землю, доколе земля не окаменела, не похоронила тебя навеки» [1, с. 7]. Цель книги не состоит в том, чтобы привести читателя к каким-то определенным выводам, убедив его посредством дедуктивных умозаключений. Здесь ничего не доказывают, ни в чем не убеждают. Чтобы увлечь читателя в метафизическое путешествие, автор обращается к различным формам духовного опыта. Это может быть язык религиозного опыта: «Не предавайся гордыне! Вот, послушай о Славе Господней. Знаменитее всех – Бог. Мы поклоняемся Ему в храмах; мы молимся Ему пред иконами; иные из нас хотят быть похожими на Него, а большинство повторяет Его имя всуе и постоянно: «Бог знает!»,
«Бог в помощь!», «Дай бог!», «Слава богу!». И правда: Он – величайший из всех. Кто из творцов может создать Вселенную? А жизнь? А человека? Кто из художников сравнится с Ним в силе и красоте творений? Кто из мудрейших ведает больше, чем Он? И однако – откуда Он родом? Никому неизвестно. Каков Его облик? Не знает никто. Как Его имя? Никто не ответит» [1, с. 8].
Или эзотеризм Востока: «Агни, Агни! Наконец ты проснулся во мне! Пробуждайся, танцуй свой неистовый танец! Пронзай меня нáсквозь, пляши, поднимаясь кверху! Пробей, пронзи эту плотную оболочку над головою моей! Танцуй, извивайся, становясь всё прямее, прямей! Агни, Агни! Прожги отверстье, дай ворваться в него зелёной силе, лучу из Космоса! Встречайся с ним, Агни, сливайся с ним! В единый поток, в единую нить сознанья! Дай, дай лучу пронзить меня нáсквозь, пролиться в канал Сушумны, озарить светом изумруда темницу мою! Помоги, помоги ему пронзить меня сверху донизу!» [1, с. 31].
В других случаях это диалог с философской традицией: «Если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя». Эти слова Ницше можно с полным правом применить к кантовской проблеме «вещи в себе». Чем дольше и пристальней мы пытаемся вглядываться в то, что кроется по ту сторону явлений, тем больше различаем бездонную глубину. А в ней – узнаём самих себя. Потому что глубина мира есть наша собственная глубина, иррациональная, непостижимая, страшная и зовущая. Чувственное многообразие, рассудок, разум – всё это исчезает в океане вечно живых, активных и неисчерпаемых иррациональных начал, смутных побуждений, зовов, интуиций, озарений, толчков изнутри… Ясный мир наличного бытия оказывается не более чем всплесками на поверхности этого океана. Они выныривают из глубины в виде волны, испарения, пузырька или диковинного создания – и свидетельствуют о нашем незнании» [1, с. 151]. Наконец, автор нередко апеллирует к личному опыту метафизического переживания и осмысления действительности: «С возрастом, уходя от детства, я приобретал всё больше – но и утрачивал что-то важное. Действительно, я накапливал опыт эмпирической жизни, тренировал навыки чтения, письма, иностранного языка, игры на музыкальном инструменте; я смотрел фильмы и театральные постановки, бродил по горам, по площадям и улицам мегаполисов. Впечатления наслаивались одно на другое, третье, четвёртое… И я всё реже и реже слышал Голос Безмолвия. Тайна, из которой я когда-то вышел на этот свет, с возрастом стала отодвигаться дальше и дальше. Удивительно: так же происходит и тогда, когда пытаешься Тайну познать. Она лишь усмехается и отодвигается в тень, снова и снова» [1, с. 160].
Впрочем, и читатель, ориентированный на более или менее традиционный язык философского дискурса и предпочитающий мистическим экстазам строгие рассуждения в понятийной форме, не останется здесь без пищи. «В дому Отца Моего обители многи суть» (Иоанн, 14:2). И традиционный философский язык не исключен из метафизического дневника. Метафизика, прежде всего, есть учение о границах. В онтологическом, гносеологическом, экзистенциальном, эстетическом аспектах. И еще старик Кант написал незабываемые строки о границах метафизического познания: «Однако ограничение сферы опыта чем-то в ином отношении неизвестным разуму есть все же познание, еще остающееся разуму в этом положении, – познание, посредством которого разум, не замыкаясь в чувственно воспринимаемом мире, но и не фантазируя за его пределами, ограничен так, как это свойственно представлению о границе, а именно ограничен отношением того, что лежит вне границы, к тому, что содержится внутри нее» [2, с. 121]. Действительно, забавно? Вот и в метафизическом дневнике профессора Сергея Колчигина мы читаем: «Действительно, забавно. Но ведь вообще-то оно так и есть. Граница – это условное обозначение исчезающих моментов пространственного многообразия и темпоральных изменений. При этом исчезающее сливается с Единым, так как растворяется в неопределённости. Граница – понятие, фиксирующее преходящие моменты разнообразия, различия. Но реально границ не существует, потому что все и всё суть элементарные проявления абсолютного Единого. В отношении человека это означает: он универсален, он может всё, но сущность его – нравственность, духовность. То есть не безграничная свобода, не «беспредел», а любовь и внутренняя ответственность» [1, с. 175]. В кантовской проблематике содержится принципиальная и неустранимая амбивалентность, коренящаяся в самой диалектической природе чистого разума. Ограничение метафизического познания есть одновременно указание на саму границу и выход за пределы этой границы: «Сознание пустоты давит человека, ему кажется, что он висит над бездной – бездной бессмыслицы и смерти. Но вот парадокс: если я сознаю пустоту, она уже не пустота, она уже наполнена моими чувствами, образами, мыслями. Поэтому надо различать эту экзистенциальную пустоту, с одной стороны, и пустоту онтологическую и ментальную – с другой» [1, с. 175]. И вот мы уже не с Кантом. Кант преодолен.
Но не будем торопиться. Еще Ницше связывал с именем Канта глубочайший кризис метафизики: «Метафизика невозможна. Трагическая резиньяция, конец философии. Философия со времен Канта мертва» [6, с. 466–467]. Можно ли говорить сейчас о каком-либо возрождении метафизики? Очевидно, что нет. Современная философия преимущественно представлена научными исследованиями в отдельных областях. Занимающийся философией, как правило, не философ, а специалист в отдельной, достаточно узкой сфере: социальной философии, философии науки и техники, в лучшем случае истории философии. И могут ли быть названы философами все эти Попперы, Куны, Лакатосы, Дессауэры, Веберы и Бурдье? Очевидно, что нет. Это все специалисты в своих областях. В лучшем случае ученые и исследователи. Философия как метафизика в современной культурно-исторической ситуации возможна только как спорадическое явление. И новая книга С. Колчигина лишь подтверждает справедливость данного тезиса.
«Метафизический дневник» – книга глубоко интровертированная. Хотя автор много говорит об объективности сознания и его эйдосов, содержание «Итаки» носит сугубо личностный, субъективный характер. Метафизика из prima philosophia превратилась в частное занятие, ушла в сферу индивидуальных переживаний и размышлений. Это примерно то же самое, как если бы первая скрипка оркестра была вынуждена играть в подземном переходе… Да, это тоже музыка, но…
Сам автор рецензируемой монографии не всегда удерживается на высоте метафизических парений. Характерный пример – раздел под названием «Невероятный смысл пушкинского Лукоморья». Не желая останавливаться на буквальном значении слова, автор ищет и находит другие, глубинные смыслы поэтического образа: «Быть может, глубинный смысл лукоморья – то, что это полусфера и граница миров, где встречаются океан бытия и мир астральноземной» [1, с. 164]. Хорошо.
«Дуб зелёный – очевидно, Мировое Древо» [1, с. 164]. Очевидно, что да. Но вот дальше: «Кот учёный… Вот, похоже, ключ ко всему тексту пушкинского «Лукоморья». Произнесём слово «кот». Оно будет звучать ещё и как «код» – довольно привычно для нас, но совершенно непривычно для слуха древних. И если так, то учёный кот – не что иное, как «умный код». Уж не код ли генетический? Ведь на дубе – цепь. Цепь азотистых оснований, образующих спираль ДНК?» [1, с. 164]. Вот здесь, похоже, нет. Проблема не в том, что Пушкин при всем своем поэтическом даре не мог, да и не хотел бы провидеть все «чудеса» генетики, и слово «кот» никак не могло для него звучать как «код», тем более генетический… Проблема в том, что цепь азотистых оснований и спираль ДНК – это уже не метафизические смыслы. Автор покидает область метафизики и нисходит к материализму самого грубого, вульгарного толка. Это и в самом деле «довольно привычно для нас», т. е. для тех, кто живет в эпоху, когда метафизика стала невозможной.
Если оставить в стороне духовную ситуацию нашего времени, то книга С. Колчигина «Итака: метафизический дневник» значима уже самим фактом обращения к метафизике. Это опыт ретроспекции, воспоминания о том, что в прошлом были целые эпохи религиозного и метафизического творчества. Вспоминать об этом полезно – как полезно во время археологических раскопок находить осколки древних цивилизаций.
作者简介
Vyacheslav Faritov
Samara State Technical University
编辑信件的主要联系方式.
Email: vfar@mail.ru
SPIN 代码: 2668-5946
Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social and Humanitarian Sciences
俄罗斯联邦, Samara参考
- Colchigin S. Ithaca: a metaphysical diary. Almaty: SaGa, 2023. 208 р.
- Kant I. Prolegomena to any future metaphysics that can appear as science. Fundamentals of the metaphysics of morality. Moscow: Mysl, 1999. Рp. 3–147.
- Nietzsche F. Complete works: in 13 vol. Vol. 7: Drafts and sketches 1868–1873. Moscow: Cultural Revolution, 2007. 720 р.
补充文件