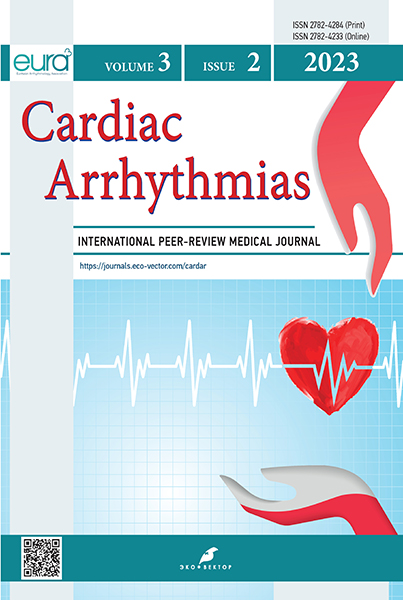Особенности применения пероральных антикоагулянтов в клинической практике: фокус на желудочно-кишечные осложнения
- Авторы: Бакулина Н.В.1, Тихонов С.В.1, Апресян А.Г.1, Ильяшевич И.Г.1
-
Учреждения:
- Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
- Выпуск: Том 3, № 2 (2023)
- Страницы: 29-40
- Раздел: Обзоры
- URL: https://journals.eco-vector.com/cardar/article/view/321821
- DOI: https://doi.org/10.17816/cardar321821
- ID: 321821
Цитировать
Аннотация
В обзорной статье представлены данные о физиологии и патофизиологии системы гемостаза, обсуждаются особенности применения прямых пероральных антикоагулянтов (ПОАК) в клинической практике. ПОАК – препараты, характеризующиеся прогнозируемой фармакокинетикой и фармакодинамикой, благоприятным профилем эффективности и безопасности. В статье рассмотрены основные клинико-фармакологические характеристики апиксабана, ривароксабана и дабигатрана (биодоступность, метаболизм, выведение); факторы, повышающие риск желудочно-кишечных кровотечений, ассоциированных с антикоагулянтной терапией; межлекарственные взаимодействия; возможности гастропротекции у пациентов, принимающих ПОАК. В реальной клинической практике причиной не назначения или необоснованного снижения дозы ПОАК является опасение кровотечений. При этом риски кровотечений, как правило, переоцениваются. Знание факторов риска кровотечений, прогностических шкал и управление факторами риска – подход, способный повысить безопасность антикоагулянтной терапии. В клинической практике выбор идеального ПОАК, кроме учета риска кровотечений, должен базироваться на комплексной оценке, включая возраст пациента, риск инсульта и коронарных событий, функцию почек, а также прогнозируемую комплаентность.
Полный текст
АКТУАЛЬНОСТЬ
Система гемостаза — сложная биологическая система приспособительных реакций, направленная на сохранение жидкого состояния циркулирующей крови, остановку кровотечений при повреждении сосуда и лизирование тромбов, выполнивших свою функцию. Гемостаз осуществляется за счет сбалансированного взаимодействия между свертывающей и противосвертывающей системами. Свертывающая система состоит из сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев; противосвертывающая — из естественных антикоагулянтов и системы фибринолиза, лизирующей образовавшиеся тромбы [1, 2]. В физиологических условиях тромб возникает в месте повреждения сосудистой стенки для остановки кровотечения и минимизации риска серьезной кровопотери. Тромб представляет собой прижизненный сгусток крови в просвете сосуда, образующийся в результате активации системы свертывания [2].
Серия исследований, проведенных во второй половине XIX в., позволила немецкому ученому Рудольфу Вирхову выявить основные предрасполагающие к тромбообразованию факторы. Согласно «триаде Вирхова» тромб формируется по трем основным причинам: нарушение тока крови (замедление, турбулентность); повреждение стенки сосуда, включая патологию эндотелия; изменение компонентного состава крови [3].
На ранних этапах антропогенеза риски кровотечений у плацентарных млекопитающих и человекообразных обезьян были крайне высоки. Эволюционное изменение среды обитания на фоне антропосоциогенеза способствовало уменьшению вероятности травматических повреждений и кровотечений на фоне появления множественных факторов риска патологического тромбообразования. Гиподинамия, нарушения пищевого поведения, избыточное накопление жировой ткани обусловливают развитие целого ряда заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой системы, увеличивающих риски тромбозов. Эндотелиальная дисфункция, атеросклеротические бляшки предрасполагают к образованию артериальных тромбозов. Недостаточная физическая активность, патология венозного русла увеличивают риски тромбоза глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболических осложнений. Болезни цивилизации — ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия и сахарный диабет 2-го типа — являются значимыми факторами риска как артериальных, так и венозных тромбозов [4–7].
В XXI в. заболевания, в патогенезе которых значимую или основную роль играет тромбообразование, стали ключевой медицинской проблемой. Инфаркты миокарда и ишемические инсульты — актуальные примеры артериальных тромбозов. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей, в том числе осложнившиеся тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) — распространенные варианты венозных тромбозов. У пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) частым местом образования тромба является ушко левого предсердия. Из данной области тромб может мигрировать в аорту и попадать в систему внутренней сонной артерии, вызывая острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу [3, 8].
Когортные наблюдательные исследования по типу «случай – контроль» способствовали выявлению факторов риска тромбозов, тромбоэмболических осложнений и созданию шкал, прогнозирующих риски тромботических осложнений — шкала Каприни (риск тромботических осложнений у пациентов хирургического профиля), шкала CHA2DS2VASc (риск тромботических осложнений у пациентов с ФП), индекс Geneva (риск ТЭЛА), шкала Wells (риск ТЭЛА) и др. Использование данных шкал позволяет врачам оценивать риск тромботических осложнений и необходимость назначения антитромботической профилактики [9–11]. Антиагреганты, антикоагулянты и фибринолитики — препараты, применяемые в клинической практике, для лечения тромбозов и тромбоэмболических осложнений. Антиагреганты являются ключевыми препаратами для профилактики и терапии артериальных тромбозов — инфаркта миокарда и ОНМК. Антикоагулянты используются для предотвращения и лечения как артериальных, так и венозных тромбозов [12]. Особую группу представляют пациенты с ОНМК по ишемическому типу, имеющие максимальный риск тромбоэмболических осложнений. Согласно «правилу Диннера», после исключения в день инсульта геморрагического характера возобновление антикоагулянтной терапии происходит по принципу 1 : 3 : 6 : 12. При транзиторной ишемической атаке — на первый день, при малом инсульте — на третий день, при инсульте средней тяжести — на шестой, и при тяжелом — на 12-й день [13]. Пациенты с ОНМК нередко имеют не только хронические заболевания ЖКТ, но и стресс-зависимое поражение слизистой оболочки гастродуоденальной зоны (язвы Кушинга). Особенность ведения данных пациентов заключается в отсутствии практики рутинного эндоскопического исследования верхних отделов ЖКТ, комбинированном использовании антикоагулянтов с ингибиторая протонной помпы (ИПП), включая парентеральные формы [14–16].
В настоящее время основными антикоагулянтными препаратами, применяемыми с профилактической целью у амбулаторных пациентов, являются прямые оральные антикоагулянты (ПОАК). Данные препараты характеризуются прогнозируемой фармакокинетикой и фармакодинамикой, благоприятным профилем эффективности и безопасности. В отличии от гепарина и низкомолекулярных гепаринов ПОАК имеют пероральный путь введения, по эффективности не уступают, а некоторые из них превосходят антагонист витамина K — варфарин [17].
В Российской Федерации зарегистрировано 3 препарата, относящихся к классу ПОАК: дабигатран — обратимый конкурентный прямой ингибитор тромбина; ривароксабан и апиксабан — обратимые высокоселективные прямые ингибиторы фактора Ха [18–21].
В реальной клинической практике причиной не назначения или необоснованного снижения дозы ПОАК является опасение кровотечений. При этом риски кровотечений, как правило, переоцениваются [22]. При ФП для оценки риска кровотечений на фоне терапии ПОАК целесообразно использовать шкалу HAS-BLED [23]. Согласно современным клиническим рекомендациям, высокий риск кровотечения не должен служить основанием для отказа от антикоагулянтной терапии, поскольку польза от лечения (снижение риска тромбоза) значимо превосходит риски кровотечений различных локализаций [20].
Знание факторов риска кровотечений, прогностических шкал и управление факторами риска — подход способный повысить безопасность антикоагулянтной терапии. В клинической практике выбор идеального ПОАК, кроме учета риска кровотечений, должен базироваться на комплексной оценке, включая оценку возраста пациента, риск инсульта и коронарных событий, функцию почек, а также прогнозируемую комплаентность.
Фармакокинетика прямых оральных антикоагулянтов
К настоящему времени проведена серия рандомизированных двойных слепых международных исследований, демонстрирующих эффективность ПОАК в предотвращении инсульта и системных эмболических событий у пациентов с неклапанной ФП [24–27].
Литературные данные показывают, что ПОАК обладают прогнозируемой фармакокинетикой и меньшим числом лекарственных взаимодействий, лучшим профилем эффективности и безопасности в сравнении с варфарином. Два класса ПОАК: прямые ингибиторы тромбина и прямые ингибиторы Xа-фактора являются таргетными препаратами, имеющими фиксированную дозировку, не требующими мониторинга международного нормализованного отношения (МНО), характеризующимися широким терапевтическим индексом, быстрым началом действия и коротким периодом полувыведения [27]. У кардиологических пациентов с ФП зарегистрированы следующие стандартные дозы ПОАК: дабигатран — 150 мг 2 раза в сутки, ривароксабан — 20 мг 1 раз в сутки, апиксабан — 5 мг 2 раза в сутки [17]. В некоторых клинических ситуациях, например при почечной недостаточности, дозы препаратов могут быть пересмотрены в соответствии с действующими инструкциями.
Нерешенным остается вопрос безопасности применения этих препаратов в конкретных клинических ситуациях и прогнозирования риска нежелательных лекарственных реакций (НЛР), которые в основном являются дозозависимыми и прогнозируемыми [28].
Фармакокинетические показатели основных представителей ПОАК и их профили безопасности существенно различаются. Основные фармакокинетические характеристики ПОАК представлены в табл. 1 [19–21].
Таблица 1. Основные фармакокинетические параметры прямых оральных антикоагулянтов
Показатель | Ривароксабан | Апиксабан | Дабигатран |
Механизм действия — точка приложения | Ингибитор Xa | Ингибитор Xa | Ингибитор IIa |
Биодоступность, % | 66–100* | ~50 | 6,5 |
Пролекарство | Нет | Нет | Да |
Т1/2, ч | 5-13 | 12 | 12-14 |
Тmax, ч | 2-4 | 3-4 | 0,5-2 |
Связь с белками плазмы, % | >90 | 87 | 35 |
Выведение через почки, % | 33 | 27 | 85 |
Печеночный метаболизм | Умеренный | Умеренный | Низкий |
Метаболизм в CYP450 | CYP3A4, CYP2J2 | CYP3A4/5 | Нет |
Межлекарственные взаимодействия | Ингибиторы CYP3A4, P-гликопротеин | Ингибиторы CYP3A4 | Рифампицин, хинидин, амиодарон, ингибиторы Р-гликопротеина |
Режим дозирования | 1 раз в сутки | 2 раз в сутки | 2 раз в сутки |
Примечание. *Биодоступность ривароксабана дозозависимая: для 10 мг ~100 % вне зависимости от приема пищи, для доз 15 и 20 мг ~66 % при приеме натощак и ~100 % при приеме с пищей.
Дабигатран — пролекарство, метаболизм которого осуществляется ферментами класса эстераз. Генетический полиморфизм эстераз может обусловливать значительные различия в метаболизме и фармакокинетике препарата, выступая в роли фактора, определяющего риск развития побочных эффектов, особенно кровотечений [29]. Дабигатран обладает высокой полярностью, препятствующей всасыванию в ЖКТ. Прием пищи существенно замедляет всасывание препарата, но не изменяет биодоступность — 6,5 %. С учетом низкой биодоступности, создания высоких концентраций в просвете кишечника, а также частичной активации препарата кишечной эстеразой, дабигатрана этексилата может местно влиять на слизистую оболочку кишечника, провоцируя повреждение и развитие кровотечения, в том числе и из уже имеющихся дефектов [30, 31]. После приема внутрь препарат достигает максимальных концентраций в крови через 0,5–2 ч, 85 % выводится почками, в связи с чем клиренс креатинина менее 30 мл/мин является противопоказанием к назначению дабигатрана. С целью уменьшения риска НЛР у пациентов старше 80 лет, у пациентов с эрозивным эзофагитом, гастритом и у других больных с высоким риском кровотечения рекомендуется использовать сниженную дозу дабигатрана — 110 мг 2 раза в сутки. Поскольку пролекарство дабигатрана этексилат является субстратом Р-гликопротеина (P-gp) проводилось изучение совместного применения дабигатрана с ингибиторами и индукторами транспортера P-gp. Одновременное использование ингибиторов P-gp (амиодарон, верапамил, хинидин, кетоконазол для системного применения, дронедарон, тикагрелор и кларитромицин) приводит к увеличению концентрации дабигатрана в плазме крови. В неинтервенционном проспективном исследовании с участием пациентов старше 85 лет риск кровотечения увеличился примерно в 6 раз при одновременном использовании дабигатрана и мощного ингибитора P-gp — амиодарона [32]. В соответствии с инструкцией противопоказано одновременное применение дабигатрана с кетоконазолом, циклоспорином, итраконазолом, такролимусом и дронедароном, а при совместном применении с амиодароном, верапамилом, хинидином и тикагрелором требуется соблюдение осторожности. При комбинированном применении с верапамилом доза дабигатрана должна быть снижена до 110 мг 2 раза в сутки [20].
Ривароксабан быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в плазме через 2–4 ч. Прием пищи повышает биодоступность до 100 %, вероятно за счет солюбилизации и растворения лекарственного средства. Ривароксабан служит субстратом для P-gp и метаболизируется в печени с участием системы цитохромов Р450 (CYP3A4, CYP2J2) [33]. Препарат имеет двойной путь выведения, что обусловливает большую безопасность терапии у пациентов с печеночной и/или почечной недостаточностью. С учетом выведения практически трети препарата в неизмененном виде через почки клиренс креатинина 30–49 мл/мин является показанием для назначения сниженной дозы — 15 мг 1 раз в сутки. Препарат противопоказан при клиренсе креатинина менее 15 мл/мин [19].
Апиксабан всасывается преимущественно в тонком кишечнике, биодоступность препарата составляет 50 % [34]. Апиксабан метаболизируется CYP3A4/5 и вторично сульфотрансферазой 1А1 и выделяется почками (25 %) и гепатобилиарным путем (75 %). Препарат с осторожностью должен применяться у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, при клиренсе креатинина менее 15 мл/мин прием препарата противопоказан. Сниженная доза 2,5 мг 2 раза в день назначается при наличии сочетания двух или более из следующих характеристик — возраст 80 лет и старше, масса тела менее 60 кг, концентрация креатинина в плазме крови ≥ 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л). Кроме того, доза 2,5 мг 2 раза в день назначается пациентам с клиренсом креатинина 15–29 мл/мин [21]. Ретроспективное исследование S. Hanigan и соавт. от 2020 г. показало, что совместный прием умеренных ингибиторов CYP3A4 (амиодарона, дилтиазема, верапамила, эритромицина и др.) с апиксабаном или ривароксабаном в течении не менее 3 мес. ассоциировался с более высоким общим риском кровотечения по сравнению с монотерапией ПОАК [35]. Клинически значимые лекарственные взаимодействия основных ПОАК представлены в табл. 2.
Таблица 2. Клинически значимые лекарственные взаимодействия между прямыми оральными антикоагулянтами и часто применяемыми препаратами [19–21]
Препарат | Апиксабан | Дабигатран | Ривароксабан |
Антибактериальные препараты | |||
Кларитромицин | Нет | Нет | Нет |
Эритромицин | Нет | Нет | Нет |
НПВП и дезагреганты | |||
НПВП | * | * | * |
Аспирин | * | * | * |
Клопидогрел | Да | * | Нет |
Тикагрелол | Нет | * | Нет |
Антиаритмические препараты | |||
Амиодарон | Да | * | Нет |
Хинидин | Да | Да | Нет |
Верапамил | Нет | * | Нет |
Дилтиазем | Нет | Нет | Нет |
Примечание. Да — есть взаимодействие (не желательно назначать); Нет — нет клинически значимого взаимодействия (желательно назначать); «*» — с осторожностью (при соблюдении мер, указанных в инструкциях, с учетом возможного изменения концентрации)
Все ПОАК противопоказаны пациентам с болезнями печени, сопровождаемыми коагулопатией и значимым риском кровотечения, а также при нарушении функции печени класса С по Чайлду – Пью [19–21]. По данным European Heart Rhythm Association (EHRA) от 2021 г. ривароксабан противопоказан пациентам с циррозом печени стадии В по Чайлду – Пью, остальные ПОАК могут быть использованы с осторожностью. В последних обновлениях европейских клинических рекомендаций EHRA 2021 г. большое внимание уделяется необоснованно частому назначению сниженных доз ПОАК. Эксперты указывают на необходимость рутинного использования изученных стандартных доз антикоагулянтов и применении сниженных доз только в соответствии с опубликованными и одобренными критериями. При выборе дозы необходимо учитывать интересы пациента, у которого риск инсульта, как правило, преобладает над риском геморрагических осложнений [36]. Схожую позицию занимают и российские исследователи, указывая на неоправданно частое снижение доз ПОАК [37].
Влияние прямых оральных антикоагулянтов на слизистую оболочку ЖКТ. Несмотря на относительно благоприятный профиль безопасности ПОАК, риск кровотечений, в том числе и желудочно-кишечных, является доминирующим и определяет выбор ПОАК. В настоящее время прямых исследований, сравнивающих безопасность и эффективность различных ПОАК, не проводилось. Рандомизированные клинические исследования показывают, что частота различных геморрагических осложнений на фоне антикоагулянтной терапии находится на уровне 2–5 % в год [38, 40], однако при анализе регистров пациентов с ФП, длительно получающих терапию ПОАК, частота больших кровотечений составила около 0,5 % [41, 42]. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) составляют не менее половины общего числа больших кровотечений [43–45]. В длительном проспективном исследовании в рамках регистра РЕВАЗА было отмечено, что частота кровотечений из верхних отделов ЖКТ наблюдалась в 3 раза чаще, чем из нижних отделов [45].
С учетом фармакокинетики и фармакодинамики ПОАК не должны обладать непосредственным повреждающим действием на слизистую оболочку ЖКТ. В исследовании L. Mihalkanin и соавт. [46] было продемонстрировано, что в течение 3 мес. наблюдения за пациентами, изначально не имевшими поражений слизистой оболочки желудка и получавшими ПОАК, не было выявлено ни одного клинически значимого ЖКК. Повышенный риск развития кровотечений ассоциирован с «проявляющим действием» препаратов на имеющиеся дефекты слизистой оболочки [47]. Так, в метаанализе 43 исследований с участием более 160 тыс. пациентов, получавших ПОАК, частота ЖКК из верхних отделов составила 1,5 % в год, из нижних — 1,0 %, основной причиной которых являлись опухоли различной локализации, дивертикулиты, полипы толстой кишки, язвенный колит, геморрой и трещины прямой кишки [48].
Таким образом, ПОАК обладают «проявляющим» действием на уже измененную слизистую ЖКТ, а риск развития кровотечений на фоне антикоагулянтной терапии зависит от профиля конкретного пациента и имеющихся у него предикторов риска. Эпидемиологические исследования показали, что риски ЖКК значительно повышаются у коморбидных пациентов. Основные предикторы кровотечений: хеликобактерная инфекция — отношение шансов (ОШ) 4,75; возраст старше 75 лет — ОШ 4,52; алкогольная зависимость — ОШ 2,5; почечная недостаточность — ОШ 1,67; ишемическая болезнь сердца — ОШ 1,37; хроническая сердечная недостаточность — ОШ 1,25; прием глюкокортикостероидов — ОШ 1,17 [49, 50].
Перед назначением ПОАК, в плане профилактики риска развития осложнений, важным является исключение эрозивно-язвенного повреждения слизистой оболочки, хеликобактерной инфекции, онкопатологии, дивертикулита и других клинически важных заболеваний ЖКТ — потенциальных источников кровотечения. В связи с этим необходимо своевременное проведение эндоскопического исследования верхних и нижних отделов ЖКТ [51]. Для определения тактики ведения пациента, получающего антикоагулянтную терапию, у которого развилось ЖКК, используют классификацию геморрагических осложнений на основании регистра GARFIELD-AF (табл. 3) [37].
Таблица 3. Классификация геморрагических осложнений на основании регистра GARFIELD-AF
Осложнение | Описание проявления |
Большие геморрагические осложнения | Явное кровотечение, сопровождающееся хотя бы одним из нижеперечисленного: • снижением гемоглобина на ≥2 г/дл или • потребностью в гемотрансфузии ≥2 доз компонентов крови; •клинически значимая локализация (внутричерепное, внутриспинальное, внутриглазное, тампонада сердца, внутрисуставное, внутримышечное с развитием синдрома сдавления, ретроперитонеальное кровотечение); • фатальное кровотечение |
Небольшие клинически значимые геморрагические осложнения | Явное кровотечение, не достигшее критериев «большого», но потребовавшее медицинского вмешательства, изменения врачом схемы лечения или сопровождавшееся болью, дискомфортом или изменением привычной активности пациента |
Малые геморрагические осложнения | Все другие кровотечения, не соответствующие критериям «больших» и «небольших клинически значимых» |
Малые геморрагические кровотечения или «досаждающие» кровотечения не требуют медицинского вмешательства, изменения схемы лечения, не изменяют привычной активности пациента: незначительные геморроидальные кровотечения, малые носовые кровотечения, подкожные гематомы, десневые кровотечения и др. По данным регистра ORBIT-AF, включившего 7372 пациента на терапии ПОАК, у 20 % больных наблюдались «досаждающие» кровотечения, при этом 96 % пациентов продолжили антикоагулянтную терапию без изменений. В течение последующих 6 мес. при сравнении двух групп — пациентов с «досаждающими» кровотечениями и без них — риск больших геморрагических осложнений не отличался. Таким образом, малые геморрагические осложнения не являются предвестниками больших кровотечений, не представляют серьезной угрозы здоровью и не влияют на долгосрочный прогноз пациентов, а также не служат показанием к прекращению терапии [52]. В исследовании P. Kirchhof и соавт. [53] было показано, что при прерывании антикоагулянтной терапии возрастает риск инсульта: при временном перерыве на 6,2 %, при длительной отмене на 25,6 % [53]. Согласно российским клиническим рекомендациям от 2020 г., с целью предотвращения тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП при мелких «досаждающих» кровотечениях достаточно отложить прием 1 дозы ПОАК до остановки кровотечения [51].
В настоящее время в научной литературе имеются гетерогенные данные по сравнительной безопасности основных ПОАК в плане развития осложнений со стороны ЖКТ, что связано с разным дизайном исследований.
По данным Итальянской национальной сети фармаконадзора, у 959 231 пациента, получавших ПОАК, было зарегистрировано 7273 серьезных НЛР (у дабигатрана — 3342/29 4721 (1,13 %), у ривароксабана — 2032/317 359 (0,64 %), у апиксабана — 1492/294 721 (0,50 %). Наиболее частыми серьезными НЛР являлись желудочно-кишечные кровотечения — 41,2 % случаев [54].
В национальном популяционном исследовании A.B. Ingason и соавт. [55] были проанализированы данные 8892 пациентов, которым назначали терапию различными ПОАК с 2014 по 2019 г. (табл. 4).
Таблица 4. Частота развития желудочно-кишечных кровотечений по данным популяционного исследования (n = 8892)
Терапия ПОАК | Событий на 100 человек/лет |
Все желудочно-кишечные кровотечения | |
Апиксабан | 2,4 |
Дабигатран | 1,6 |
Ривароксабан | 3,2 |
Большие желудочно-кишечные кровотечения | |
Апиксабан | 1,4 |
Дабигатран | 1,1 |
Ривароксабан | 2,0 |
Кровотечения из верхних отделов ЖКТ | |
Апиксабан | 0,8 |
Дабигатран | 0,4 |
Ривароксабан | 1,0 |
Кровотечения из нижних отделов ЖКТ | |
Апиксабан | 1,3 |
Дабигатран | 1,2 |
Ривароксабан | 1,6 |
По результатам работы A.B. Ingason и соавт. [55] терапия ривароксабаном ассоциировалась с повышением общего риска ЖКК и риска больших ЖКК по сравнению с апиксабаном и дабигатраном. Причины повышения риска у пациентов, принимающих ривароксабан не ясны, однако полученные данные могут быть связаны с дизайном исследования.
Более высокая частота кровотечений при приеме ривароксабана требует дальнейшего изучения. Следует отметить, что в рандомизируемом контролируемом исследовании эффективности и безопасности ривароксабна ROCKET AF принимали участие пациенты с более тяжелым состоянием, которые изначально имели повышенный риск кровотечений [56].
Профилактика желудочно-кишечных кровотечений
ПОАК используются для профилактики и лечения потенциально жизнеугрожающих состояний (тромбозы, ТЭЛА), однако на фоне их применения существуют риски развития НЛР, в частности кровотечений. В клинической практике для оценки риска всех геморрагических осложнений при применении ПОАК целесообразно применять шкалу HAS-BLED. Пациенты, набравшие 3 балла и более по данной шкале имеют высокий риск кровотечений [57]. Согласно алгоритму Евразийской ассоциации терапевтов для профилактики геморрагических осложнений, у пациентов с ФП, получающих ПОАК, следует: нормализовать артериальное давление; минимизировать риск лекарственных взаимодействий; отказаться или минимизировать потребление алкоголя; не реже 1 раза в 12 мес. проводить оценку эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии, оценивать функцию печени и почек. У пациентов старше 75 лет контроль должен осуществляться каждые 6 мес., при клиренсе креатинина менее 60 мл/мин раз в N месяцев (N = клиренс креатинина / 10) [21, 58].
Перед инициацией терапии ПОАК необходимо исключить эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки ЖКТ. Пациентам с высоким риском кровотечений необходима коррекция модифицируемых факторов риска: эрадикация Helicobacter pylori; минимизация приема или отмена глюкокортикостероидов и НПВП; применение более безопасных НПВП и антиагрегантов (высокоселективные ингибиторы циклооксигеназы-2, блокаторы рецепторов к аденозиндифосфату), кислотосупрессивная и гастропротективная терапия [51].
Первым клиническим рандомизированным исследованием по оценке эффективности и безопасности ИПП у пациентов, получающих ПОАК, стало COMPASS. По результатам работы ИПП не влияли на риск ЖКК при применении ПОАК у всех пациентов, однако оказывали позитивное влияние на пациентов из группы высокого риска [59]. Таким образом, ИПП целесообразно назначать всем пациентам, набравшим 3 балла и более по шкале HAS-BLED [63]. ИПП также должны быть назначены пациентам, получающим двойную или тройную антитромботическую терапию; комбинацию ПОАК с НПВП и/или глюкокортикостероидами; больным, имеющим сопутствующие кислотозависимые заболевания. [60].
В ряде клинических ситуаций (гипо- или анацидность, дуоденогастральные забросы, нарушения микроциркуляции, применение НПВП и других препаратов, негативно влияющих на слизистую оболочку ЖКТ) у пациентов могут использоваться антациды, альгинаты, ребамипид, висмута трикалия дицитрат, урсодезоксихолевая кислота. Клинические исследования эффективности данных лекарственных препаратов у пациентов, получающих антикоагулянты, не проводились. В клинических исследованиях была продемонстрирована эффективность ребамипида у пациентов с НПВП-гастроэнтеропатиями за счет повышения концентрации простагландинов в слизистой оболочке ЖКТ, увеличения синтеза гликопротеинов, активации эпидермального фактора роста и его рецепторной экспрессии [61–64].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время ПОАК имеют широкий спектр клинических показаний, включающих профилактику и лечение тромботических и тромбоэмболических осложнений. Наиболее частыми НЛР на фоне применения ПОАК являются геморрагические осложнения, в частности со стороны ЖКТ. Принимая решение о выборе ПОАК, в каждом конкретном случае необходимо учитывать риски кровотечений, возраст пациента, риск развития инсульта и коронарных событий, функцию почек, а также прогнозируемую приверженность к назначаемой терапии. Для минимизации риска ЖКК необходимо активное выявление факторов риска кровотечений, воздействие на модифицируемые факторы, мониторинг потенциальных межлекарственных взаимодействий, при необходимости назначение кислотосупрессивной и гастропротективной терапии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Об авторах
Наталья Валерьевна Бакулина
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Email: natalya.bakulina@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0003-4075-4096
SPIN-код: 9503-8950
д-р. мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургСергей Викторович Тихонов
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Автор, ответственный за переписку.
Email: sergeyvt2702@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5720-3528
SPIN-код: 6921-5511
канд. мед. наук, доцент
Россия, Санкт-ПетербургАнна Григорьевна Апресян
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Email: asestr4ki@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0637-9384
SPIN-код: 8654-7705
канд. мед. наук, доцент
Россия, Санкт-ПетербургИнна Геннадьевна Ильяшевич
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Email: Inna.Ilyashevich@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0002-5784-2634
SPIN-код: 3212-7518
канд. мед. наук, доцент
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. Т. 2. 640 с.
- Кузник Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в норме и патологии. Чита: Экспресс-издательство, 2010.
- Watson T., Shantsila E., Lip G.Y. Mechanisms of thrombogenesis in atrial fibrillation: Virchow's triad revisited // Lancet. 2009. Vol. 373, No. 9658. P. 155–166. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60040-4.
- Lijfering W.M., Rosendaal F.R., Cannegieter S.C. Risk factors for venous thrombosis — current understanding from an epidemiological point of view // Br J Haematol. 2010. No. 6. Р. 824–833. doi: 10.1111/j.1365-2141.2010.08206.x
- Sloan E., Wright T., Zuo Y. Identifying additional risk factors for arterial and venous thrombosis among pediatric antiphospholipid antibodies carriers // Lupus. 2021. Vol. 30, No. 5. P. 828–832. doi: 10.1177/09612033211002256
- Samad F., Ruf W. Inflammation, obesity, and thrombosis // Blood. 2013. Vol. 122, No. 20. P. 3415–3422. doi: 10.1182/blood-2013-05-427708
- Previtali E., Bucciarelli P., Passamonti S.M., et al. Risk factors for venous and arterial thrombosis // Blood Transfus. 2011. Vol. 9, No. 2. P. 120–138.
- Lloyd-Jones D., Adams R.J., Brown T.M. et al. Heart disease and stroke statistics - 2010 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee // Circulation. 2019. Vol. 121. P. e46–e215. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192667
- Bergmark B.A., Bhatt D.L., Braunwald E., et al. Risk Assessment in Patients With Diabetes With the TIMI Risk Score for Atherothrombotic Disease // Diabetes Care. 2018. Vol. 41, No. 3. P. 577–585. doi: 10.2337/dc17-1736
- Cetinkal G., Kocas B.B., Ser O.S., et al. Assessment of the Modified CHA2DS2VASc Risk Score in Predicting Mortality in Patients Hospitalized With COVID-19 // Am J Cardiol. 2020. Vol. 135. P. 143–149. DOI: org/10.1016/j.amjcard.2020.08.040
- Tamizifar B., Fereyduni F., Esfahani M.A., et al. Comparing three clinical prediction rules for primarily predicting the 30-day mortality of patients with pulmonary embolism: The "Simplified Revised Geneva Score," the "Original PESI," and the "Simplified PESI" // Adv Biomed Res. 2016. Vol. 5. P. 137. DOI: org/10.4103/2277-9175.187372
- Клиническая фармакология: учеб. / под ред. В.Г. Кукеса. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 944 с.
- Heidbuchel H., Verhamme P., Alings M., et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace. 2015. Vol. 17. P. 1467–1507. doi: 10.1093/europace/euv309
- Батырова А.Н., Бердалина Г.С., Тажиева А.Е. и др. Эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной зоны при стрессовых ситуациях (операциях, травме и шоке) и тяжелых заболеваниях внутренних органов // Вестник КРСУ. 2014. Т. 14, № 1. С. 179–182.
- Тавлуева Е.В., Савкова О.Н., Зернова Е.В. и др. Частота использования пероральных антикоагулянтов в реальной клинической практике у пациентов, госпитализированных с острым ишемическим инсультом // Российский кардиологический журнал. 2022. Т 12, № 27. С. 74–79.
- Моисеев С.В. Прямые оральные антикоагулянты в профилактике повторного инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий // Клиническая фармакология и терапия. 2021. Т. 3, № 30. С. 57–66. doi: 10.32756/0869-5490-2021- 3-57-66.
- Raval A.N., Cigarroa J.E., Chung M.K., et al. Management of Patients on Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in the Acute Care and Periprocedural Setting: A Scientific Statement From the American Heart Association // Circulation. 2017. Vol. 135, No. 10. Р. e647. doi: 10.1161/CIR.0000000000000477
- Клинические рекомендации: Фибрилляция и трепетание предсердий. Москва, 2020. 185 с. https://scardio.ru/content/Guidelines/2020/Clinic_rekom_FP_TP-unlocked.pdf
- Официальная инструкция к препарату Ксарелто®. https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_43277.htm [дата обращения: 23.07.2021]
- Официальная инструкция к препарату Прадакса®. https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_42850.htm [дата обращения: 23.07.2021].
- Официальная инструкция к препарату Эликвис®. https://www.vidal.ru/drugs/eliquis__38823 [дата обращения: 23.07.2021]
- Camm A.J., Amarenco P., Haas S., et. al. XANTUS: rationale and design of a noninterventional study of rivaroxaban for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation // Vasc Health Risk Manag. 2014. Vol. 10: P.425–434. doi: 10.2147/VHRM.S63298
- Lip G., Windecker S., Huber K., et al. Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing percutaneous coronary or valve interventions // Eur J of Cardiol. 2014. Vol. 35, No. 45. Р. 3155–3179. doi: 10.1093/eurheartj/ehu298
- Hindricks G., Potpara T., Dagres N., et al. ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC // Eur Heart J. 2021. Vol. 42, No. 5. P. 373–498. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612
- Connolly S.J., Ezekowitz M.D., Yusuf S., et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation // N Engl J Med. 2009. Vol. 361, No. 12. P. 1139–1151. doi: 10.1056/NEJMoa0905561
- Granger C.B., Alexander J.H., McMurray J.J., et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation // N Engl J Med. 2011. Vol. 365. P. 981–992. doi: 10.1056/NEJMoa1107039
- Giugliano R.P., Ruff C.T., Braunwald E., et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation // N Engl J Med. 2013. Vol. 369. P. 2093–2104. doi: 10.1056/NEJMoa1310907
- Karcioglu O., Zengin S., Ozkaya B., et al. Direct (New) Oral Anticoagulants (DOACs): Drawbacks, Bleeding and Reversal // Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2022. Vol. 20, No. 2. P. 103-113. doi: 10.2174/1871525719666210914110750. PMID: 34521332
- Pare G., Eriksson N. Genetic determinants of dabigatran plasma levels and their relation to bleeding // Circulation. 2013. Vol. 127. P. 1404–1412
- Blech S., Ebner T., Ludwig-Schwellinger E., et al. The metabolism and disposition of the oral direct thrombin inhibitor, dabigatran, in humans // Drug Metab Dispos. 2008. Vol. 36. P. 386–399. doi: 10.1124/dmd.107.019083
- Laizure S.C., Parker R.B., Herring V.L., et al. Identification of carboxylesterase-dependent dabigatran etexilate hydrolysis // Drug Metab Dispos. 2014. Vol. 42, No. 2. P. 201–206. doi: 10.1124/dmd.113.054353. Epub 2013 Nov 8. PMID: 24212379
- Bernier M., Lancrerot S.L., Parassol N., et al. Therapeutic Drug Monitoring of Direct Oral Anticoagulants May Increase Their Benefit-Risk Ratio // J Cardiovasc Pharmacol. 2020. Vol. 76, No. 4. P. 472–477. doi: 10.1097/FJC.0000000000000870
- Kreutz R. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of rivaroxaban--an oral, direct factor Xa inhibitor // Curr Clin Pharmacol. 2014. Vol. 9, No. 1. P. 75–83. doi: 10.2174/1574884708666131111204658
- Frost C., Garonzik S., Shenker A., et al. Apixaban Single-Dose Pharmacokinetics, Bioavailability, Renal Clearance, and Pharmacodynamics Following Intravenous and Oral Administration // Clin Pharmacol Drug Dev. 2021. Vol. 10, No. 9. P. 974–984. doi: 10.1002/cpdd.990
- Hanigan S., Das J., Pogue K., et al. The real world use of combined P-glycoprotein and moderate CYP3A4 inhibitors with rivaroxaban or apixaban increases bleeding // J Thromb Thrombolysis. 2020. Vol. 49, No. 4. P. 636–643. doi: 10.1007/s11239-020-02037-3
- Steffel J., Collins R., AntzM. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation // Europace. 2021. P. 1–65. doi: 10.1093/europace/euab065
- Ионин В.А., Близнюк О.И., Баранова Е.И. и др. Антикоагулянтная терапия у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий в реальной клинической практике: необоснованное применение сниженных доз // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021. Т. 2. № 17. P. 206–211. doi: 10.20996/1819-6446-2021-03-04
- Ruff C.T., Giugliano R.P., Braunwald E., et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials // Lancet. 2014. Vol. 383, No. 15. P. 955–96. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62343-62350
- Beyer-Westendorf J., Förster K., Pannach S., et al. Rates, management, and outcome of rivaroxaban bleeding in daily care: results from the Dresden NOAC registry // Blood. 2014. Vol. 124, No. 6. P. 955-62. doi: 10.1182/blood-2014-03-563577.124:955-962
- Testa S., Ageno W., Antonucci E., et al. Management of major bleeding and outcomes in patients treated with direct oral anticoagulants: results from the START-Event registry // InternEmergMed. 2018. Vol. 13, No. 7. P.1051-1058. doi: 10.1007/s11739-018-1877-z
- Cangemi D.J., Krill T., Weideman R., ed al. A Comparison of the Rate of Gastrointestinal Bleeding in Patients Taking Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants or Warfarin // Am J Gastroenterol. 2017. Vol. 112, No. 5. P. 734-739. doi: 10.1038/ajg.2017.39
- Kakkar A.K., Mueller I., Bassand J.P., et al. «International longitudinal registry of patients with atrial fibrillation at risk of stroke: Global Anticoagulant Registry in the FIELD (GARFIELD) // AHJ. 2012. Vol. 163, No. 1. P. 13–19. doi: 10.1016/j.ahj.2011.09.011
- Becattini C., Franco L., Beyer-Westendorf J., et al. Major bleeding with vitamin K antagonists or direct oral anticoagulants in real-life // Int J Cardiol. 2017. Vol. 227. P. 261–6. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.11.117
- Yuhara H., Corley D.A., Nakahara F., et al. Aspirin and non-aspirin NSAIDs increase risk of colonic diverticular bleeding: a systematic review and meta-analysis // J Gastroenterol. 2014. Vol. 49. P. 992–1000. doi: 10.1007/s00535-013-0905-z
- Кропачева Е.С., Хакимова М.Б., Кривошеева Е.Н. и др. Тяжелые желудочно-кишечные кровотечения у больных с фибрилляцией предсердий, получающих пероральные антикоагулянты (по данным двадцатилетнего наблюдения в рамках РЕГистра длительной Антитромботической ТерАпии – РЕГАТА) // Терапевтический архив. 2021. Т. 93, № 9. C. 1037–1043. doi: 10.26442/00403660.2021.09.201019
- Mihalkanin L., Stancak B. The Impact of Novel Anticoagulants on the Upper Gastrointestinal Tract Mucosa // Medicina (Kaunas). 2020. Vol. 56, No. 7. P. 363. doi: 10.3390/medicina56070363.
- Camm A.J., Pinto F.J., Hankey G.J., et al. Writing Committee of the Action for Stroke Prevention alliance. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and atrial fibrillation guidelines in practice: barriers to and strategies for optimal implementation // Europace. 2015. Vol. 17, No. 7. P. 1007–1017. doi: 10.1093/europace/euv068
- Miller C.S., Dorreen A., Martel M., et al. Risk of Gastrointestinal Bleeding in Patients Taking Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants: A Systematic Review and Meta-analysis // Clin Gastroenterol Hepatol. 2017. Vol. 15, No. 11. P. 1674–1683.e3. doi: 10.1016/j.cgh.2017.04.031
- Kirchhof P., Radaideh G., Kim Y.H., et al. Global XANTUS program Investigators. Global Prospective Safety Analysis of Rivaroxaban // J Am Coll Cardiol. 2018. Vol. 72, No. 2. Р. 141–153. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.058
- Lauffenburger J.C., Farley J.F., Gehi A.K., et al. Factors driving anticoagulant selection in patients with atrial fibrillation in the United States // Am J Cardiol. 2015. Vol. 115, No. 8. P.1095–1101. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.01.539
- Голицын С.П., Панченко Е.П., Кропачева Е.С. Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий. 2020. 95 c.
- O’Brien E.C., Holmes D.N., Thomas L., et al. Prognostic Significance of Nuisance Bleeding in Anticoagulated Patients With Atrial Fibrillation // Circulation. 2018. Vol. 138, No. 9. P. 889–897.
- Kirchhof P., Camm A.J., Goette A., et al. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation // N Engl J Med. 2020. Vol. 383, No. 14. P. 1305–1316. doi: 10.1056/NEJMoa2019422
- Lavalle C., Di Lullo L., Bellasi A., et al. Adverse Drug Reactions during Real-Life Use of Direct Oral Anticoagulants in Italy: An Update Based on Data from the Italian National Pharmacovigilance Network // Cardiorenal Med. 2020. Vol. 10, No. 4. P. 266–276. doi: 10.1159/000507046
- Ingason A.B., Hreinsson J.P., Agustsson A.S., et al. Warfarin is associated with higher rates of upper but not lower gastrointestinal bleeding compared to direct oral anticoagulants: a population-based propensity-weighted cohort study // Clin. Gastroenterology Hepatol. 2023. Vol. 21. No. 2. P. 347–357. doi: 10.1016/j.cgh.2022.06.033
- Bansilal S., Bloomgarden Z., Halperin J.L., et al. ROCKET AF Steering Committee and Investigators. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular atrial fibrillation: the Rivaroxaban Once-daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation (ROCKET AF Trial // Am Heart J. 2015. Vol. 170, No. 4. P. 675–682.e8. doi: 10.1016/j.ahj.2015.07.006
- Eikelboom J.W., Wallentin L., Connolly S.J., et al. Risk of bleeding with 2 doses of dabigatran compared with warfarin in older and younger patients with atrial fibrillation: an analysis of the randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy (RE-LY) trial // Circulation. 2011. Vol. 123, No. 21. P. 2363–2372. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.004747
- Арутюнов Г.П., Фомин И.В., Тарловская Е.И. и др. Алгоритм оценки и модификации факторов риска небольших кровотечений у пациентов с фибрилляцией предсердий, получающих терапию ПОАК. Резолюция Евразийской ассоциации терапевтов. 2020. 30 с.
- Bosch J., Eikelboom J.W., Connolly S.J., et al. Rationale, Design and Baseline Characteristics of Participants in the Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies (COMPASS) Trial // Can J Cardiol. 2017. Vol. 33, No. 8. P. 1027–1035. doi: 10.1016/j.cjca.2017.06.001
- Gralnek I.M., Stanley A.J., Morris A.J., et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2021 // Endoscopy. 2021. Vol. 53, No. 3. P. 300–332. doi: 10.1055/a-1369-5274
- Ishiyama H., Yamasaki K., Kanbe T. Effect of proamipide (OPC-12759) on gastric mucus secretion in rats // Jpn Pharmacol Ther. 1988. Vol. 16. P. 4103–109.
- Yoshikawa T., Naito Y., Nakamura S., et al. Effect of rebamipide on lipid peroxidation and gastric mucosal injury induced by indometacin in rats // Arzneimittelforschung. 1993. Vol. 43, No. 12. P. 1327–1330.
- Suzuki M., Miura S., Mori M., et al. Rebamipide, a novel antiulcer agent, attenuates Helicobacter pylori induced gastric mucosal cell injury associated with neutrophil derived oxidants // Gut. 1994. Vol. 35, No. 10. P. 1375–1378. doi: 10.1136/gut.35.10.1375
- Aihara M., Azuma A., Takizawa H., et al. Molecular analysis of suppression of interleukin-8 production by rebamipide in Helicobacter pylori-stimulated gastric cancer cell lines. 1998. Vol. 43, No. 9. P. 174S–180S.
Дополнительные файлы