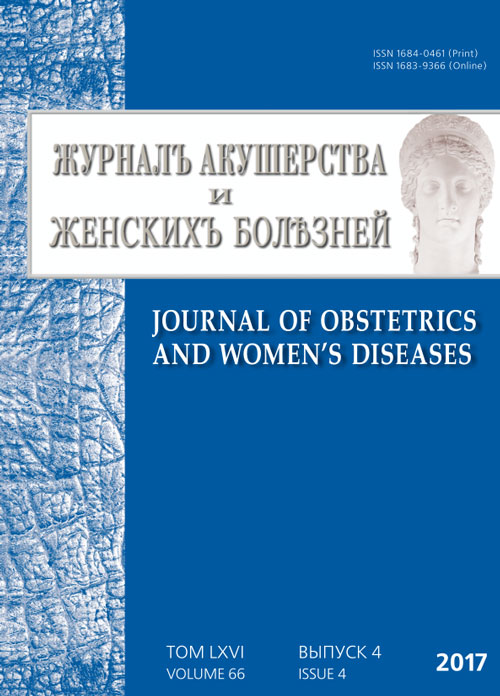Содержание прогестерона в крови беременных в I и во II триместрах гестации при неблагоприятном завершении беременности
- Авторы: Воскресенский С.Л.1, Тришина В.Л.1
-
Учреждения:
- Белорусская медицинская академия последипломного образования
- Выпуск: Том 66, № 4 (2017)
- Страницы: 32-39
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 15.07.2017
- Статья опубликована: 15.07.2017
- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/6916
- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD66432-39
- ID: 6916
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Актуальность. Прогестерон — это единственный гормон в организме, основная функция которого состоит в развитии и поддержании беременности, другие же его свойства дублируются другими гормонами. Дефицит гормона — это часть общего механизма самопроизвольного аборта, а не его причина [1]. Цель исследования заключалась в установлении связи между содержанием уровня прогестерона и его метаболитов в крови беременных женщин и нарушениями развития беременности для определения возможности лабораторного подтверждения патологии.
Материалы и методы. В исследование включена 31 пациентка с патологическим течением беременности, госпитализированная в стационар, в I и во II триместрах гестации и 34 женщины с физиологической беременностью в I триместре гестации. Из исследования исключены беременные с бесплодием в анамнезе, тяжелой соматической патологией, острыми инфекционными заболеваниями, онкологическими процессами, с выявленными эндокринными нарушениями, с пороками развития половых органов, эндометриозом, беременные, принимавшие гестагены или иные гормональные лекарственные средства до включения в исследование. У каждой пациентки, госпитализированной в стационар, и у женщин с физиологическим течением беременности кроме общеклинического обследования выполнялось исследование сыворотки крови на гормоны (прогестерон, кортизол, ДГЭА-С, 17-ОН, эстрадиол), а также осуществлялся ультразвуковой контроль (аппарат VOLUSON 730 фирмы GENERAL ELECTRIC 2007 г. выпуска) с использованием трансвагинального (4–8 мГц) и трансабдоминального (2–5 МГц) датчиков. Прогестерон, кортизол, эстрадиол определяли методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с использованием реактивов фирмы bioMerieux (Франция) на аппарате VIDAS производителя bioMerieux (Франция, 2012). Анализ основан на комбинации друхэтапной иммуноферментной реакции (сэндвич-метод) и флуоресцентного определения продуктов реакции. Исследование ДГЭА-С и 17-ОН проводилось методом ИФА на автоматической роботизированной станции для лабораторной диагностики Freedom EVO75 производства Швейцария (2008) с использованием реактивов АНАЛИЗ МЕД (Беларусь). Статистическая обработка результатов исследования выполнялась с использованием прикладных статистических пакетов Statistica 6.0.
Результаты. Установлено, что при прекращении развития беременности как в I, так и во II триместре статистически достоверно снижался уровень прогестерона и эстрадиола. Содержание ДГЭА-С и 17-ОН-прогестерона изменялось в зависимости от срока гестации. Концентрация кортизола также уменьшалась, но статистически недостоверно. Также установлено, что после гибели эмбриона и самопроизвольного выкидыша в полости матки остаются функционирующие фрагменты плодного яйца.
Заключение. Приоритет гормонов в обеспечении развития беременности в I и во II триместре отличается. Если в I триместре наиболее зависимы от срока гестации прогестерон, эстрадиол, ДГЭА-С, то во II триместре — прогестерон, эстрадиол, 17-ОН-прогестерон. Кортизол во время беременности преимущественно синтезируется за пределами плодоамниотического комплекса, что объясняет отсутствие его статистически значимых изменений при неблагоприятном завершении беременности как в I, так и во II триместре гестации.
Полный текст
Введение
В настоящее время активно исследуется роль гормонов в поддержании репродуктивного процесса. Особое значение в нынешней концепции сохранности беременности отводится прогестерону как «защитнику» беременности, что и заложено в его названии [1].
Образуясь из холестерола, липопротеинов низкой плотности через промежуточный продукт прегнандиол, прогестерон превращается в многочисленные значимые для всего организма молекулы, в частности глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, андрогены. При этом каждый из указанных метаболитов прогестерона, как правило, рассматривается как важный элемент развития беременности [2, 3]. Отсюда следует, что недостаток прогестерона в организме должен повлечь и недостаток всех его производных, что может быть использовано для диагностики угрозы прерывания беременности или коррекции терапии при угрозе ее прерывания [4]. Но так как прогестерон является промежуточным звеном в сложной цепи метаболических превращений холестерина, взаимосвязь его уровня с уровнем его метаболитов в крови женщин неоднозначна [5].
В связи с этим нами выполнено исследование, направленное на установление взаимо связи содержания прогестерона и его ключевых метаболитов при нормальном течении гестации, а также при ее неблагоприятном развитии: естественном или искусственном прерывании. Сравнение крайне выраженных по степени тяжести состояний устраняет влияние второстепенных факторов и упрощает анализ значимости основных факторов на исследуемый процесс.
Цель исследования — установить связь содержания прогестерона и его метаболитов в крови беременных женщин с прерыванием беременности в I и во II триместрах гестации путем сравнения результатов гормональных исследований в норме и при аборте.
Материалы методы исследования
Для достижения поставленной цели обследовали три группы женщин. Первая группа, контрольная, была представлена пациентками с нормальным течением беременности в I триместре гестации и неосложненным акушерско-гинекологическим анамнезом (34 женщины). Во вторую группу вошли беременные, у которых беременность прервалась самостоятельно в I триместре (n = 7) или была прервана в связи с гибелью плода (n = 18). Третью группу составили пациентки (n = 6), у которых аборт был произведен во II триместре в связи с выявленными пороками развития плода. То есть в основную группу включены беременные женщины с нарушенным течением гестации в I и во II триместрах.
Третья группа представляет особый интерес с той точки зрения, что в акушерско-гинекологическом плане они были «здоровые», включая их гормональный фон. И у них прерывание беременности произошло не из-за конфликта мать – плод – внешняя среда, а по другим причинам. Поэтому с определенными уточнениями они могут рассматриваться как модель нормы течения беременности и угрозы ее прерывания.
Пациентки контрольной и основной групп были сопоставимы между собой по возрасту и сроку гестации. Медиана возраста в основной группе — 27,0 (24,0; 30,0) года, в контрольной — 27,0 (25,0; 30,0) года. У доминирующего большинства пациенток основной 22 (71 %) и контрольной 32 (94 %) групп менархе наступило в возрасте от 11 до 15 лет. Позднее менархе (в возрасте старше 15 лет) отмечено у 8 (25,8 %) пациенток в основной группе и у 1 (3 %) пациентки в контрольной группе.
Менструальный цикл в сравниваемых группах обследованных был регулярным с продолжительностью 24–35 дней у 89,9 % пациенток основной группы и у 96,7 % беременных контрольной группы. Общие репродуктивные потери (неразвивающаяся беременность и/или самопроизвольный выкидыш) в анамнезе встречались у 37,3 % беременных с неблагоприятным исходом беременности и у 13,3 % женщин с физиологическим течением гестационного периода.
У каждой пациентки, госпитализированной в стационар, и у женщин с физиологическим течением беременности кроме общеклинического обследования выполнялось исследование сыворотки крови на гормоны (прогестерон, кортизол, ДГЭА-С, 17-ОН прогестерон, эстрадиол), а также осуществлялся ультразвуковой контроль, в ходе которого уточнялось наличие беременности, определялись сердцебиение эмбриона – плода, соответствие его развития гестационному сроку, пороки развития, иные особенности течения беременности.
Прогестерон, кортизол, эстрадиол определяли методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с использованием реактивов фирмы bioMerieux (Франция) на аппарате VIDAS (2012) производителя bioMerieux (Франция). Исследование ДГЭА-С- и 17-ОН-прогестерона выполнялось методом ИФА на автоматической роботизированной станции для лабораторной диагностики Freedom EVO75 производства Швейцарии (2008) с использованием реактивов АНАЛИЗ МЕД (Беларусь).
В группе, в которой произошел самопроизвольный выкидыш или было искусственное прерывание беременности, второе исследование осуществляли на следующие сутки после опорожнения полости матки с помощью кюретки.
Анализ количественных признаков в группах начинали с определения нормальности распределения вариант в выборках с помощью критерия Шапиро – Уилка. Описание количественных признаков в выборках с распределением, отличным от нормального, представлялось в виде медианы (Ме) и границ интерквантильного отрезка с применением процентилей (перцентилей) (Q25 %, Q75 %). Описание качественных номинальных признаков давалось в виде абсолютных и относительных частот в процентах. Для проверки гипотезы о различиях количественных признаков в независимых группах в случае отсутствия согласия данных с нормальным распределением применялись методы непараметрической статистики с использованием критерия Манна – Уитни (U). Сравнение двух зависимых групп по количественным признакам проводилось с использованием критерия Вилкоксона для парных сравнений.
Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень значимости (p), при этом критический уровень значимости при проверке нулевых гипотез принимался равным 0,05.
Представленные рисунки распределения гормонов в зависимости от срока беременности не являются графиками, отображающими табличные данные. Это схемы, в которых отражены только статистически значимые изменения. Если их не было, то на рисунке показана линия, параллельная оси абсцисс, соответствующая полученным усредненным значениям. Если доказаны различия, то они отражены наклонной линией. Имеющие существенное значение количественные показатели приведены в тексте.
Результаты исследования
У женщин с физиологическим течением беременности концентрация прогестерона в сыворотке крови с увеличением срока гестации в I триместре беременности возрастала с 31,1 (22,8; 33,3) до 51,8 нг/мл (49,7; 58,9) (р < 0,05).
Концентрация прогестерона у пациенток с неразвивающейся беременностью и произошедшим в стационаре самопроизвольным выкидышем в сроках беременности от 5 до 10 недель гестации как до кюретажа матки (7,5–9,9 нг/мл), так и после (2,2–2,9 нг/мл) была статистически значимо меньше, чем концентрация гормона при физиологической беременности (р < 0,05). При этом после кюретажа матки содержание прогестерона было существенно ниже, чем до кюретажа (р < 0,05). Схема распределения концентраций прогестерона в сыворотке крови при неразвивающейся беременности, самопроизвольном выкидыше и физиологической беременности представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Схема распределения концентрации прогестерона (нг/мл) в сыворотке крови при неразвивающейся беременности, самопроизвольном выкидыше и у беременных с физиологическим течением гестационного периода
Концентрация ДГЭА-С при физиологическом течении беременности в I триместре в численных значениях достоверно уменьшалась с 3,5 (2,9; 3,8) до 2,3 (1,9; 2,8) мкг/мл.
Согласно полученным данным в сроке беременности 5–6 и 7–8 недель при неразвивающейся беременности и самопроизвольном выкидыше уровень ДГЭА-С был статистически значимо меньше, чем в группе контроля (р < 0,05). После выскабливания стенок полости матки вследствие неблагоприятного развития гестации произошло статистически значимое снижение уровня ДГЭА-С во всех сроках беременности (р < 0,05).
Общая направленность изменений уровня ДГЭА-С в группе II до и после выскабливания, а также в контрольной группе отображена на рисунке 2.
Различия концентрации 17-ОН-прогестерона в динамике физиологического течения I триместра беременности были статистически незначимы и находились в пределах 3,3 (2,2; 4,2) и 2,6 (2,3; 3,6) (рис. 2).
Рис. 2. Схема распределения концентрации ДГЭА-С (мкг/мл) и 17-ОН-прогестерона (нг/мл) в сыворотке крови у пациенток с неразвивающейся беременностью и самопроизвольным выкидышем и у беременных с физиологическим течением гестационного периода
В численном выражении уровни 17-ОН-про гестерона до и после выскабливания стенок полости матки уменьшились, но эти изменения статистически подтверждены не были (р > 0,05).
Концентрация кортизола у женщин с физиологическим течением беременности в I триместре с увеличением срока гестации возрастала со 154,6 (132; 193) до 223,3 (196; 233) нг/мл (р < 0,05). При прекращении ее развития содержание этого гормона существенно не менялось, оставаясь на уровне, соответствующем первым неделям гестации. Определение концентрации кортизола у беременных I группы в динамике до и после выскабливания стенок матки в связи с нарушенным развитием беременности показало, что его изменения во всех сроках гестации уменьшились, но статистически это было незначимо.
Содержание эстрадиола при физиологической беременности с увеличением срока гестации возрастало с 1,2 (1,10; 1,36) нг/мл и к 13–14 неделям гестации, концентрация этого гормона достигала 3,2 (3,01; 3,75) нг/мл, что в 2,5–3 раза (рис. 3) превышало его значения у беременных в сроке гестации 5–6 недель.
Рис. 3. Схема распределения концентрации кортизола и эстрадиола (нг/мл) в сыворотке крови у пациенток с неразвивающейся беременностью и самопроизвольным выкидышем и у беременных с физиологическим течением гестационного периода
У пациенток с неразвивающейся беременностью и самопроизвольным выкидышем (II группа) концентрация эстрадиола была достоверно ниже по отношению к контролю и колебалась в границах 0,32–0,37 нг/мл. Также было выявлено существенное (р < 0,05) снижение (до 0,06–0,07 нг/мл) его содержания после кюретажа слизистой полости матки.
Изменение численных значений концентрации исследованных гормонов при гибели эмбриона или при самопроизвольном аборте в I триместре указывает на то, что прекращение развития беременности сопровождается существенным (р < 0,05) снижением уровня прогестерона, ДГЭА-С, эстрадиола и уменьшением концентрации 17-ОН-прогестерона, кортизола, хотя статистически незначимым. При этом естественное изгнание продуктов зачатия из организма женщины не означает прекращения функционирования остатков трофобласта в матке и его влияния на гормональный фон женщины вплоть до их механического уда ления.
Проверку гипотезы о роли прогестерона и его метаболитов в сохранении беременности перепроверили во II триместре гестации на материале пациенток, у которых беременность была прервана искусственно в связи с пороками развития плода (III группа).
Согласно полученным данным после аборта во II триместре гестации существенно (р < 0,05) изменились уровни прогестерона, эстрадиола. Это совпадает с результатами исследования при прерывании беременности в I триместре. При этом также отмечено, что во II триместре гестации при ее прерывании, кроме указанных гормонов, имело место статистически значимое снижение концентрации 17-ОН-прогестерона, уровень которого в I триместре статистически значимо не реагировал на аборт.
Учитывая различия в гормональном статусе женщин после прерывания беременности в I и во II триместрах беременности, можно предположить, что регуляция сохранения беременности в организме женщины меняется с увеличением срока гестации (рис. 4).
Рис. 4. Схема распределения концентрации прогестерона, эстрадиола и 17-ОН-прогестерона в группе женщин, у которых беременность была прервана во II триместре (до и после выскабливания стенок полости матки)
После искусственного прерывания беременности во II триместре гестации, не связанного с угрозой ее прерывания, уровни ДГЭА-С и кортизола существенно (р > 0,05) не изменились (рис. 5).
Рис. 5. Схема распределения концентрации ДГЭА-С и кортизола в группе женщин, у которых беременность была прервана во II триместре (до и после выскабливания стенок полости матки)
Выводы
При фатальном нарушении развития беременности (замершая беременность, самопроизвольный выкидыш, прерывание беременности по медицинским показаниям) уровень прогестерона и эстрадиола в организме беременной женщины достоверно снижался по отношению к показателям в норме. Поэтому уменьшение их концентраций в крови женщины может позиционироваться как лабораторные, то есть объективные, критерии угрозы прерывания беременности в I и во II триместрах гестации.
Гормональный фон обеспечения развития беременности в I и во II триместрах отличается. Если в I триместре наиболее зависимы от срока гестации были прогестерон, эстрадиол, ДГЭА-С, то во II триместре — прогестерон, эстрадиол, 17-ОН-прогестерон.
После самопроизвольного выкидыша и гибели эмбриона в I триместре гестации в матке остаются функционирующие остатки плодного яйца, продуцирующие, в частности, прогестерон, эстрадиол, ДГЭА-С. Гибель эмбриона, сопровождавшаяся в том числе естественным изгнанием продуктов зачатия из матки, не означает их полноценную элиминацию из организма женщины, а также прекращение функционирования оставшихся элементов. Оно наступает только после механического опорожнения (кюретажа) полости матки.
Кортизол в крови беременной женщины, в отличие от других исследованных гормонов, во время беременности преимущественно синтезируется за пределами плодоамниотического комплекса, что объясняет отсутствие его статистически значимых изменений при неблагоприятном завершении беременности как в I, так и во II триместре гестации.
Об авторах
Сергей Львович Воскресенский
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Автор, ответственный за переписку.
Email: slv5451@yandex.ru
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
Белоруссия, 220013, г. Минск, ул. П.Бровки, д.3, корп.3Виктория Леонидовна Тришина
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Email: viktoria403@bk.ru
ведущий лаборант кафедры акушерства и гинекологии
Белоруссия, 220013, г. Минск, ул. П.Бровки, д.3, корп.3Список литературы
- Репина М.А., Бобров С.А. Значение прогестагенов для акушерской практики // Журнал акушерства и женских болезней. – 2013. – Т. 62. – № 3. – С. 65–69. [Repina MA, Bobrov SA. The role of progestogens in obstetrics practice. Journal of Obstetrics and Women’s Diseases.2013;62(3):65-69. (In Russ.)]
- Кулавский В.А., Кулавский Е.В., Сыртланов И.Р., Никифорова М.В. Репродуктивное здоровье женщин, перенесших неразвивающуюся беременность // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2009. – № 7. – С. 64–69. [Kulavskij VA, Kulavskii EV, Syrtlanov IR, Nikiforova MV. Reproduktivnoe zdorov’e zhenshchin, perenesshikh nerazvivayushchuyusya beremennost. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. 2009;(7):64-69. (In Russ.)]
- Салов И.А., Аржаева И.А. Особенности метаболизма стероидных гормонов и изменение гормонального статуса плода при преждевременном излитии околоплодных вод // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. [Salov IA, Arzhaeva IA. Circumstances of metabolism rate of steroid hormones and changing hormonal status of a fetus at premature moving of amniotic waters. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014;(4). Доступно по: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14309. Ссылка активна на 01.03.2017. (In Russ.)]
- Репина М.А. Прогестерон и беременность // Журнал акушерства и женских болезней. – 2010. – Т. 60. – № 3. – С. 130–135. [Repina MA. Progesteron i beremennost’. Journal of Obstetrics and Women’s Diseases. 2010;60(3):130-135. (In Russ.)]
- Рец Ю.В. Структурно-гормональные проявления хронической плацентарной недостаточности // Акушерство и гинекология. – 2008. – № 5. – C. 28–31. [Rec JuV. Structural and hormonal manifestations of chronic placental insufficiency. Obstetrics and Gynecology. 2008;(5):28-31. (In Russ.)]
Дополнительные файлы