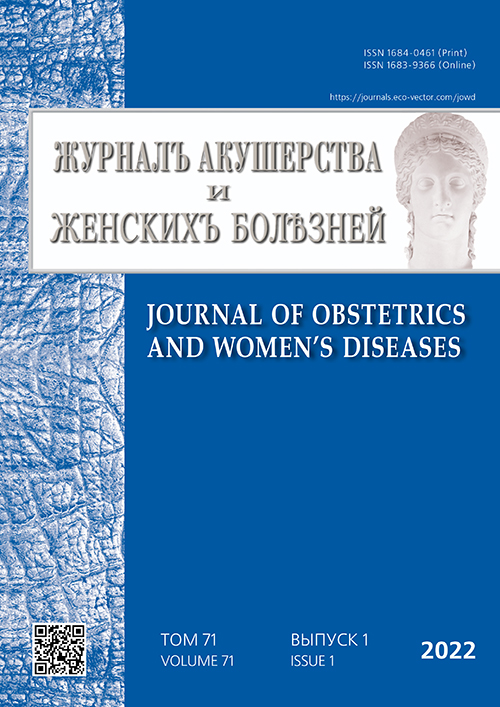Сравнительная эффективность лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с различными формами эндометриоза и его сочетанием с синдромом поликистозных яичников
- Авторы: Маколкин А.А.1, Калугина А.С.2
-
Учреждения:
- ООО «Дельта фертилити клиник»
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
- Выпуск: Том 71, № 1 (2022)
- Страницы: 35-46
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 27.06.2021
- Статья одобрена: 12.11.2021
- Статья опубликована: 15.01.2022
- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/72255
- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD72255
- ID: 72255
Цитировать
Аннотация
Цель — исследовать влияние различных форм эндометриоза и его сочетания с синдромом поликистозных яичников на исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий в зависимости от овариальной стимуляции.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное обследование, проанализированы исходы 241 цикла вспомогательных репродуктивных технологий. Все пациентки были разделены на три сопоставимые группы: группа А — пациентки с эндометриозом (85 циклов), группа Б — пациентки с сочетанием эндометриоза и синдрома поликистозных яичников (53 цикла), группа сравнения — пациентки с трубно-перитонеальным бесплодием (103 цикла). Дополнительно выделены: подгруппа А1 с I/II стадией эндометриоза (по ASRM) — 50 случаев (58,82 %) и подгруппа А2 с III/IV стадией эндометриоза — 35 случаев (41,18 %). На первом этапе оценивали анамнез, результаты клинико-лабораторных исследований. На втором этапе выполняли оперативное лечение в объеме лапарогистероскопии, определяли стадию эндометриоза, наличие сопутствующей патологии. На третьем этапе осуществляли терапию бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.
Результаты. Доза препаратов фолликулостимулирующего гормона была максимальной у пациенток группы А2 при проведении овариальной стимуляции с применением агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (2230,80 ± 614,09 МЕ) и минимальной в группе пациенток А1 при стимуляции с применением антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (1171,43 ± 547,42 МЕ). Частота наступления беременности в расчете на перенос эмбрионов в группе А1, в которой стимуляцию проводили с применением агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона, была максимальной и составила 50 %, что было выше, чем в группе сравнения, — 42,72 %. Минимальная частота наступления беременности наблюдалась в группе А2 при стимуляции с использованием антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона. Самая высокая частота родов отмечена при стимуляции с применением агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона в группе А1 (40,48 %), напротив, при стимуляции с использованием антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона в группах А1 и А2 все беременности прервались.
Заключение. В нашем исследовании мы получили подтверждение, что распространенные формы эндометриоза сопряжены с уменьшением эффективности лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий, при этом минимальные формы эндометриоза не влияют на исходы циклов вспомогательных репродуктивных технологий. Выявлена тенденция отрицательного воздействия стимуляции овуляции с использованием антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона на исходы экстракорпорального оплодотворения, в том числе у пациенток с сочетанием эндометриоза и синдрома поликистозных яичников. Однако в связи с небольшой выборкой необходимо продолжать исследования в указанном направлении.
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Эндометриоз — одно из наиболее распространенных заболеваний, ассоциированных с бесплодием. Его выявляют у 10–15 % женщин репродуктивного возраста [1], и до 53,06 % женщин с бесплодием страдают эндометриозом [2].
Одним из способов лечения таких пациенток являются методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). По данным Американского общества вспомогательных репродуктивных технологий (Society for Assisted Reproductive Technology — SART), количество обращений пациенток с эндометриозом неуклонно растет год от года [3]. Так, по данным регистра, в 2014 г. на территории США было проведено 189 347 циклов ВРТ, из них 5271 — с участием пациенток с эндометриозом; в 2015 г. — 214 835 и 5477 соответственно. Подобная тенденция сохранилась и в последующие годы: в 2018 г. из 275 786 всех циклов ВРТ зарегистрировано 6636 случая с эндометриозом.
Показаниями для применения ВРТ у пациенток с бесплодием, ассоциированным с эндометриозом, Европейское общество репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) считает нарушение вследствие развития эндометриоза анатомии малого таза и/или функции маточных труб. Причем основной целью хирургического вмешательства в таких ситуациях должно быть не только воздействие (абляция, эксцизия) на эндометриоидные поражения, но и восстановление нормальных как анатомо-физиологических взаимоотношений органов малого таза, так и функций органов малого таза [4].
Мнения специалистов о влиянии эндометриоза на исходы циклов ВРТ разнятся. В последние годы все больше исследователей заявляют о зависимости наступления беременности и ее исходов от степени выраженности эндометриоза. J. Horton и соавт. в своем метаанализе подтвердили, что эндометриоз приводит к снижению количества полученных при пункции фолликулов ооцитов и частоты оплодотворения. Более легкие формы эндометриоза чаще всего влияют на оплодотворение (ОШ 0,77, ДИ 0,63–0,93) и более ранние процессы имплантации (ОШ 0,76, ДИ 0,62–0,93), снижая эти показатели. По ASRM, III и IV стадии эндометриоза отрицательно сказываются на всех этапах оплодотворения, культивирования и имплантации [5].
Причины же влияния эндометриоза на фертильность широко обсуждаются и изучаются, но пока недостаточно ясны. Возможно, эндометриоз негативно воздействует на фолликулогенез через изменения оксидативного стресса у этой категории пациенток. Кроме того, причиной могут быть иммунные нарушения, изменения микроокружения фолликула, перитонеальной среды, снижение эндометриальной рецептивности.
Выявлена прямая корреляционная связь между степенью выраженности эндометриоза и частотой встречаемости сочетания различной гинекологической патологии. Так, ассоциации гинекологических заболеваний в 4 раза выше у пациенток с бесплодием, обусловленным эндометриозом III–IV стадий [по ASRM (AFS)] [6], в сравнении с группой пациенток с эндометриозом I–II стадий [7].
Широко распространено суждение о невозможности сочетания эндометриоза и синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) у одной пациентки. В последнее время появилась гипотеза о том, что эндометриоз и СПКЯ представляют собой диаметрально противоположные результаты вариаций в развитии и активности оси гипоталамус – гипофиз – гонады [8]. Тем не менее, несмотря на продолжающиеся дискуссии, в литературе встречаются подтверждения возможности сочетания наружного генитального эндометриоза и СПКЯ у одной пациентки. Частота бессимптомного эндометриоза, который обнаруживают у пациенток с СПКЯ при лапароскопическом дриллинге яичников, колеблется в пределах 7,7–16,9 % [9]. При этом превалирует количество «малых» форм эндометриоза (I и II стадии по классификации rASRM). K. Holoch и соавт. опубликовали данные, исходя из которых у 71,5 % женщин с СПКЯ, перенесших лапароскопию, обнаружен эндометриоз. У 40 % выявлена I стадия (по rASRM), у 41 % — II стадия, у 12 % — III стадия и только 7 % пациенток — IV стадия [10]. Однако другие авторы считают такую частоту встречаемости значительно завышенной и связывают это прежде всего с включением в исследование пациенток с клиническими проявлениями эндометриоза, которым изначально необходимо проведение лапароскопии для его терапии.
Правильному прогнозу эффективности дальнейшего лечения способствует морфологическое подтверждение диагноза, которое возможно только при гистологическом исследовании операционного материала [11–16].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное обследование, проанализированы исходы 241 цикла ВРТ у пациенток, проходивших лечение в клинике АВА-ПЕТЕР (Санкт-Петербург) с 2013 по 2017 г. Пациенты были обследованы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 107н от 30.08.2012 «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».
Дизайн включал три этапа.
На первом этапе оценивали данные анамнеза, результаты клинических и лабораторных исследований. На втором этапе выполняли оперативное лечение в объеме лапарогистероскопии, во время которого определяли стадию эндометриоза в соответствии с классификацией ASRM, наличие сопутствующей патологии. Диагноз подтверждали гистологически. Сопутствующий СПКЯ определяли по критериям Роттердамского консенсуса ESHRE-ASRM 2003 г. (два из трех: клинический или биохимический критерий — гиперандрогения, дисфункция овуляции или мультифолликулярные яичники при ультразвуковом исследовании) [17]. На третьем этапе осуществляли терапию бесплодия методами ВРТ с проведением контролируемой овариальной стимуляции, получением и оплодотворением ооцитов, оценкой количества и качества полученных гамeт и эмбрионов, перенос эмбрионов в полость матки и прогнозировали исход лечения.
Было проведено ретроспективное когортное исследование на основании анализа собственных данных (см. рисунок).
Рисунок. Группы пациенток. ВРТ — вспомогательные репродуктивные технологии; Э — эндометриоз; СПКЯ — синдром поликистозных яичников; ТПБ — трубно-перитонеальное бесплодие. А, Б, А1 и А2 — группы и подгруппы исследования
Все пациентки были разделены на три группы: группу А — пациентки с эндометриозом (85 циклов ВРТ), группу Б — пациентки с сочетанием эндометриоза и СПКЯ (53 цикла ВРТ) и группу сравнения — пациентки с трубно-перитонеальным бесплодием (103 цикла ВРТ).
Группа А была разделена в соответствии с классификацией ASRM на подгруппу А1 — пациентки с I или II стадией эндометриоза (50 случаев — 58,82 %) и подгруппу А2 — пациентки с III или IV стадией эндометриоза (35 случаев — 41,18 %).
В указанных подгруппах также диагностировали эндометриомы. При этом с увеличением степени выраженности эндометриоза частота встречаемости эндометриом возрастала (табл. 1).
Таблица 1. Частота выявления эндометриом
Группа | Односторонние эндометриомы, % (n) | Двусторонние эндометриомы, % (n) | Всего, % (n) |
А1 — эндометриоз I–II стадий (n = 50) | 32 % (16) | 4 % (2) | 36 % (18) |
А2 — эндометриоз III–IV стадий (n = 35) | 65,71 % (23) | 5,71 % (2) | 71,42 % (25) |
Следует отметить, что мы руководствовались классификацией ASRM (AFS) как основным международным инструментом для описания эндометриоза, несмотря на ее недостатки, а именно то, что она не учитывает инфильтративный эндометриоз [18]. Оценку в соответствии с классификацией ENZIAN, предложенной J. Keckstein [19], в настоящей работе не проводили.
В группе Б у 48 (90,57 %) пациенток была установлена I или II стадия эндометриоза и только у 5 (9,43 %) — III или IV стадия.
Основные критерии включения в исследование:
- отсутствие в настоящее время и в анамнезе злокачественных заболеваний;
- наличие показаний и отсутствие противопоказаний в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 107н от 30.08.2012;
- возраст 22–40 лет;
- гистологически подтвержденный эндометриоз;
- установленная стадия эндометриоза;
- соответствие пациенток с эндометриозом критериям Роттердамского консенсуса ESHRE-ASRM 2003 г.;
- перенос эмбрионов в полость матки в «свежем» цикле;
- подписанное информированное согласие супругов на лечение и участие в исследовании.
Критерии невключения в исследование:
- наличие противопоказаний к проведению ВРТ в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 107н от 30.08.2012;
- ожирение;
- наличие у партнера тяжелой формы патоспермии (включая азооспермию).
- миома матки;
- ВРТ с донорской яйцеклеткой и/или применение программ суррогатного материнства.
Критерии исключения из исследования:
- осложнение лечения методами ВРТ, отказ от переноса в «свежем» цикле (кровотечение, воспаление, тяжелые формы синдрома гиперстимуляции яичников);
- отказ от продолжения лечения/участия в программе.
Перед включением в исследование все пары проходили стандартное обследование в амбулаторных условиях: применяли обязательные, специальные методы и выполняли обследование по медицинским показаниям.
Для прогнозирования ответа яичников на овариальную стимуляцию в циклах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) исследовали овариальный резерв. Наиболее применимы в клинической практике определение количества антральных фолликулов (КАФ) в яичниках и уровня антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке крови, что связано со значительно большей корреляцией с количеством примордиальных фолликулов по сравнению с другими маркерами [20].
АМГ в основном экспрессируется в гранулезных клетках небольших фолликулов диаметром до 8 мм. Таким образом, уровень АМГ соответствует количеству антральных фолликулов в яичниках. Сообщается о положительной связи уровня АМГ с частотой наступления беременности после ЭКО. Примечательно, что чем выше уровень АМГ, тем больше ооцитов и, как следствие, эмбрионов получается за цикл овариальной стимуляции, что коррелирует с частотой наступления беременности [21, 22].
Определение уровня КАФ, как и АМГ, при оценке овариального резерва служит прямым маркером ответа яичников на стимуляцию [23, 24]. Преимущество КАФ перед АМГ состоит в том, что при ультразвуковом исследовании функционального резерва яичников возможно оценить расположение яичников, наличие кист (в том числе эндометриом) и других поражений (например, наличие гидросальпинксов, миом, полипов полости матки).
Уровень АМГ определяли на 2–3-й день менструального цикла методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Достоверных различий в группах по возрасту, индексу массы тела не было. Отмечался несколько более высокий уровень АМГ в группе с сочетанием эндометриоза и СПКЯ (табл. 2), что, по всей видимости, связано с тем, что СПКЯ характеризуется увеличением числа овариальных фолликулов на всех стадиях развития. Причем более выражено увеличение количества преантральных и ранних антральных фолликулов, которые в первую очередь производят АМГ [25].
Таблица 2. Общая характеристика групп
Параметр | Эндометриоз | Э + СПКЯ (Б) | ТПБ | ||
I–II (А1) | III–IV (А2) | Всего (А) | |||
Количество циклов | 50 | 35 | 85 | 53 | 103 |
Возраст, лет | 33,72 ± 4,49 | 32,29 ± 4,3 | 33,13 ± 4,44 | 31,26 ± 3,24 | 33,89 ± 4,32 |
ИМТ | 22,54 ± 3,5 | 22,24 ± 4,23 | 22,42 ± 3,8 | 23,2 ± 3,91 | 23,14 ± 4,34 |
КАФ | 12,69 ± 4,08 | 7,14 ± 3,56 | 9,92 ± 3,82 | 14,75 ± 5,87 | 13,41 ± 5,23 |
АМГ, пг/мл | 2,16 ± 2,58 | 2,44 ± 2,72 | 2,29 ± 2,62 | 5,60 ± 4,65 | 2,69 ± 2,37 |
Примечание. Э — эндометриоз; СПКЯ — синдром поликистозных яичников; ТПБ — трубно-перитонеальное бесплодие; ИМТ — индекс массы тела; КАФ — количество антральных фолликулов; АМГ — антимюллеров гормон.
КАФ определяли с использованием влагалищного датчика ультразвукового аппарата Flex Focus 400 (BK Medical, Дания) в ранней фолликулярной фазе в соответствии с общепринятой методикой [26]. Обращает на себя внимание снижение КАФ в группе пациенток с эндометриозом (более низкие значения — 7,14 ± 3,56 в подгруппе А2), что соответствует опубликованным данным [27].
Все хирургические операции выполнены лапарогистероскопическим доступом с применением эндоскопического оборудования и инструментов фирм KARL STORZ (Германия), Aesculap (Германия) и ERBE (Германия).
Оперативное лечение пациенток проводили в плановом порядке, одномоментно в два этапа. Во время первого этапа (лапароскопического) оценивали состояние внутренних органов и стадийность эндометриоза, устанавливали клинический диагноз, определяли адекватный объем оперативного лечения (в том числе дриллинг яичников с биопсией). На втором этапе проводили гистероскопию.
Весь материал, удаленный во время операции, подвергали патоморфологическому исследованию для гистологической верификации диагноза.
Хирургических осложнений во время операций и в послеоперационном периоде отмечено не было.
Последующее лечение бесплодия методами ВРТ проводили в соответствии с утвержденными нормами и правилами [28].
Соблюдали общепринятые протоколы с антагонистами (антГнРГ) и агонистами (аГнРГ) гонадотропин-рилизинг-гормона. Пациенток распределяли на группы в соответствии с протоколом стимуляции ретроспективно, в случайном порядке (табл. 3).
Таблица 3. Характеристика групп в соответствии с протоколом овариальной стимуляции
Параметр | Эндометриоз | Э + СПКЯ (Б) | ТПБ | ||
I–II (А1) | III–IV (А2) | Всего (А) | |||
Количество циклов | 50 | 35 | 85 | 53 | 103 |
Протоколы с аГнРГ, % (n) | 84 % (42) | 80 % (28) | 82,35 % (70) | 39,62 % (21) | 72,82 % (75) |
Протоколы с антГнРГ, % (n) | 16 % (8) | 20 % (7) | 17,65 % (15) | 60,38 % (32) | 27,18 % (28) |
Примечание. Э — эндометриоз; СПКЯ — синдром поликистозных яичников; аГнРГ — агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона; антГнРГ — антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона; ТПБ — трубно-перитонеальное бесплодие.
Как видно из табл. 3, в группе пациенток с эндометриозом подавляющее количество циклов проведено по протоколам с аГнРГ — 82,35 %. Высокая частота протоколов с аГнРГ была и в контрольной группе пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием — 72,82 %. В группе Б превалировали схемы стимуляции с использованием антГнРГ — 60,38 %. Протокол выбирали исходя из предполагаемой результативности циклов и вероятности возникновения осложнений.
K. Kolanska и соавт. установили, что использование у пациенток с эндометриозом в протоколах контролируемой овариальной стимуляции препаратов аГнРГ способствует повышению частоты наступления беременности (ЧНБ) в расчете на перенос эмбрионов по сравнению с протоколами с антГнРГ [29]. При сравнимой ЧНБ в случае протоколов с антГнРГ у женщин с СПКЯ значительно снижается риск возникновения синдрома гиперстимуляции яичников (ОР 0,53, 95 % ДИ 0,30–0,95) [30]. В этом же исследовании показано, что в «общей» группе пациенток частота прогрессирующей беременности была ниже после использования протоколов с антГнРГ, чем после длинных протоколов с аГнРГ (ОР 0,89, 95 % ДИ 0,82–0,96, I2 = 0 %), что объясняет выбор подобного протокола у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием.
Для стимуляции овуляции применяли фоллитропины альфа и бета, менотропины, трипторелин, ганиреликс. В качестве триггера финального созревания ооцитов использовали хорионгонадотропин альфа. Поскольку критерии для определения необходимой стартовой дозы фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) четко не определены, дозу выбирали индивидуально с учетом анамнеза, возраста пациенток и показателей овариального резерва. У пациенток с предполагаемым гиперответом яичников и, как следствие, высоким риском развития синдрома гиперстимуляции яичников применяли более низкие дозы гонадотропинов [31], пациенткам с прогнозируемым гипоответом назначали более высокие дозы препаратов ФСГ.
Препараты ФСГ вводили со 2–3-го дня менструального цикла. Рост фолликулов контролировали с помощью ультразвукового мониторинга в зависимости от динамики роста фолликулов. При достижении не менее чем двумя фолликулами диаметра 17 мм назначали триггер финального созревания ооцитов — рекомбинантный хориогонадотропин альфа в дозе 6500 МЕ (250 мкг). Через 36 ч после введения триггера под ультразвуковым контролем выполняли трансвагинальную пункцию фолликулов диаметром более 14 мм.
Полученные ооциты оплодотворяли через 39–40 ч после введения триггера в среде для IVF (Origio). Метод оплодотворения выбирали в соответствии с показателями спермограммы в день пункции. Эмбрионы культивировали в индивидуальных каплях одноступенчатой среды CSCM-C (Irvine Scientific) при сниженном содержании кислорода (5 %) в планшетных настольных инкубаторах MINCK (COOK Medical). Оплодотворение оценивали через 16–20 ч после добавления спермы при ЭКО или после инъекции сперматозоида при ИКСИ. Исключали аномально оплодотворившиеся (триплоиды и гаплоиды) и неоплодотворившиеся ооциты. Дробление диплоидных эмбрионов оценивали на 3-й день развития. Учитывали количество и однородность бластомеров, наличие фрагментации (класс А — эмбрионы, имеющие не более 5 % безъядерных фрагментов; класс В — эмбрионы, фрагментация которых была не более 30 % общего размера эмбриона; класс С — эмбрионы, имеющие фрагментацию более 30 % общего размера эмбриона). Если перенос выполняли на 4-й день развития, то анализировали степень компактизации эмбриона (еМ — ранняя морула, М — морула, Мcav — кавитирующая морула), наличие невключившихся клеток, фрагментов. Эмбрионы 5-го дня оценивали по Гарднеру.
Эмбрионы переносили на 3, 4 или 5-й день развития в зависимости от количества полученных зигот, состояния эндометрия и особенностей анамнеза пациентки. Для переноса выбирали лучший эмбрион, остальные перспективные эмбрионы криоконсервировали на 5-й или 6-й день развития с помощью витрификации по 1 или 2 эмбриона на криотоп (Kitazato).
Пациенткам после переноса в качестве поддерживающей терапии назначали препараты прогестерона: дидрогестерон по 10 мг 2 р/сут per os, или вагинально прогестерон микронизированный по 200 мг 3 р/сут, или прогестерон по 90 мг вагинально 1 р/сут.
На 12–14-е сутки после переноса эмбрионов в полость матки определяли уровень хорионического гонадотропина в крови пациенток. Если уровень был выше порогового, через 10–14 сут выполняли ультразвуковое исследование органов малого таза. Критерием наступления клинической беременности являлась визуализация плодного яйца в полости матки и выявление сердцебиения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении контролируемой овариальной стимуляции доза препаратов ФСГ была выше во всех группах пациенток при использовании протоколов с аГнРГ, а максимальная потребовалась пациенткам с эндометриозом III–IV стадий — 2230,80 ± 614,09 МЕ; минимальная доза препаратов ФСГ составила 1171,43 ± 547,42 МЕ и зафиксирована в группе пациенток с минимальным эндометриозом при стимуляции с антГнРГ.
Количество как полученных, так и зрелых ооцитов (MII) в группах А1 и Б было больше при стимуляции с помощью антГнРГ — 11,14 ± 8,93 / 13,47 ± 7,13 и 10,14 ± 9,06 / 10,81 ± 7,08 соответственно. В группе пациенток А2, у которых стимуляцию проводили с применением антГнРГ, количество полученных при пункции ооцитов составило 3,33 ± 2,07, из них зрелых — 3,00 ± 2,00, а при стимуляции с использованием аГнРГ — 9,21 ± 8,00 и 7,96 ± 6,45 соответственно. Наименьшая частота оплодотворения (65,03 ± 32,47) была в группе А2 после стимуляции с аГнРГ (табл. 4).
Таблица 4. Результаты оплодотворения ооцитов
Параметр | Протокол | Эндометриоз | Э + СПКЯ (Б) n = 53 | ТПБ | |
I–II (А1) n = 50 | III–IV (А2) n = 35 | ||||
Суммарная доза ФСГ, МЕ | аГнРГ | 2032,74 ± 507,86 | 2230,80 ± 614,09 | 1998,21 ± 689,55 | 2106,90 ± 661,83 |
антГнРГ | 1171,43 ± 547,42 | 1954,17 ± 1088,63 | 1488,67 ± 430,12 | ||
Количество ооцитов, всего | аГнРГ | 10,17 ± 7,99 | 9,21 ± 8,00 | 10,00 ± 6,49 | 9,62 ± 6,46 |
антГнРГ | 11,14 ± 8,93 | 3,33 ± 2,07 | 13,47 ± 7,13 | ||
MII | аГнРГ | 8,95 ± 7,03 | 7,96 ± 6,45 | 8,67 ± 5,47 | 8,26 ± 5,84 |
антГнРГ | 10,14 ± 9,06 | 3,00 ± 2,00 | 10,81 ± 7,08 | ||
Частота оплодотворения | аГнРГ | 79,00 ± 19,05 | 65,03 ± 32,47 | 74,8 ± 11,60 | 77,23 ± 17,41 |
антГнРГ | 77,51 ± 25,94 | 88,89 ± 20,18 | 71,78 ± 8,93 | ||
Примечание. Э — эндометриоз; СПКЯ — синдром поликистозных яичников; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; аГнРГ — агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона; антГнРГ — антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона; MII — зрелые ооциты; ТПБ — трубно-перитонеальное бесплодие.
ЧНБ в расчете на перенос эмбрионов в группе пациенток с минимальным эндометриозом, у которых овариальную стимуляцию выполняли с использованием аГНРГ, составила 50 %, что было самым высоким значением в исследуемых группах, также сопоставимой была ЧНБ в группе с сочетанием эндометриоза и СПКЯ (42,72 %).
Минимальная ЧНБ (14,29 %) оказалась у пациенток в группе с III–IV стадиями эндометриоза, у которых стимуляцию проводили с применением антГнРГ. Она была одинаковой (25 %) как у пациенток с сочетанием эндометриоза и СПКЯ, так и с «минимальными» формами эндометриоза.
Частота прерывания беременности в пересчете на количество наступивших клинических беременностей оказалась выше во всех группах, в которых использовали протокол с антГнРГ, а у пациенток только с эндометриозом — максимальной. Это привело к низкой частоте родов (9,38 %) у пациенток с сочетанием эндометриоза и СПКЯ и отсутствием родов живым плодом у пациенток только с эндометриозом. В группах пациенток с III–IV стадиями эндометриоза и с протоколами овариальной стимуляции с использованием аГнРГ максимальная частота прерывания беременности составила 45,45 %. В группе с минимальным эндометриозом она составила 19,05 %, а в группе с сочетанием эндометриоза и СПКЯ — 20,0 %.
Напротив, у пациенток, овариальную стимуляцию которых выполняли с использованием аГнРГ, частота родов была значительно выше с сохранением соотношений, как и при определении ЧНБ: максимальный показатель зарегистрирован в группе с «малыми» формами эндометриоза (40,48 %), схожая частота родов установлена в группе с сочетанием эндометриоза и СПКЯ (38,1 %), и минимальное значение зафиксировано в группе пациенток с распространенными формами эндометриоза (21,43 %) (табл. 5).
Таблица 5. Исходы лечения
Параметр | Протокол | Эндометриоз | Э + СПКЯ (Б) | ТПБ | |
I–II (А1) | III–IV (А2) | ||||
ЧНБ (на ПЭ), % (n) | аГнРГ | 50,0 % (21) | 39,29 % (11) | 47,62 % (10) | 42,72 % (44) |
антГнРГ | 25,0 % (2) | 14,29 % (1) | 25,0 % (8) | ||
Частота прерывания беременности (на количество наступивших беременностей), % (n) | аГнРГ | 19,05 % (4) | 45,45 % (5) | 20,0 % (2) | 18,18 % (8) |
антГнРГ | 100 % (2) | 100 % (1) | 62,5 % (5) | ||
Частота родов (на ПЭ), % (n) | аГнРГ | 40,48 % (17) | 21,43 % (6) | 38,1 % (8) | 31,07 % (32) |
антГнРГ | 0 % (0) | 0 % (0) | 9,38 % (3) | ||
Примечание. ЧНБ — частота наступления беременности; ПЭ — перенос эмбриона в полость матки; ТПБ — трубно-перитонеальное бесплодие.
ОБСУЖДЕНИЕ
Методы ВРТ показали свою эффективность у пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. Эффективность циклов ВРТ обычно отражают несколько показателей. К ним относятся общее количество извлеченных при пункции фолликулов, ооцитов; количество «зрелых» из них; частота оплодотворения; ЧНБ; частота прерывания беременности и главный показатель — частота родов живым плодом.
Безусловно, работа исследователей и практикующих врачей направлена, с одной стороны, на выявление параметров, повышающих эффективность лечения, с другой — на изучение влияния различных проявлений эндометриоза на результаты лечения. Часто эти направления связаны друг с другом. Так, например, одним из путей улучшения результатов лечения является индивидуализация протоколов стимуляции суперовуляции [32, 33]. Однако при претворении в жизнь тех или иных методик, которые должны с большей вероятностью помочь пациентам преодолеть бесплодие, возникает множество проблем, одна из которых — неоднозначные трактовки влияния разнообразных форм эндометриоза на исходы циклов ЭКО.
К одному из маркеров успешного оплодотворения относится количество полученных при пункции зрелых ооцитов. Опубликованные данные свидетельствуют, что эндометриоз по сравнению с другими причинами бесплодия приводит к уменьшению количества полученных зрелых ооцитов [34–38]. Возможным объяснением могут быть результаты исследований В. Xu и соавт. Изучая ультраструктуру цитоплазмы ооцитов у пациенток с эндометриозом, авторы пришли к выводу, что в этой группе была больше доля аномальных митохондрий на фоне уменьшения общего количества митохондрий, что в конечном счете снижает потенциал яйцеклеток к финальному созреванию [39].
В нашем исследовании количество зрелых ооцитов, полученных при пункции фолликулов, было самым низким в группе пациенток с III–IV стадиями эндометриоза.
Мы получили данные, подтверждающие, что тяжесть эндометриоза обратно коррелирует как с общим количеством полученных при пункции ооцитов, так и с количеством ооцитов, находящихся во II фазе деления мейоза. Однако обращает на себя внимание, что существуют значительные отличия в зависимости от протокола овариальной стимуляции. Так, в подгруппе А2, в которой стимуляцию проводили с помощью антГнРГ, количество зрелых ооцитов составило 3,00 ± 2,00, а при стимуляции с использованием аГнРГ — 7,96 ± 6,45. Следует отметить, что в остальных группах (А1 и Б) количество и полученных и «зрелых» ооцитов было больше у пациенток в циклах с антГнРГ по сравнению с пациентками в циклах с аГнРГ.
Частота оплодотворения в группах А1 и Б практически не зависела от протокола контролируемой овариальной стимуляции. Однако в группе А2 она была выше при стимуляции с помощью антГнРГ (88,89 против 65,03 %).
Следует признать, что нет единого мнения о влиянии эндометриоза на ЧНБ в циклах ВРТ. Наиболее распространенным является взгляд, согласно которому любые формы эндометриоза снижают ЧНБ (как при спонтанной беременности, так и при применении методов ВРТ) [40, 41]. Это подтвердили в своих работах Akande и соавт., установив, что результативность циклов ЭКО у женщин с эндометриоз-ассоциированным бесплодием значительно ниже по сравнению с пациентками с трубным фактором бесплодия [42].
Существует и противоположный взгляд на эту проблему. С учетом успехов ВРТ в преодолении бесплодия у пациенток с эндометриозом некоторые авторы считают, что значительных различий в ЧНБ и частоте родов среди пациенток с различными стадиями эндометриоза по сравнению с женщинами с другими причинами бесплодия нет [43, 44].
Как было указано выше, накапливается все больше доказательств об обратно пропорциональном соотношении между стадией эндометриоза и результативностью циклов ВРТ [5, 45]. H. Harb и соавт. подчеркивают, что ЧНБ у женщин с «минимальным» эндометриозом и с трубно-перитонеальным бесплодием сравнима [45]. Такого же мнения придерживаются и другие исследователи [12, 16, 46–50]. В подтверждение последнему мы получили подобные результаты. Максимальная ЧНБ наблюдалась в группе пациенток с «малыми» формами эндометриоза и была сопоставима с ЧНБ пациенток с сочетанием эндометриоза и СПКЯ. Объяснить это можно тем, что у подавляющего большинства пациенток в последней группе была I или II стадия эндометриоза. Указанные соотношения сохранялись вне зависимости от протокола овариальной стимуляции, но значения были выше при использовании аГнРГ [50,0 %/39,29 %/47,62 % (А1/А2/Б) против 25,0 %/14,29 %/25 % соответственно]. Возможной причиной некоторые авторы считают отрицательное влияние протоколов с антГнРГ на восприимчивость эндометрия, что подтверждает повышение показателя ЧНБ при использовании аГнРГ [29].
Еще в 1993 г. Balen и соавт. установили, что частота прерывания беременности у женщин с поликистозом составляет 35,8 %, что гораздо выше по сравнению с женщинами без изменений в яичниках (23,6 %). Однако у пациентов с СПКЯ частота выкидышей снижается до уровня пациенток с неизмененными яичниками при использовании длинного протокола овариальной стимуляции с аГнРГ — 20,3 % [51]. Нами были получены практически аналогичные данные по частоте прерывания беременности в группах с «малыми» формами эндометриоза и с сочетанием эндометриоза и СПКЯ, в которых овариальную стимуляцию проводили с помощью аГнРГ. Как и в случае с ЧНБ, при определении частоты прерывания беременности были выявлены существенные различия в зависимости от протоколов стимуляции. Невозможно не обратить внимания на прерывание всех беременностей у пациенток с эндометриозом, которые получали антГнРГ. Справедливости ради, следует отметить крайне малочисленную выборку, что неминуемо влечет большую погрешность, но подобная тенденция заслуживает более детального изучения в последующих работах. В подгруппе пациенток, получавших аГнРГ, максимальная частота прерываний зафиксирована в группе с III–IV стадиями эндометриоза (45,45 %), а в группах А1 и Б составила 19,06 и 20,0 % соответственно. Исходя из данных о частоте прерывания беременности, можно заключить, что основная группа положительных исходов наблюдалась у этих же пациенток: 40,48 % у пациенток с I–II стадиями эндометриоза и 38,1 % в группе с сочетанием эндометриоза и СПКЯ.
ВЫВОДЫ
Нам удалось подтвердить, что распространенные формы эндометриоза сопряжены с уменьшением эффективности лечения бесплодия методами ВРТ и, напротив, минимальные формы эндометриоза не влияют на исходы циклов ВРТ (в сравнении с контрольной группой). Сочетание с эндометриозом такой эндокринной патологии, как СПКЯ, значимо сказывается на результативности лечения бесплодия методами ЭКО-ИКСИ.
Особый интерес представляет тенденция отрицательного влияния на исходы ЭКО в указанных группах протоколов стимуляции овуляции с антГнРГ. Однако в связи с небольшой выборкой необходимо продолжать исследования в указанном направлении.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Исследование выполнено без использования спонсорских средств и финансового обеспечения.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Все авторы внесли существенный вклад в проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.
Об авторах
Александр Александрович Маколкин
ООО «Дельта фертилити клиник»
Email: mail@makolkin.com
ORCID iD: 0000-0001-8858-7333
https://df.clinic/
гинеколог-репродуктолог
Россия, 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова, д. 10Алла Станиславовна Калугина
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Автор, ответственный за переписку.
Email: alla19021962@gmail.com
https://scanfert.clinic
д.м.н, профессор
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Giudice L.C., Kao L.C. Endometriosis // Lancet. 2004. Vol. 364 (9447). P. 1789−1799. doi: 10.1016/S0140-6736(04)17403-5
- Сергиеня О.В., Юхно Е.А., Павловская Е.А. и др. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации структурных изменений органов малого таза у женщин репродуктивного возраста при бесплодии // Российский электронный журнал лучевой диагностики (REJR). 2018. Т. 8. № 1. С. 119−128. doi: 10.21569/2222-7415-2018-8-1-119-128
- Assisted Reproductive Technology. Fertility clinic success rates report. 2020. [дата обращения 01.12.2021]. Доступ по ссылке: https://www.cdc.gov/art/pdf/2018-report/ART-2018-Clinic-Report-Full.pdf
- Dunselman G.A., Vermeulen N., Becker C. et al. ESHRE guideline: management of women with endometriosis // Hum. Reprod. 2014. Vol. 29. No. 3. P. 400−412. doi: 10.1093/humrep/det457
- Horton J., Sterrenburg M., Lane S. et al. Reproductive, obstetric, and perinatal outcomes of women with adenomyosis and endometriosis: a systematic review and meta-analysis. // Hum. Reprod. Update. 2019. Vol. 25. No. 5. P. 592−632. doi: 10.1093/humupd/dmz012
- Revised American society for reproductive medicine classification of endometriosis: 1996 // Fertil. Steril. 1997. Vol. 67. No. 5. P. 817−821. doi: 10.1016/s0015-0282(97)81391-x
- Вандеева Е.Н., Протасова А.Э., Кузьмина Н.С. Сочетанная гинекологическая патология при эндометриоз-ассоциированном бесплодии // Журнал акушерства и женских болезней. 2016. Т. 65. (Прилож.). С. 40.
- Dinsdale N.L., Crespi B.J. Endometriosis and polycystic ovary syndrome are diametric disorders // Evol. Appl. 2021. Vol. 14. P. 1693–1715. doi: 10.1111/eva.13244
- Hager M., Wenzl R., Riesenhuber S. et al. The prevalence of incidental endometriosis in women undergoing laparoscopic ovarian drilling for clomiphene-resistant polycystic ovary syndrome: A retrospective cohort study and meta-analysis // J. Clin. Med. 2019. Vol. 8. No. 8. P. 1210. doi: 10.3390/jcm8081210
- Holoch K.J., Savaris R.F., Forstein D.A. et al. Coexistence of polycystic ovary syndrome and endometriosis in women with infertility // J. Endometriosis Pelvic Pain Disorders. 2014. Vol. 6. No. 2. P. 78−83. doi: 10.5301/je.5000181
- Guidice L.C. Clinical practice: endometriosis // N. Engl. J. Med. 2010. Vol. 362. P. 2389−2398. doi: 10.1056/NEJMcp1000274
- Bulletti C., Coccia M.E., Battistoni S., Borini A. Endometriosis and infertility // J. Assist. Reprod. Genet. 2010. Vol. 27. No. 8. P. 441–447. doi: 10.1007/s10815-010-9436-1
- Беженарь В.Ф., Круглов С.Ю., Крылова Ю.С. и др. Клиническая характеристика больных и морфологические особенности инфильтративных форм эндометриоза, а также результаты нерв-сберегающей методики хирургического лечения // Уральский медицинский журнал. 2019. № 5 (173). С. 24−31. doi: 10.25694/URMJ.2019.05.32
- Миронов А.А., Старова А.Р. Патоморфологическая диагностика заболеваний матки, яичников и маточных труб, приводящих к бесплодию // Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины: материалы 76-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. Волгоград, 25–28 апреля 2018 г. Волгоград, 2018. С. 465−466.
- Garcia-Velasco J.A., Somigliana E. Management of endometriomas in women requiring IVF: To touch or not to touch // Hum. Reprod 2009. Vol. 24. P. 496-501. doi: 10.1093/humrep/den398
- Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных. Москва, 2013.
- Teede H.J., Misso M.L., Costello M.F. et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome // Hum. Reprod. 2018. Vol. 33. No. 9. P. 1602−1618. Corrected and republished from: Hum. Reprod. 2019. Vol. 34. No. 2. P. 388. doi: 10.1093/humrep/dey256
- Haas D., Chvatal R., Habelsberger A. et al. Comparison of revised American Fertility Society and ENZIAN staging: a critical evaluation of classifications of endometriosis on the basis of our patient population // Fertil. Steril. 2011. Vol. 95. No. 5. P. 1574−1578. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.01.135
- Tuttlies F., Keckstein J., Ulrich U. et al. ENZIAN-Score, eine Klassifikation der tief infiltrierenden Endometriose [ENZIAN-score, a classification of deep infiltrating endometriosis] // Zentralbl. Gynakol. 2005. Vol. 127. No. 5. P. 275−281. doi: 10.1055/s-2005-836904
- Nelson S.M. Biomarkers of ovarian response: current and future applications // Fertil. Steril. 2013. Vol. 99. No. 4. P. 963−969. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.11.051
- Калугина А.С., Каменецкий Б.А., Корнилов Н.В. Антимюллеровый гормон как основной показатель овариального резерва // Журнал акушерства и женских болезней. 2009. Т. 57. № 5. С. М134.
- Zhao D., Fan J., Wang P. et al. Age-specific definition of low anti-Mullerian hormone and associated pregnancy outcome in women undergoing IVF treatment // BMC Pregnancy Childbirth. 2021. Vol. 21. P. 186. doi: 10.1186/s12884-021-03649-0
- Broekmans F.J.M., de Ziegler D., Howles C. et al. The antral follicle count: practical recommendations for better standardization // Fertil. Steril. 2010. Vol. 94. No. 3. P. 1044−1051. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.04.040
- Jayaprakasan K., Chan Y., Islam R. et al. Prediction of in vitro fertilization outcome at different antral follicle count thresholds in a prospective cohort of 1,012 women // Fertil. Steril. 2012. Vol. 98. P. 657–663. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.05.042
- Dewailly D., Barbotin A.-L., Dumont A. et al. Role of anti-müllerian hormone in the pathogenesis of polycystic ovary syndrome // Front Endocrinol (Lausanne). 2020. Vol. 11. P. 641. doi: 10.3389/fendo.2020.00641
- Coelho Neto M.A., Ludwin A., Borrell A. et al. Counting ovarian antral follicles by ultrasound: a practical guide // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2018. Vol. 51. No. 1. P. 10−20. doi: 10.1002/uog.18945
- Wahd S.A., Alalaf S.K., Al-Shawaf T., Al-Tawil N.G. Ovarian reserve markers and assisted reproductive technique (ART) outcomes in women with advanced endometriosis // Reprod. Biol. Endocrinol. 2014. Vol. 12. P. 120. doi: 10.1186/1477-7827-12-120
- Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация. Клинические рекомендации (протокола лечения). Письмо Минздрава России от 05.03.2019 № 15-4/И/2-1908. Москва, 2019. [дата обращения 23.10.2021]. Доступ по ссылке: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-05.03.2019-N-15-4_I_2-1908/
- Kolanska K., Cohen J., Bendifallah S. et al. Pregnancy outcomes after controlled ovarian hyperstimulation in women with endometriosis-associated infertility: GnRH-agonist versus GnRH-antagonist // J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod. 2017. Vol. 46. P. 681−686. doi: 10.1016/j.jogoh.2017.09.007
- Lambalk C.B., Banga F.R., Huirne J.A. et al. GnRH antagonist versus long agonist protocols in IVF: a systematic review and meta-analysis accounting for patient type // Hum. Reprod. Update. 2017. Vol. 23. No. 5. P. 560−579. doi: 10.1093/humupd/dmx017
- Lensen S.F., Wilkinson J., Leijdekkers J.A. et al. Individualised gonadotropin dose selection using markers of ovarian reserve for women undergoing in vitro fertilisation plus intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI) // Cochrane Database Syst. Rev. 2018. Vol. 2. P. CD012693. doi: 10.1002/14651858.CD012693.pub2
- Кузьмина Н.С., Беженарь В.Ф., Калугина А.С. Эндометриоз и бесплодие. Операция или вспомогательные репродуктивные технологии? // Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2018. Т. 5. № 1. С. 31−36. doi: 10.18821/2313-8726-2018-5-1-31-36
- National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK). Fertility: Assessment and Treatment for People with Fertility Problems. London: Royal College of Obstetricians & Gynaecologists; 2013. [дата обращения 23.10.2021]. Доступ по ссылке: https://www.nice.org.uk/guidance/cg156/resources/fertility-problems-assessment-and-treatment-pdf-35109634660549
- Giacomini E., Sanchez A.M., Sarais V. et al. Characteristics of follicular fluid in ovaries with endometriomas // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2017. Vol. 209. P. 34–38. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.01.032
- Rossi A.C., Prefumo F. The effects of surgery for endometriosis on pregnancy outcomes following in vitro fertilization and embryo transfer: a systematic review and meta-analysis // Arch. Gynecol. Obstet. 2016. Vol. 294. P. 647–655. doi: 10.1007/s00404-016-4136-4134
- Hamdan M., Dunselman G., Li T.C., Cheong Y. The impact of endometrioma on IVF/ICSI outcomes: a systematic review and meta-analysis // Hum. Reprod. Update. 2015. Vol. 21. P. 809–825. doi: 10.1093/humupd/dmv035
- Shebl O., Sifferlinger I., Habelsberger A. et al. Oocyte competence in in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection patients suffering from endometriosis and its possible association with subsequent treatment outcome: a matched case-control study // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2017. Vol. 96. No. 6. P. 736–744. doi: 10.1111/aogs.12941
- Orazov M.R., Radzinsky V.Y., Ivanov I.I. et al. Oocyte quality in women with infertility associated endometriosis // Gynecol. Endocrinol. 2019. Vol. 35. (Suppl.). P. 24–26. doi: 10.1080/09513590.2019.1632088
- Xu B., Guo N., Zhang X.M. et al. Oocyte quality is decreased in women with minimal or mild endometriosis // Sci. Rep. 2015. Vol. 5. P. 10779. doi: 10.1038/srep10779
- de Ziegler D., Borghese B., Chapron C. Endometriosis and infertility: pathophysiology and management // Lancet. 2010. Vol. 376 (9742). P. 730–738. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60490-4
- Barnhart K., Dunsmoor-Su R., Coutifaris C. Effect of endometriosis on in vitro fertilization // Fertil. Steril. 2002. Vol. 77. No. 6. P. 1148–1155. doi: 10.1016/s0015-0282(02)03112-6
- Akande V.A., Hunt L.P., Cahill D.J., Jenkins J.M. Differences in time to natural conception between women with unexplained infertility and infertile women with minor endometriosis // Hum Reprod. 2004. Vol. 19. No. 1. P. 96–103. doi: 10.1093/humrep/deh045
- Barbosa M.A., Teixeira D.M., Navarro P.A. et al. The impact of endometriosis and its staging on assisted reproduction outcomes: a systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2014. Vol. 44. No. 3. P. 261–278. doi: 10.1002/uog.13366
- Vassilopoulou L., Matalliotakis M., Zervou M.I. et al. Endometriosis and in vitro fertilization // Exp. Ther. Med. 2018. Vol. 16. No. 2. P. 1043–1051. doi: 10.3892/etm.2018.6307
- Harb H.M., Gallos I.D., Chu J. et al. The effect of endometriosis on in vitro fertilization outcome: a systematic review and meta-analysis // BJOG. 2013. Vol. 120. No. 11. P. 1308–1320. doi: 10.1111/1471-0528.12366
- Kuivasaari P., Hippeläinen M., Anttila M., Heinonen S. Effect of endometriosis on IVF/ICSI outcome: stage III/IV endometriosis worsens cumulative pregnancy and live-born rates // Hum. Reprod. 2005. Vol. 20. No. 11. P. 3130–3135. doi: 10.1093/humrep/dei176
- Werbrouck E., Spiessens C., Meuleman C., D’Hooghe T. No difference in cycle pregnancy rate and in cumulative live-birth rate between women with surgically treated minimal to mild endometriosis and women with unexplained infertility after controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination. // Fertil Steril. 2006. Vol. 86. No. 3. P. 566–571. doi: 10.1016/j.fertnstert.2006.01.044
- Macer M.L., Taylor H.S. Endometriosis and infertility: a review of the pathogenesis and treatment of endometriosis-associated infertility // Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 2012. Vol. 39. No. 4. P. 535–549. doi: 10.1016/j.ogc.2012.10.002
- Al Kudmani B., Gat I., Buell D. et al. In vitro fertilization success rates after surgically treated endometriosis and effect of time interval between surgery and in vitro fertilization // J. Minim. Invasive Gynecol. 2018. Vol. 25. No. 1. P. 99–104. doi: 10.1016/j.jmig.2017.08.641
- Coccia M.E., Rizzello F., Mariani G. et al. Impact of endometriosis on in vitro fertilization and embryo transfer cycles in young women: A stage-dependent interference // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2011. Vol. 90. No. 11. P. 1232–1238. doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01247.x
- Balen A.H., Tan S.L., MacDougall J., Jacobs H.S. Miscarriage rates following in-vitro fertilization are increased in women with polycystic ovaries and reduced by pituitary desensitization with buserelin // Hum. Reprod. 1993. Vol. 8. No. 6. P. 959–964. doi: 10.1093/oxfordjournals.humrep.a138174
Дополнительные файлы