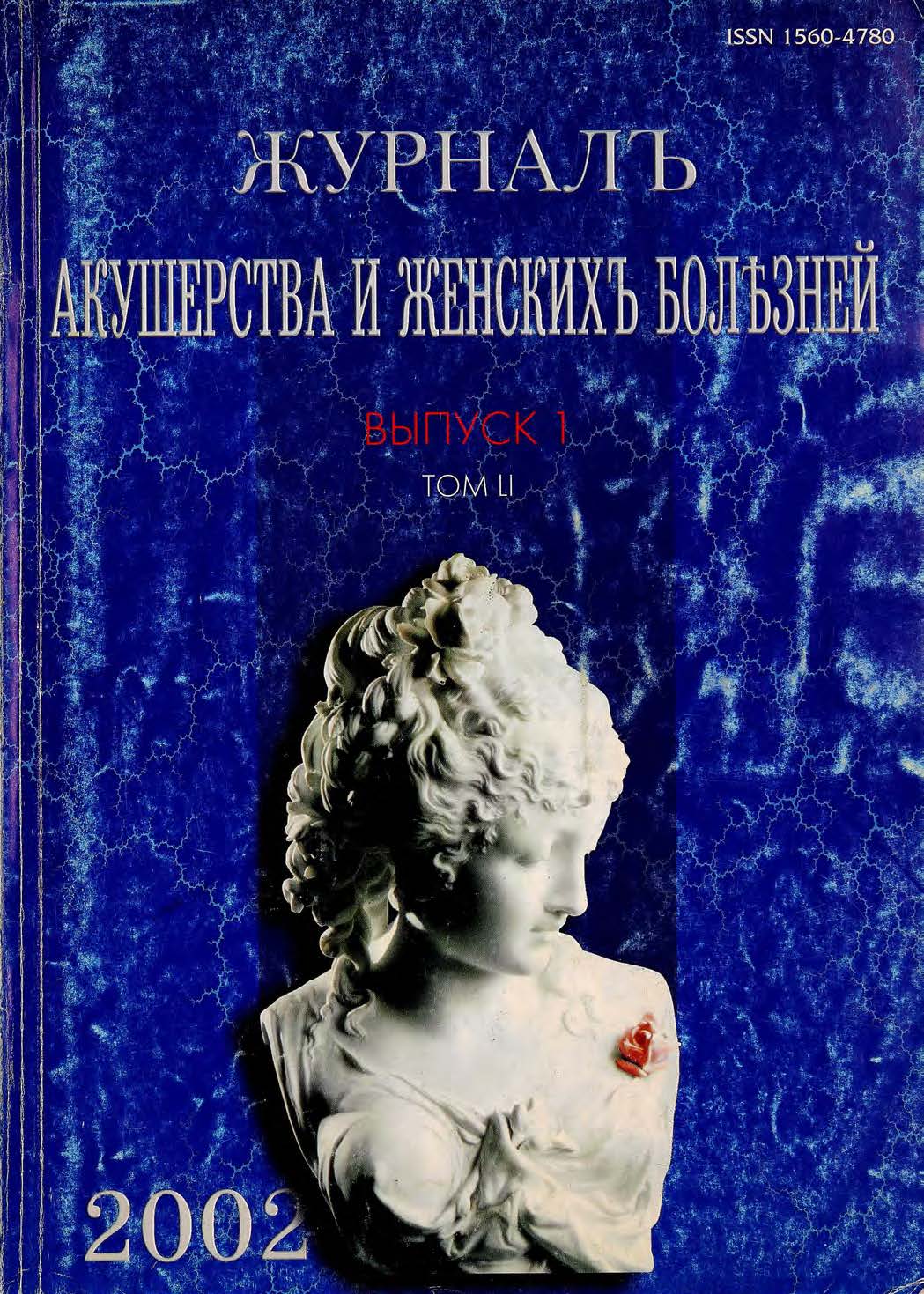Особенности пубертатного периода у девочек от матерей c гипоталамическим синдромом
- Авторы: Артымук Н.В.1, Ушакова Г.А.1, Зуева Г.П.1
-
Учреждения:
- Кемеровской государственной медицинской академии
- Выпуск: Том 51, № 1 (2002)
- Страницы: 56-60
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 15.01.2002
- Статья одобрена: 09.12.2021
- Статья опубликована: 15.01.2002
- URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/90010
- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD90010
- ID: 90010
Цитировать
Аннотация
В статье приведены данные о течении пубертата у девочек, рожденных женщинами с нейроэндокринной формой гипоталамического синдрома.
Авторами изучалось их физическое, половое развитие, гормональный статус, проводилась ультрасонография органов малого таза. В результате проведенных исследований у этих девочек обнаружены значительные отклонения в течении пубертата, что приводит к снижению их репродуктивного потенциала и требует разработки комплекса лечебно-профилактических мероприятий.
Полный текст
Пубертат — один из наиболее ответственных периодов жизни, включающий несколько последовательных ступеней развития, контролируемых комплексом нейроэндокринных факторов. В этот период происходит созревание нейронов и аксонов гипоталамуса, развиваются синаптические связи, облегчается передача нервных импульсов [2]. Пубертатный период предрасполагает к развитию гипоталамической дисфункции, особенно у детей, уже имеющих конституционально обусловленную неполноценность нейромедиаторных систем. Особая важность своевременного выявления и лечения гипоталамического синдрома пубертатного периода (ГСПП) связана со вторичным вовлечением яичников в патологический процесс, что проявляется не только функциональными, но и морфологическими изменениями — поликистозом яичников и приводит к нарушению репродуктивной функции [3, 5, 6, 7]. Вопросы, посвященные формированию репродуктивной функции у девочек, рожденных женщинами с гипоталамическим синдромом, мало изучены и отражают лишь отдельные фрагменты этой проблемы.
Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей течения пубертата у девочек от матерей с нейроэндокринной формой гипоталамическим синдромом (НЭГС).
Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 72 девочки, рожденные женщинами, которые на момент наступления беременности страдали НЭГС (I группа — основная). 26 девочек было в возрасте 9-11 лет, 12 девочек — в возрасте 12-13 лет,16 девочек — в возрасте 14- 16 лет,18 девочек — в возрасте 17-18 лет. II группу (контрольную) составили 56 девочек, рожденные женщинами, не имеющими хронической соматической патологии.
Изучение физического развития подростков проводилось с помощью антропометрии с последующей оценкой результатов по центильным таблицам. Индекс массы тела (ИМТ) определялся в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1998). Уровень полового развития определялся путем вычисления суммарного балла полового развития, предложенного Тумилович Л. Г. (1974). Уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), пролактина (ПРЛ), С- пептида, лептина, секссвязываю- щего глобулина (ССГ), эстрадиола (Е2), кортизола, тестостерона (Т) в сыворотке крови исследовался на 5-6 день менструального цикла, уровень прогестерона (П) оценивался на 21-22 день менструального цикла. Гормональные исследования проводились методом ИФА с использованием стандартных наборов «Алкор Био» (Россия), «Diagnostic» (USA). Ультразвуковое сканирование органов малого таза проводилось аппаратом «Алока — 630» при помощи трансабдоминалъного и у ряда пациенток — трансвагинального датчиков.
Средняя оценка при рождении по шкале Апгар в I группе составила 5,63±1,48 балла (во II группе - 7,66±0,78, р<0,05). Мак- росомия при рождении в I группе встречалась у 33,3% детей, во II группе — у 8,9% (р<0,05). Гипотрофия в I группе имела место у 11,1%о девочек, во II группе — у 11,1%. Продолжительность естественного вскармливания в I группе составляла 4,54±1,4 мес, во II группе — 7,66±1,1 мес (р<0,01). Ранний неонатальный период у всех девочек I группы имел осложненное течение, во II группе — у 27,9% (р<0,001). Хронические заболевания (тонзиллит, пиелонефрит, гастродуоденит, заболевания щитовидной железы) имели все девочки I группы и 32,1%)—II группы (р<0,001).
Таблица 1. Клинические проявления ГСПП у девочек, рожденных от матерей с НЭГС
Клиническое проявление | 9 - 11 (n=26) лет абс. (%) | 17 - 18 лет (n=18) абс. (%) |
Ожирение | 9(34,6) | 9(50,0) |
Вегето-сосудистая дистония | 19(73,1) | 12(66,7) |
Головная боль | 18(69,2) | 8(44,4) |
Артериальная гипертензия | 11(42,3) | 7(38,9) |
Ангиопатия сосудов сетчатки | 5(19,2) | 6(33,3) |
Стрии | 14(53,8) | 15(83,3) |
Гиперпигментация | 5(19,2) | 8(44,4) |
Гирсутизм | — | 5(27,8) |
Ускоренное половое созревание | 9(34,6) | — |
Нарушения менструального цикла | — | 15(72,2) |
Результаты исследования
В периоде полового созревания клинические проявления гипоталамического синдрома пубертатного периода (ГСПП) выявлены у 60 (83,3%) девочек I группы. В контрольной группе этот показатель составил 5,4% (р<0,001). Ожирение наблюдалось в I группе у 41 (56,9%) детей, во II группе — у 2 (3,4%о), р<0,001. Артериальной гипертензией страдали в I группе — 19 (26,4%) девочек, во II группе - 1 (1,8%), р<0,001. Поражения кожи в виде розовых стрий в обследованных группах обнаружены в 76,7% и 3,6% случаев соответственно (р<0,001). Проявления гирсутизма в I группе встречалось в 61,1% случаев, гиперпигментации — 75,0%, во II группе данные проявления отсутствовали. Головные боли в I группе отмечались у 69,6%, во II группе — у 10,7%) девочек (р<0,01). Нарушения менструального цикла имели место у 38,5% подростков I группы и 5,5% — II группы (р<0,05).
В возрасте 9-11 лет большинство девочек I группы отличались высоким ростом и опережали сверстниц, рожденных здоровыми женщинами, на 2-3 года. Их физическое развитие в этом возрасте характеризовалось резкой дисгармоничностью за счет избытка массы тела, который составлял 30-61% от должного веса. Индекс массы тела (ИМТ) составил 26,2±2,7 кг/м2 (во II группе — 17,1±1,8 кг/м2, р<0,05). У всех пациенток с избытком массы тела имел место андроидный тип распределения жира. Ускоренное половое развитие выявлено у 1/3 девочек (таблица 1). Раннее менархе наблюдалось у 8,3% девочек I группы и отсутствовало во II группе. Вульвовагинитами страдала каждая четвертая девочка I группы.
В 12-13 лет у большинства девочек в I группе физическое развитие оставалось резко дисгармоничное за счет избытка массы тела. ИМТ в I группе составлял 26,7±3,9 кг/м2, (во II группе — 18,3±2,1 кг/м2, р<0,05). Почти у всех обследованных наблюдался андроидный тип ожирения. У половины девочек имело место ускоренное половое развитие. Средний возраст менархе в I группе составил 12,5±0,5 лет, что не отличалось от возраста менархе у девочек, рожденных здоровыми женщинами (12,7±0,4 лет, р>0,05). Вулъвовагинитами страдало 41,7% девочек I группы.
В возрасте 14-16 лет высоким ростом отличалась лишь 1/2 обследованных девочек I группы. В этом возрасте на первый план выходит прогрессирующее ожирение, при этом важно то, что скачок увеличения массы тела происходил в год менархе. Физическое развитие этих девочек было также в большинстве случаев резко дисгармоничное за счет избытка массы тела, который отмечался у 2/3 пациенток и достигал 76% от должного веса. ИМТ составлял 27,8±1,7 кг/м2 (во II группе — 20,2±2,2 кг/ м2, р<0,05). Ожирение по андроидному типу имело место у 72,7%о подростков. В этой группе опережение полового развития обнаружено лишь в 16,6%. Нарушения менструального цикла наблюдались в 1/3 случаев, в основном, по типу аменореи и гипоменструального синдрома. Воспалительными заболеваниями гениталий (вульвовагиниты, сальпингоофориты, в том числе специфической этиологии) страдала почти половина (43,8%) девочек.
В возрасте 17-18 лет прослеживалась тенденция к гармоничному физическому развитию. ИМТ составлял 26,9±1,5 кг/м2 (во II группе - 19,4±2,5 кг/м2, р<0,05). Избыток массы тела выявлялся у половины девочек и был от 6,5 до 34% от должного веса. Половое развитие этих девочек не отличалось от сверстниц. Частота нарушений менструальной функции возросла до 72,2% (нарушения ритма менструаций, вторичная аменорея, гипоменструальный синдром, дисфункциональные маточные кровотечения ). Даже при сохраненном ритме менструаций у большинства пациенток базальная температура была монофазной, что свидетельствовало об ановуляции.
Данные ультразвукового сканирования органов малого таза у девочек 9-11 лет не отличались от возрастной нормы и результатов аналогичных исследований у девочек контрольной группы. В 12-13 лет у 3 девочек определялся диффузный мелкоячеистый фолликулогенез [4], размеры матки соответствовали возрастной норме, но отмечалось увеличение яичниково-маточного индекса. В 14-15 лет аналогичные изменения наблюдались у 1/4 девочек. В 17- 18 лет у половины девочек обнаружена мелкокистозная трансформация яичников, у 16,6% выявлена гипоплазия матки и утолщение капсулы яичников. В 2 случаях наблюдались фолликулярные кисты яичников.
Таблица 2. Гормональный статус девочек, рожденных от матерей с НЭГС
Гормон | 9-11 лет М±m | 12 - 13 лет М±m | 14- 16 лет М±m | 17 - 18 лет М±m | ||||
I группа (n=10) | II группа (n=6) | I группа (n=6) | II группа (n=8) | I группа (n=10) | II группа (n=6) | I группа (n=8) | II группа (n=10) | |
ЛГ, мМЕ/мл | 2,5±0,1 | 2,5±0,2 | 2,1±0,3 | 2,6±0,2 | 8,5±0,9' | 4,8±1,2 | 6,9±1,4' | 4,2±1,1 |
ФСГ, мМЕ/мл | 1,8±0,2 | 1,9±0,1 | 4,2±1,1 | 3,6±0,8 | 4,9±1,6' | 3,5±0,9 | 3,4±0,7 | 4,1±1,8 |
ЛГ/ФСГ | 1,4±0,1 | 1,5±0,1 | 0,35±0,1 | 0,55±0,2 | 1,74±0,7 | 1,2±0,4 | 2,1±0,8 | 1,1±0,2 |
ПРЛ, мМЕ/л | 299±74,4' | 136±12,9 | 275±129,5 | 252±22,6 | 579±142* | 327±48,8 | 370±59' | 235±24,4 |
кортизол, нмоль/л | 607±123* | 160,3±89 | 317±81,8 | 208±36,6 | 590±123* | 209±14,5 | 403±56,7 | 369±24,4 |
лептин, нг/мл | 20,9±9,7 | 10,2±3,5 | 27,9±14,5 | 12,2±5,6 | 40±6,8' | 16,2±4,4 | 26,6±7,6 | 14,2±4,2 |
ССГ, нмоль/л | 29,2±6,6 | 26,6±4,1 | 12,5±3,1 | 16,2±5,1 | 17,6±3,9 | 22,6±4,2 | 15,6±5,6' | 32,8±5,1 |
С-пептид, нг/мл | 0,2±0,05 | 0,2±0,05 | 0,84±0,4 | 0,8±0,2 | 0,49±0,13 | 0,6±0,1 | 0,66±0, Г | 0,36±0,11 |
Е2, пг/мл | 12,0±1,6 | 16,4±4,4 | 41,5±4,6 | 46,2±9,6 | 41,0±12,8 | 45,6±8,8 | 58,2±4,6' | 120,2±13 |
п, Нмоль/л | 0,4±0,05 | 0,42±0,15 | 2,7±0,3 | 3,6±1,2 | 10,4±5,1 | 8,8±2,4 | 1,4±0,45* | 12,6±1,2 |
Тст, нмоль/л | 1,3±0,2 | 1,1±0,2 | 1,64±0,1 | 1,2±0,4 | 2,1±0,3' | 1,1±0,2 | 3,1±1,2' | 1,61±0,3 |
* р < 0,05 - по сравнению с контрольной группой
При гормональном исследовании у девочек 9-11 лет определялось повышенное содержание пролактина и кортизола по сравнению с девочками контрольной группы (таблица 2). В возрасте 14-16 лет отмечалось значительное повышение ЛГ, умеренное повышение ФСГ и, вследствие этого, увеличение соотношения ЛГ/ ФСГ. Уровень пролактина, кортизола и тестостерона у всех девочек был в пределах нормы, но существенно выше, чем у девочек контрольной группы. Содержание лептина определялось достоверно выше, чем в контрольной группе и у девочек 12-13 лет. У девушек 17-18 лет намечается тенденция к снижению уровня лептина и кортизола; значения пролактина, ЛГ, С-пептида превышали аналогичные показатели у девочек II группы; содержание эстрадиола, прогестерона, ССГ было снижено (таблица 2).
Обсуждение
Состояние здоровья ребенка во многом определяется состоянием здоровья родившей его матери. Еще внутриутробно плод у больных НЭГС подвергается воздействию эндогенного метаболического стресса, обусловленного нейроэндокринными нарушениями [1]. Несбалансированность адаптивных реакций приводит к уязвимости этих детей при родоразрешении. Осложненное течение беременности и родов также оказывают неблагоприятное влияние на развитие детей у таких пациенток [9].
В детстве происходит становление общесоматического и репродуктивного здоровья женщины. Пубертат, являясь одним из критических периодов жизни, сопровождается клинической манифестацией конституционально неполноценных нейромедиаторных систем, приводя к развитию ГСПП у 83,3% девочек, рожденных женщинами с НЭГС. Первыми клиническими проявлениями ГСПП являлись головная боль, артериальная гипертензия, ожирение и стрии, которые наблюдались у большинства обследованных уже в возрасте 9-11 лет. В этом возрасте у девочек от матерей с ГС, определяется высокая частота ускоренного полового созревания и дисгармоничного физического развития по типу избытка массы тела. Гормональный статус в этом возрасте отличается относительной гиперпролактинемией и гиперкортизолемией.
В 12-13 лет отмечается увеличение частоты ожирения, проявлений вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии, поражения кожи в виде стрий, гиперпигментации. У некоторых девочек уже имеет место развитие гирсутизма. Однако значительно реже встречается у окоренное половое созревание. У 2 пациенток появились первые эхографические признаки формирования вторичных поликистозных яичников (увеличение яичниково-маточного индекса, диффузный мелкоячеистый фолликулогенез). Гормональные изменения характеризуются увеличением содержания лептина в сыворотке крови.
В 14-16-летнем возрасте отмечается прогрессирование практически всех проявлений ГСПП. Значительно возрастает ИМТ. Определяются выраженные изменения в гормональном и метаболическом статусе (гиперпролактинемия, гиперандрогения, повышение уровня ЛГ, соотношения ЛГ/ФСГ, гиперлептинемия). Уникальной особенностью функционирования гипоталамо-гипофизарногонадной системы ребенка является волнообразный характер ее активности. Главным определяющим механизмом пубертата ее активация с прогрессирующим увеличением яичниковых гормонов [8]. В этом возрасте у девочек от матерей с НЭГС имеет место значительное повышение уровня ЛГ и ПРЛ, являющееся, вероятно, следствием нарушения амплитуды и частоты пульсирующего выброса гонадолиберина, а также снижения допаминэргической активности в подкорковых структурах мозга [2], что может быть одним из патогенетических механизмов формирования у них поликистозных яичников. У девочек 14-16 лет, рожденных от матерей с НЭГС, содержание лептина, повышенное во всевозрастные периоды, достигает максимального значения.
В последние годы уделяется значительное внимание роли лептина в формировании метаболических нарушений. Лептин — белковый гормон, который вырабатывается преимущественно адипоцитами и циркулирует в крови в свободной и связанной формах. Поступая в кровь, а затем в гипоталамус, лептин связывается со специфическими рецепторами в аркуатных ядрах, что изменяет экспрессию ряда нейропептидов, регулирующих нейроэндокринную функцию, потребление и расход энергии в организме [10, 13]. Повышение уровня лептина предшествует прибавке массы тела у обследованных девочек в обеих группах, что указывает на возможность его участия в становлении репродуктивной функции. Выявлена прямая корреляционная зависимость между содержанием лептина и С-пептида в сыворотке крови (r=0,8, р<0,01), а также лептина и ИМТ (г=0,76, р<0,05). Многие другие исследователи также считают важной роль лептина в инициации процессов пубертата, предполагая, что лептин является связующим звеном между метаболическими изменениями и репродуктивной системой («метаболическим сигналом»), оказывая влияние на колебания овариального стероидогенеза [12, 13].
В 17-18 лет намечается тенденция к гармонизации физического развития, снижается частота ожирения, вегетососудистой дистонии, головных болей. Несмотря на снижение частоты артериальной гипертензии, почти у всех девушек она сопровождается ангиопатией сосудов сетчатки. В этом возрасте чаще встречается поражение кожи в виде гирсутизма и стрий. Половое развитие девушек от матерей с НЭГС не отличается от сверстниц, но имеет место высокая частота нарушений менструального цикла. Гормональные нарушения характеризуются повышенной секрецией ЛГ, гиперинсулинемией и гипертестостеронемией, пониженным содержанием эстрадиола и прогестерона. Гиперинсулинемия приводит к повышению выработки андрогенов стромой яичников, а также снижению выработки ССГ, что в условиях гиперандрогении способствует усилению тканевого действия тестостерона. Кроме того, гиперинсулинемия влияет на преждевременную блокаду роста фолликулов вследствие непосредственного взаимодействия инсулина и ЛГ, и постепенно приводит к завершению образования поликистозных яичников, что проявляется характерной ультрасонографической картиной [11].
Таким образом, течение пубертатного периода у девочек, рожденных женщинами с гипоталамическим синдромом, происходит с серьезными отклонениями, что приводит к значительному снижению их репродуктивного потенциала и делает необходимым разработку комплекса мероприятий, направленных на профилактику его нарушений.
Об авторах
Н. В. Артымук
Кемеровской государственной медицинской академии
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
кафедра акушерства и гинекологии
Россия, КемеровоГ. А. Ушакова
Кемеровской государственной медицинской академии
Email: info@eco-vector.com
кафедра акушерства и гинекологии
Россия, КемеровоГ. П. Зуева
Кемеровской государственной медицинской академии
Email: info@eco-vector.com
кафедра акушерства и гинекологии
Россия, КемеровоСписок литературы
- Артымук Н. В., Ушакова Г. А. Гипоталамический синдром и беременность. — Кемерово.: Кузбассвузиздат,1999. — 111с.
- Артюкова О. В., Коколина В. Ф. Гипоталамический синдром пубертатного периода // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. — 1997. — №2. - С. 45- 48.
- Артымук Н. В., Ушакова Г. А. Гипоталамический синдром и беременность. — Кемерово.: Кузбассвузиздат,1999. — 111 с.
- Артюкова О. В., Коколина В. Ф. Гипоталамический синдром пубертатного периода // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. — 1997. — №2. - С. 45- 48.
- Гуркин Ю. А. Гинекология подростков. СПб: Фолиант,1998. — 560 с.
- Мгалоблишвили И. Б., Мгалоблишвили М. Б., Осидзе К. Р., Тугуши Т. Т., Татишвили М. Г. Различные формы поликистозных яичников и их ответ на лечение метформином // Проблемы репродукции. — 2000. — № 5. —С. 8-10.
- Коколина В. Ф. Гинекологическая эндокринология детей и подростков. М.: МИА,1998. — 112 с.
- Кузнецова И. В., Стрижаков А. Н. Роль гипоталамического синдрома периода полового созревания в патогенезе поликистозных яичников //Акушерство и гинекология. — 1996. — № 2 —С. 7-10.
- Попов А. Д. Адаптивные реакции при беременности у женщин с нейроэндокринными синдромами: клинические аспекты. Пермь.: Звезда,2000. 128 с.
- Семичева Т. В. Гипоталамо- гипофизарные нарушения в патологии пубертатного периода // Материалы II Российской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы нейроэндокринологии». — М.— 2001. — С. 61- 68.
- Терещенко И. В., Дзадзамия Л. С. Влияние пубертатно-юношеского диспитуитаризма родителей на развитие потомства // Педиатрия. — 1994. — №3. — С. 15-17.
- Dawson R., Pelleymounter М. А., Millard W. J., Liu S., Eppler В. Attenuation of leptin-mediated effects by monosodium glutamateinduced arcuate nucleus damage // American Journal of Physiology- 1997. - Vol. 273. — № 1. - P. 202-206.
- Foreyt J. P., Poston W. S. Obesity: a never-ending cycle? // International Journal of Fertility & Womens Medicine. — 1998. — Vol. 43. — № 2. — P. 111-116.
- Macut D., Micic D., Pralong F. P, Bischof P, Campana A. Is there a role for leptin in human reproduction? // Gynecol - Endocrinol.— 1998. — Vol. 12. — № 5. —P. 321-326.
- Mantzoros C. S. Role of leptin in reproduction // Ann-N- Y-Acad-Sci. - 200; 900. — P. 174-83.
Дополнительные файлы