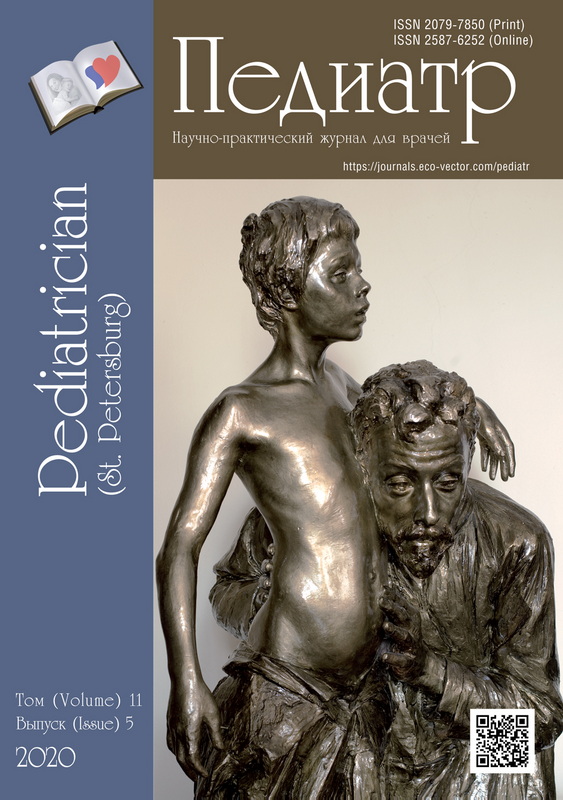Сравнительная этио-эпидемиологическая характеристика туберкулеза и саркоидоза легких: классические и новые представления
- Авторы: Николаев А.В.1,2, Утехин В.И.1,3, Чурилов Л.П.1,4
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
- Медицинский центр «Магнит»
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Выпуск: Том 11, № 5 (2020)
- Страницы: 37-50
- Раздел: Обзоры
- URL: https://journals.eco-vector.com/pediatr/article/view/62085
- DOI: https://doi.org/10.17816/PED11537-50
- ID: 62085
Цитировать
Аннотация
В статье приведены данные литературы, посвященные сходным гранулематозным воспалительным заболеваниям — туберкулезу и саркоидозу легких, которые составляют вместе около 5 % всей легочной патологии, но встречаются с разной частотой (20 : 1). Несмотря на установленную этиологию туберкулеза, болезнь не исчезла и даже приобрела новую актуальность: заболевание выходит из-под контроля из-за растущей бедности, связи с ВИЧ-инфекцией, учащения случаев лекарственной устойчивости микобактерий, недостаточной эффективности и растущей стоимости лечения. На фоне расширения антропогенных влияний и других экологических воздействий на иммунную систему растет и заболеваемость саркоидозом легких, при этом пациентам первоначально зачастую ставится ошибочный диагноз туберкулеза, с необоснованной противотуберкулезной химиотерапией, что ведет к хронизации патологии с частыми рецидивами и, соответственно, — к возрастанию инвалидизации и летальности. В последние годы клинические проявления саркоидоза из-за разнообразия триггерных этиологических факторов адъювантоподобного действия (от микобактерий до ксенобиотиков), рассматриваются рядом авторов как вариант аутоиммунно/аутовоспалительного синдрома, вызванного адъювантами (ASIA — Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants). В статье подчеркивается сходство двух гранулематозных воспалительных заболеваний и возможность их трактовки как двух вариантов ответа организма на близкие или даже тождественные этиологические факторы при различной реактивности (возможно, на разном мозаично-пермиссивном фоне). Кратко охарактеризованы новые модели саркоидоза и роль нарушений аутофагии и направления поляризации макрофагов при туберкулезе и саркоидозе. Высказана оригинальная авторская гипотеза о возможной эффективности рапамицина в лечении саркоидоза, впервые ставится вопрос о неоднозначных коморбидных взаимоотношениях данных гранулематозов и новой коронавирусной инфекции.
Полный текст
Туберкулез и саркоидоз легких (далее соответственно — ТЛ и СЛ) относятся к диффузным продуктивным гранулематозно-воспалительным заболеваниям и совместно составляют около 5 % всей легочной патологии, встречаясь в соотношении примерно 20 : 1 [78]. По данным литературы, 50–70 % пациентов с СЛ первоначально ставится ошибочный диагноз «туберкулез легких» с необоснованной противотуберкулезной химиотерапией, что ведет к хронизации процесса с частыми рецидивами и, соответственно, — к повышению риска инвалидности и летальности пациентов [9, 21].
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭТИОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
В последней четверти прошлого века некоторые специалисты сочли, что туберкулез — «исчезающая болезнь», но это оказалась глубоко и глобально ошибочным, и поэтому в 1993 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже провозгласила чрезвычайным событием в мире «возрождение» этого заболевания. Согласно отчетам ВОЗ, в 2018 г. туберкулезом заболело свыше 10 млн человек, в том числе 5,7 млн (57,0 %) мужчин, 3,2 млн (32,0 %) женщин и 1,1 млн (11,0 %) детей, причем две трети новых заболевших (67,0 %) приходилось на 8 стран (в порядке убывания числа случаев): Индию, Китай, Индонезию, Филиппины, Пакистан, Нигерию, Бангладеш и Южно-Африканскую Республику. При этом свыше 484 тыс. новых заболевших заразились микобактериями туберкулеза (MБT), обладающими множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). В 2018 г. от туберкулеза в мире умерло свыше 1,5 млн человек (в том числе 0,25 млн — с сопутствующей ВИЧ-инфекцией), а следовательно, туберкулезная инфекция остается одной из 10 ведущих причин смерти людей, глобально опережая по своей значимости те недуги, которые привлекают намного большее научное и общественное внимание — ВИЧ-инфекцию, малярию и новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) [12, 89]. ТЛ, согласно только что обобщенному китайскому опыту, не делая больных более подверженными заражению COVID-19, тем не менее при коморбидности повышает риск ее тяжелого течения более чем в 2 раза [61].
Туберкулез легких — инфекционное заболевание, и возбудитель его Mycobacterium tuberculosis был открыт основоположником монокаузализма в патологии Робертом Кохом (1843–1910) еще в 1882 г. На сегодня известно, что заболевание принципиально могут вызывать: M. tuberculosis, M. bovis, M. Africanum, и доказано, в том числе экспериментальными работами, что основным путем передачи инфекции (ответственным за более чем 95 % случаев) является воздушно-капельный. Но за полтора столетия выяснилось, что ряд условий, и прежде всего — главное внутреннее условие, то есть реактивность организма, очень существенно влияют на возникновение, развитие и течение заболевания [54].
Сам Р. Кох называл ТЛ «слезами нищеты», так как заболеваемость населения напрямую зависит от его уровня жизни. В экономически развитых странах, в том числе в СССР, во второй половине прошлого века отмечалась стабилизация основных эпидемиологических показателей на очень низком уровне, что поддерживало оптимизм специалистов в отношении процесса ликвидации туберкулеза как массового заболевания [19]. Но и в России, и в других республиках бывшего СССР после многих лет стабилизации, в 90-е годы. XX века вследствие распада страны и социально-экономического кризиса, заболеваемость ТЛ значительно увеличилась, хотя с 2008 по 2017 г. в РФ показатели несколько улучшились — общая заболеваемость регрессировала с 85,1 до 48,3 на 100 тыс. населения (то есть на 43,2 %), а заболеваемость у детей 0–14 лет снизилась с 15,3 до 9,7 на 100 тыс. детей (на 36,6 %) [30].
Чаще ТЛ болеют мужчины (69–75 %), но в последние годы появились сообщения о существенном числе случаев заболевания среди детей, подростков и беременных женщин [24, 89]. Нельзя забывать, что возможна гипердиагностика туберкулеза из-за возрастания числа случаев микобактериозов, вызванных нетуберкулезными микобактериями [34].
После выделения группы белков, экспрессирующихся при размножении МБТ, ESAT-6 и CFP-10, были созданы новые иммунологические диагностические тесты in vitro (IGRA-тесты: QuantiFERON (QFT)-TB, T-SPOT.TB, IP-10) и in vivo (с аллергеном туберкулезным рекомбинантным; проба с Диаскинтестом) [15]. Диаскинтест — отечественная разработка, в нем в качестве аллергена используются белки ЕSAT-6 и CFP-10, отсутствующие у М. bovis из состава вакцины BCG, что позволяет отличить поствакцинальную аллергию от инфекционной [12, 18]. Оказалось, однако, что применение вышеназванных тестов не дает возможности надежно проводить дифференциальную диагностику между латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ) и активным туберкулезом (АТ), так как отмечаются одинаково положительные результаты при этих вариантах течения процесса. При наличии характерных рентгенологических изменений бактериологическая верификация диагноза АТ была получена только в 46 % случаев, а определение специфических иммунных комплексов (ИК) методом динамического светорассеяния после добавления in vitro антигенов специфических пептидов ESAT-6 и SFP-10 позволяло в 100 % случаев определять АТ и выявлять группу высокого риска по его развитию у лиц с ЛТИ [25]. ВОЗ в 2014 г. было сформулировано определение ЛТИ как состояния постоянного иммунного ответа на МБТ без активного туберкулеза и даны рекомендации по интерпретации IGRA и подобных тестов [26].
Все эти данные, сами по себе, указывают, что один только микобактериальный причинный фактор не исчерпывает всей этиологии туберкулеза. Течение туберкулеза в решающей степени зависит от реакции организма на МБТ, которая, в меру реактивности индивидов, прежде всего — иммунологической, может быть очень различной [55].
В настоящее время, как в отдельных регионах нашей страны, так и в целом в РФ, отмечается формирование тяжелой клинической структуры в виде деструктивного и бациллярного туберкулеза, сочетания его с ВИЧ-инфекцией, формированием МЛУ-форм МБТ [28]. Эффективное лечение у таких пациентов отмечается лишь в 26 % случаев, да и осложнения химиотерапии (токсическое поражение органов слуха, печени, почек и др.) зачастую заставляют врачей и пациентов отказываться от продолжения лечения [17]. При использовании новых лекарственных препаратов стоимость лечения пациента при ТЛ с МЛУ МБТ достигает 440 тыс. рублей, что в 160 раз выше, чем лечение при лекарственно чувствительных МБТ [14].
При практически инкурабельном ТЛ и многих сопутствующих заболеваниях (печени, почек и др.), приводящих к летальности, для больных разрабатываются программы так называемой «паллиативной помощи» [3, 12, 52].
Специалисты ВОЗ призывают к очередной «ликвидации» ТЛ к 2030 г., но это очень трудно себе представить, так как заболеваемость населения ТЛ зависит от множества условий: генетических, региональных (демографических, социальных, экономических, уровня жизни, образования, интенсивности и направлений миграции и т. д.); от факторов политики и экономики (кризисов, конфликтов); уровня распространенности туберкулеза в пенитенциарной системе; эффективности противотуберкулезных мероприятий учреждений общемедицинской и специализированной сетей (организация профилактики, своевременное выявление, качество работы лабораторной и рентгенологической служб, эффективное лечение) [12, 13, 42]. Есть, ввиду этого, и пессимистические прогнозы: туберкулез вышел из-под контроля в Африке из-за растущей бедности и крайне распространенной там ВИЧ-инфекции, а МЛУ МБТ угрожает дестабилизировать усилия по борьбе с инфекцией и в ряде социально-экономически благополучных регионов. Проблема ТЛ, несмотря на установленную этиологию болезни, не исчезла и даже приобрела новую актуальность [55].
КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САРКОИДОЗА
Саркоидоз — полисистемное заболевание неизвестной этиологии, с гетерогенным клиническим течением, характеризующееся образованием, как правило, неказеозных эпителиоидно-клеточных гранулем, а также накоплением в очагах продуктивного воспаления CD4+ T-лимфоцитов при Th1/Th17-зависимом иммунном ответе. Для саркоидоза, по современным данным, характерно преобладание поляризации макрофагов в сторону фенотипа М2, в то время как при туберкулезе преобладает путь М1 [11, 53].
Патоморфологическим субстратом заболевания является результат гиперчувствительности замедленного типа — эпителиоидно-клеточная гранулема — компактное скопление мононуклеарных фагоцитов — макрофагов и эпителиоидных клеток с наличием гигантских многоядерных клеток, лимфоцитов и гранулоцитов, или без последних. Процессы трансформации, рекрутирования и конечной дифференцировки клеток в гранулемах управляются цитокинами и хемокинами — пептидами коммуникации иммунной системы [32, 33].
В последние годы наблюдается заметное возрастание заболеваемости СЛ, что связывают как с улучшением диагностики, так и с истинным увеличением пораженности данной формой патологии, которая во всех странах, где вводилась противотуберкулезная вакцинация, имела реципрокную по отношению к туберкулезной инфекции динамику [1]. Женщины страдают саркоидозом чаще. По данным США за 17 лет, отмечен некоторый рост смертности от саркоидоза, причем как среди женщин, так и в наибольшей степени — среди мужчин, в особенности — у афро-американцев [67].
Как правило, контингент пациентов с СЛ — люди 20–50 лет, у которых при рациональном ведении имеется хороший прогноз для восстановления здоровья и работоспособности. Но саркоидоз может поражать также детей дошкольного возраста, подростков и пожилых [24, 81].
Геоэпидемиологическая картина саркоидоза характеризуется рядом особенностей. Его распространенность среди афро-американцев в 2–7 раз выше, чем среди граждан США другого этнического происхождения, и составляет более 100 случаев на 100 тыс. населения, в скандинавских странах — 40–70, а в Корее, Китае, странах Тропической Африки, Австралии и вообще в Южном полушарии он встречается существенно реже, чем в странах Северного полушария, что связывают не только с региональными природными особенностями, но и с отсутствием или слабой интенсивностью осуществления программ по выявлению болезни [41, 67, 70].
В России заболеваемость СЛ до 2003 г. анализировалась лишь по статистике противотуберкулезных диспансеров и была в пределах от 2 до 7 на 100 тыс. взрослого населения [29]. В Казани в 2002 г. был проведен первый активный скрининг этих больных, распространенность составила 64,4 на 100 тыс. взрослого населения, случаи семейного саркоидоза встречались в 3 %, тогда как в Великобритании этот показатель составлял — 1,7 %, в Ирландии — 9,6 %, в Финляндии — 3,6 %, в Японии — 4,3 %. По недавним исследованиям, распространенность СЛ в России имеет региональные вариации от 22 до 47 на 100 тыс. взрослого населения [33]. В Карелии зафиксирована распространенность 73 на 100 тыс. [6]. У женщин при СЛ отмечаются более выраженные клинические проявления заболевания, чем у мужчин, что характерно для многих заболеваний аутоиммунного происхождения [73]. При этом летальность составляет от 0,3 до 7,4 %, и частыми причинами смерти служат последствия сердечной, дыхательной, почечной недостаточности, тяжелой сопутствующей онкопатологии [6, 60]. Возможна гибель пациентов и от присоединения (или активизации латентной) инфекции, не только неспецифической, но и ТЛ, ВИЧ-инфекции, лепры — в первую очередь, на фоне применяемой при саркоидозе иммуносупрессивной терапии [8, 83].
Именно из-за побочных эффектов использования иммуносупрессорных лекарств летальность от СЛ в референтной группе обследованных англичан была в 10 раз выше (4,8 %), чем в общей популяции (0,5 %) [56].
Все еще отсутствует ясность в вопросе об этиологии СЛ, что было связано до последних лет с трудностью создания его адекватных экспериментальных моделей, но существует несколько не взаимоисключающих гипотез.
Гипотеза о его инфекционной этиологии подтверждается в эксперименте возможностью передачи СЛ при трансплантации донорских органов человеку [76]. Инфекционные факторы рассматривают как триггеры: постоянная антигенная стимуляция способствует нарушению регуляции выработки цитокинов у лиц, генетически предрасположенных к такого рода реакциям, что может запускать аутовоспалительные и аутоиммунные процессы [46]. К триггерам СЛ, по данным молекулярно-микробиологических, эпидемиологических и иммунологических исследований, чаще всего, относят микобактерии (классические и фильтрующиеся формы) и Propionibacterium acnes. При иммунизации последними в сочетании с адъювантом Фрейнда беспатогенные мыши давали сходный с СЛ гранулематоз [77]. В 1960-х годах в СССР из гранулем, смыва бронхов, а также из крови пациентов с саркоидозом кожи, глаз и СЛ нередко выделяли формы МБТ с дефектами клеточной стенки [6]. Однако в странах с низкой инфицированностью населения МБТ (Новая Зеландия) не подтверждаются высокие частоты выделения МБТ при саркоидозе, регистрируемые там, где распространены ЛТИ и тубинфицирование [7, 9].
Реже при саркоидозе описывают данные в пользу этиологической роли иных патогенов: Сhlamydophila pneumoniae; Вorrelia burgdorferi; плесневых грибов; отдельных вирусов, в частности, гепатита С, группы герпеса, JC-полиомавируса 2-го типа. Имеются сообщения о позитивном эффекте некоторых антибиотиков при саркоидозе [43, 45, 87].
Впрочем, последнее нельзя считать однозначным свидетельством в пользу именно инфекционной этиологии болезни: ведь многие антибиотики вмешиваются в различные метаболические и сигнальные процессы и в клетках самого организма. В этой связи нам кажется важным указать на следующее обстоятельство.
Последние достижения в моделировании саркоидоза дают еще один путь его понимания, интерпретируя это заболевание не как чисто инфекционное, а как аутовоспалительное [80].
Похоже, что саркоидоз может решающим образом зависеть от нарушения процесса поляризации макрофагов на путях М1/М2. Макрофаги фенотипа М2, обычно участвующие в образовании многоядерных клеток, чрезмерно экспрессируются при саркоидозном гранулематозе во всех вовлеченных тканях. Недавно предложенная модель [53] хорошо объясняет ранние события формирования гранулемы при различных гранулематозах с выраженным смещением поляризации макрофагов по пути М2 при саркоидозе, но не при туберкулезе. Поляризация макрофагов в клетки М2 зависит от ключевого механизма: рапамицин-чувствительного сигнального пути mTOR [63].
Данный путь тормозит в макрофагах аутофагию, не давая избавляться от агентов, вызвавших хроническое гранулематозное воспаление [77].
На наиболее, на наш взгляд, удачной на сегодня экспериментальной модели саркоидоза показано, что именно хроническая сигнализация через киназу mTORC1, главный элемент этого пути, маркирует образование саркоидозных гранулем и прогрессирование саркоидоза. Получены нокаутные мыши с нарушенными mTOR-регуляцией и аутофагией, у которых саркоидозоподобный системный гранулематоз развивается спонтанно [72]. В связи с этим мы предполагаем, что антибиотик из арсенала трансплантологии — рапамицин, назначенный off-lable, вероятно, cможет послужить эффективным лекарственным средством против саркоидоза. Эта наша гипотеза, хотя и была опубликована [84], но клинически никогда не проверялась ранее, и, безусловно, нуждается в такой верификации, причем анализ литературы выявил по крайней мере один случай саркоидоза, зарегистрированный de novo у итальянского пациента с трансплантацией печени, регрессировавший именно после применения по трансплантологическим показаниям рапамуна (аналог рапамицина), хотя циклоспоринотерапия его не предотвратила [75]. Данный случай косвенно подтверждает как невозможность трактовать лечебные эффекты антибиотиков как однозначное доказательство роли инфекций в этиологии процесса, так и обоснованность нашей предлагаемой врачебному сообществу на проверку идеи — лечить саркоидоз рапамицином.
Гипотеза влияния «факторов окружающей среды» [40] исходит из того, что антигенными, гаптеновыми и/или адъювантными свойствами и способностью стимулировать образование сходных с туберкулезными гранулем обладают не только микробные патогены, но многие неживые агенты — частицы дыма и мела, кремний- и углеродсодержащие наночастицы и нанотрубки, тонер принтеров и копировальных аппаратов, силикон имплантированных протезов, пигменты татуировок, асбест, некоторые красители, сельскохозяйственная, дорожная и металлическая пыль, содержащая металлы: алюминий, барий, бериллий, кобальт, медь, ртуть, золото, лантаноиды, титан, цирконий [62]. Для ряда таких агентов это подтверждено на экспериментальных моделях. Эпидемиологические исследования специалистов, вовлеченных в программу ACCESS (A Case-Control Etiology Study of Sarcoidosis), и других ученых также показали повышенный риск развития профессионального СЛ у работников, связанных с воздействием указанных ингредиентов [39, 77, 86]. Имеется гипотеза, постулирующая, что нарушения или блокада аутофагии в макрофагах, захвативших инородные тела или патогены способствует персистированию этих агентов внутри макрофага и образованию гранулем, в том числе саркоидозных [77].
Гипотезы о роли экзогенных антропогенных и/или природных факторов в этиологии саркоидоза и о роли нарушенных аутофагии и поляризации макрофагов в его развитии не противоречат активно развивающимся в последние годы представлениям о его аутоиммунном и/или аутовоспалительном патогенезе [26, 40, 85].
По официальным источникам, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 4 млн ядовитых веществ и ежегодно их количество увеличивается минимум на 6000 [16]. Эти вещества могут оказывать прямое токсическое влияние на клетки, а те, погибая, вырабатывают аутакоиды, запускающие механизмы воспаления и, в соответствии с «гипотезой опасности», через усиление экспрессии костимуляторных молекул на иммунокомпетентных клетках и продление существования иммуносинапсов, имеют возможность расширять спектр аутоиммунитета и повышать титры аутоантител [32].
При альтерации клеток токсикантами могут формироваться неоантигены, к которым не толеризованы лимфоциты индивида, что стимулирует иммунопатологические процессы. С другой стороны, в процессе трансформации и обезвреживания ксенобиотиков в организме образуются не только вещества, лишенные ядовитых свойств, но и так называемые реакционно-активные атакующие клеточные мембраны и биополимеры соединения, в основном эпоксидной и эноксидной природы, со свободно-радикальными свойствами. Ряд из них, оказывая триггерные и адъювантные эффекты, активирует медиаторные системы воспаления, вызывает аллергоидные реакции [51].
Именно поэтому рост химической нагрузки, оказываемой на индивидов попадающими в организм ксенобиотиками, сопряжен с учащением иммунопатологических заболеваний, а аллергия, в том числе и лекарственная, встречается по меньшей мере у 20 % населения. Характерно, что иммуностимулирующие и адъювантные лекарства, в частности как новые средства онкотерапии: ингибиторы контрольных точек Т-лимфоцитов и интерфероны, так и применяемые уже около 100 лет в вакцинологии и дерматокосметологии соединения алюминия, тоже оказались в состоянии провоцировать у некоторых лиц саркоидоз [49]. Число случаев саркоидоза, связанных с лекарственными и иными ятрогенными воздействиями на иммунореактивность, по мнению M.A. Judson, возрастает в нынешнем столетии эпидемически [66]. Эндогенная интоксикация, то есть избыточное системное действие аутакоидных биологически активных веществ, во многом определяет тяжесть нарушений функции органов естественной детоксикации, в частности печени, почек, легких, что существенно влияет на последствия экзогенных интоксикаций [10, 32, 61]. Характерно, что заболеваемость некоторыми аутоиммунными недугами в разных субъектах РФ на протяжении ряда последних лет растет и регионально отличается в десятки раз, коррелируя с факторами урбанистической среды, в частности автомобильно-дорожного комплекса [23]. По данным Y. Zinchenko и соавт. [90], среди триггерных анамнестических факторов, статистически значимо коррелирующих как с наличием клинических признаков аутоиммунно-аутовоспалительного синдрома при СЛ, так и с их выраженностью оказались профессиональные вредности, особенно постоянный контакт с принтерами, а также тяжелые длительные стрессы и наличие более 3 беременностей в анамнезе. Есть данные, что в целом среди курильщиков СЛ встречается реже, чем у некурящих, но при этом именно у курящих нарушения функции и интерстициальные изменения в легких при саркоидозе более выражены, а диагноз ставится поздно, поскольку СЛ проходит «под маской» других заболеваний [2]. У курящих легочные макрофаги и иммуномодулирующий эффект никотина препятствуют Т-лимфоцитарной инфильтрации в легких, и ввиду этого чаще отмечаются внелегочные проявления саркоидоза [40].
Указывалось на частоту семейных заболеваний СЛ в отдельных странах, причем к наиболее вероятным наследственным факторам относят генетические особенности регуляции иммунного ответа, повышающие риск развития ряда классических аутоиммунных заболеваний: варианты гаплотипа главного комплекса гистосовместимости человека (HLA); полиморфизмы генов ФНО-альфа; ангиотензин-превращающего фермента (АПФ); рецепторов витамина D (VDR), тормозных рецепторов Т-лимфоцитов, участников mTOR-пути внутриклеточной сигнализации и белков-регуляторов процесса аутофагии [40, 57, 76, 77, 85]. Так, при раннем приобретенном саркоидозе в подростковой и детской практике, как и при сходном с ним моногенном наследственном синдроме Блау, обнаружен общий генетический дефект гена NOD2, важнейшего регулятора врожденного иммунитета, экспрессированного в антиген-представляющих клетках и вовлеченного также в процессы аутофагии [44, 77].
Одна из тенденций последнего десятилетия в учении о саркоидозе — сближать его с аутоиммунно-аутовоспалительным синдромом, вызванным адъювантами — ASIA (Autoimmune/Autoinflammatory Syndrome Induced by Adjuvants), впервые описанным И. Шенфельдом и Н. Агмон-Левин в 2011 г. [82]. Данный синдром включал изначально 5 аутоиммунных или предположительно аутоиммунных нарушений: поствакцинальный синдром, силиконоз, макрофагальный миофасциальный синдром, синдром Персидского залива и синдром «нездоровых» зданий. Во всех случаях при ASIA развитию аутоиммунного воспаления предшествует контакт людей с триггерными факторами-адъювантами при наличии индивидуальной генетической предрасположенности. При этом механизмы индукции аутоиммунитета могут быть разными, в тканях присутствуют патоморфологические признаки иммунного воспаления — лимфогистиоцитарная инфильтрация, гранулематозное воспаление, склеродермоподобные изменения. Характерной особенностью является регрессия клинических, лабораторных и патоморфологических проявлений, наступающая после прекращения контакта с адъювантом [20, 82]. Доказательства связи саркоидоза и ASIA множатся. В частности, в исследовании международного регистра пациентов с ASIA было обнаружено 8 случаев саркоидоза на 500 наблюдений, статистически значимо связанных с использованием силиконовых имплантатов [88]. Исследования в Нидерландах подтвердили связь саркоидоза и хронического воздействия силиконовых протезов, особенно на лиц с аллергической иммунореактивностью [50]. Во многих работах подчеркивается, что саркоидоз часто сочетается с другими аутоиммунными болезнями (тиреоидит Хасимото, синдром Шегрена, ревматологические болезни, иммунопатологические васкулиты и др.), что он связан с определенными особенностями гаплотипа главного комплекса гистосовместимости (наличием HLA-DRB1*0301, HLA-DQB1*0201 и др.).
При саркоидозе зарегистрированы некоторые аутоантитела (к виментину и его цитруллинированным производным, к пептидам из состава: лизил-тРНК-синтетазы, АТФ-синтазы, белка цинковых пальцев 688, белка митохондриальных рибосом L43 и др.), отмечаются перекрестные иммунные реакции аутоантигенов с микробными антигенами (белки теплового шока микобактерий Mtb-HSP70, Mtb-HSP65 и Mtb-HSP16, микобактериальный белок katG, антигены пропионовокислых бактерий угрей). Саркоидоз, подобно ряду классических аутоиммунопатий, связан с лимфоцитарной инфильтрацией пораженных органов, при преобладании лимфоцитов Th1/Th17, причем ее уменьшают иммуносупрессоры. Болезнь характеризуется типичными для аутоиммунопатий особенностями субпопуляционных спектров лимфоцитов в крови [11, 25, 40, 69, 90]. Все это — косвенные аргументы в пользу аутоиммунно-аутовоспалительной природы саркоидоза. К прямым критериям аутоиммунной природы СЛ, в соответствии с классическими постулатами Э. Витебского и Н. Роуза, могли бы быть отнесены его модели, основанные на действии соответствующих аутоантител, в том числе при трансплацентарном пассивном переносе от матери или на иммунизации аутоантигенами [32, 85], но таких сведений пока нет. А вот модель саркоидозоподобного неказеифицирующего гранулематоза у нокаутных мышей Tsc2–/– c нарушением аутофагии и поляризации макрофагов существует, и рапамицин тормозит процесс у таких животных [72], что тоже говорит об оправданности предложенного выше использования этого лекарства в терапии СЛ.
САРКОИДОЗ ЛЕГКИХ И ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ: РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ НА ОДИН ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР?
По данным [25, 85, 90], в сыворотке крови у пациентов с СЛ после ее экспозиции с антигенами аллергена туберкулезного рекомбинантного (ESAT-6/SFP-10) не определялись иммунные комплексы, но последние выявлялись после экспозиции с антигенами «экстракта легочной ткани». Это говорит не в пользу этиологической роли МБТ и свидетельствует об аутоиммунной реакции на собственную легочную ткань при СЛ. Легко увязать эти данные с классическим применением аллергопробы Квейма как доказательства саркоидоза, ибо реагент Квейма представлял собой экстрагируемые аутоантигены лимфоидных органов больного и давал при саркоидозе позитивную кожную пробу, в отличие от туберкулина, а в составе этого реагента протеомным анализом был обнаружен именно виментин [58, 71]. Но виментин — модифицируемый участник любых, в том числе туберкулезных, гранулематозных процессов, вот почему недавний сравнительный анализ двух гранулематозов выявил аутоантитела к этому белку и его модификациям как при том, так и при другом гранулематозном заболевании легких, в отличие от неспецифической легочной патологии [25, 26, 84].
Вместе с тем ТЛ, по современным данным, — также заболевание не свободное от патогенетически значимого аутоиммунного компонента [59], поэтому на одной лишь аутореактивности к тому или иному отдельно взятому антигену вряд ли может строиться дифференциальная диагностика между ТЛ и СЛ [48].
Впрочем, в патоморфологических и инструментальных визуализирующих методах исследования этих гранулематозов были попытки выделить различные критерии их дифференцировки (наличие при ТЛ и отсутствие при СЛ казеозного некроза, присутствие при СЛ на внутрибронхиальных ультрасонограммах перибронхиальных лимфоузлов четкого контура, конгломератов, отсутствие некроза, наличие септального сосудистого признака и др.) [9, 49]. Тем не менее значимость этих критериев относительна, и даже детальный патоморфологический анализ примерно в 10 % случаев не ведет к правильному диагнозу, ибо в саркоидных гранулемах может наблюдаться фибриноидный и даже ограниченный казеозный некроз, а в окружности гранулем — отсутствовать перифокальные неспецифические воспалительные изменения [5]. В подтверждение этого сошлемся на классическую статью о патоморфологии СЛ, где постулируется существование промежуточной по своим признакам между «полюсами» классических ТЛ и СЛ нозологической формы — некротического саркоидного гранулематоза (НСГ) [74].
Ганс Селье (1907–1982) подчеркивал, что болезни интересны для диагноста своими отличиями, но для патолога — именно тем, что в них общего [22]. В настоящее время роль МБТ или любого другого микробного или немикробного агента, как главного причинного фактора саркоидоза, не доказана. Однако концепция туберкулеза и саркоидоза как двух вариантов ответа реактивности организма на близкие или даже тождественные этиологические факторы (возможно, на разном мозаично-пермиссивном фоне полиэтиологически взаимодействующих групп причинных факторов, реактивности и внешних условий) не отвергается и находит сторонников, в том числе в литературе последних лет [35, 64, 65].
Гормоны — важнейшие инструменты развертывания и регуляции реактивности [32]. На наш взгляд, многообещающими могут быть сравнения состояния обмена витамина D и пролактина при СЛ и ТЛ, с учетом отличий в спектре и напряженности аутоиммунных реакций и цитокинового профиля при этих заболеваниях. Нами был проведен такой пилотный анализ, причем выявилось повышение уровня активной формы витамина D кальцитриола только при СЛ, а пролактина — лишь при туберкулезе, вкупе с рядом как общих, так и различных черт аутоиммунитета и цитокинового профиля, на фоне низкого кателицидинового ответа при обоих недугах [27, 38]. Гиперпродукцию активной формы гормоновитамина D при саркоидозе можно расценить как проявление защитного ответа иммунной системы на неизвестный патоген, обеспечивающее сравнительно благоприятное течение гранулематозного воспаления, по сравнению с туберкулезом [37], ввиду известного стимулирующего действия этого витамина на противоинфекционный иммунитет [63].
Таким образом, хотя СЛ и встречается реже, чем ТЛ, в связи с повышением заболеваемости, динамикой смертности, появлением новых провоцирующих факторов, в том числе ятрогенного характера, значимость его изучения все увеличивается [49, 50, 66, 67].
Новые вызовы, стоящие перед системой здравоохранения, не отменяют старых проблем: так, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции актуален вопрос о ее взаимодействии с саркоидозом, который активно ставится в литературе 2020 г. [83], но не изучен и, по нашему мнению, несмотря на напрашивающийся однозначный ответ (СЛ, казалось бы, должен отягощать COVID-19, а иммунотерапия СЛ — облегчать заражение), может иметь неожиданные, парадоксальные аспекты — например, не исключено, что имея в типичном случае повышенный уровень маркерного для болезни ангиотензин-превращающего фермента (ACE) в крови [5, 29, 33], пациенты с саркоидозом окажутся не более, а как раз менее подвержены COVID-19, так как это может конкурентно затруднить проникновение вируса через используемый им рецептор (ACE2) в клетки-мишени. В пользу защиты от COVID-19 может сработать и продукция кальцитриола в саркоидозных гранулемах [38]. Только что описан случай развития саркоидозных гранулем в фазу выздоровления от коронавирусной пневмонии, причем трактуемый авторами именно как проявление защитной реакции организма [36].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начиная с 70-х годов прошлого столетия, несмотря на разницу в течении СЛ и ТЛ, их совершенно разную эпидемиологическую опасность и неодинаковый прогноз для жизни, многие исследователи пытались сблизить клиническую патофизиологию туберкулеза и саркоидоза, как гранулематозных заболеваний, основанных на хроническом воспалении, управляемом механизмами гиперчувствительности замедленного типа с участием аутоиммунной реактивности [4, 40, 47, 59, 77]. При этом у ряда пациентов с саркоидозом находили в очагах поражения компоненты микобактерий, и в крови — cвидетельства иммунного ответа на них, что служило поводом для назначения им противотуберкулезной терапии [9, 31, 79].
В этой связи подчеркнем, что гранулематозное воспаление — компромисс адаптивных стратегий возбудителя и макроорганизма, поэтому при разной иммунореактивности (и неидентичных условиях) одни и те же причинные факторы могут порождать целый спектр ответов — от типичных казеозно-некротических гранулем при ТЛ, до безнекротических гранулем при нетяжелом СЛ. Очевидно, прогресс в понимании соотношения этих форм патологии будет определяться вышеописанными новыми моделями СЛ [53, 72, 77] и изучением закономерностей поляризации макрофагов и их сигнально-метаболических ответов при СЛ и ТЛ.
Работа выполнена в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 220 и договора № 14.W03.31.0009 о выделении гранта Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.
Вклад авторов: А.В. Николаев — анализ литературы, В.И. Утехин — анализ литературы, Л.П. Чурилов — концепция, оригинальные гипотезы, анализ литературы, заключительная редакция. Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
Алексей Владимирович Николаев
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; Медицинский центр «Магнит»
Автор, ответственный за переписку.
Email: av@spb24mrt.ru
аспирант кафедры патологии; врач-рентгенолог, генеральный директор
Россия, Санкт-ПетербургВладимир Иосифович Утехин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Email: utekhin44@mail.ru
канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры патологии; доцент кафедры патофизиологии с курсами иммунопатологии и медицинской информатики
Россия, Санкт-ПетербургЛеонид Павлович Чурилов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Email: elpach@mail.ru
канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой патологии, зам. руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета; ведущий научный сотрудник
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Ариэль Б.М. Саркоидоз: от морфологии к этиологии и патогенезу. В кн.: Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза. Труды Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: СПбНИИФ, 2005. С. 239–243. [Ariel’ BM. Sarkoidoz: ot morfologii k etiologii i patogenezu. In: Aktual’nye voprosy diagnostiki i lecheniya tuberkuleza. Trudy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Saint Petersburg: SPbNIIF; 2005: 239-243. (In Russ.)]
- Багишева Н.В., Мордык А.В., Горбатых Е.В. Курение и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): уточнение возможных рисков (обзор литературы) // Уральский медицинский журнал. – 2017. – № 9 (153). – С. 112–118. [Bagisheva NV, Mordyk AV, Gorbatykh EV. Smoking and chronic: update and reduced possible risks (review of literature). Uralskiy Meditsinskiy Zhurnal. 2017;(9):112-118. (In Russ.)]
- Баласанянц Г.С., Галкин В.Б., Новиков Г.А. и др. Оказание паллиативной помощи больным туберкулезом // Медицинский альянс. – 2014. – № 4. – С. 31–43. [Balasanyants GS, Galkin VB, Novikov GA, et al. TB patients palliative care. Medical Alliance. 2014;(4): 31–43. (In Russ.)]
- Белокуров М.А., Басанцова Н.Ю., Зинченко Ю.С., Старшинова А.А. Проблема дифференциальной диагностики туберкулеза и саркоидоза органов дыхания (обзор литературы) // Медицинский альянс. – 2018. – № 3. – С. 16–24. [Belokurov M, Basantsova Nu, Zinchenko Yu, Starshinova A. Difficulties of respiratory tuberculosis and sarcoidosis differential diagnosis (Literature review). Medical Alliance. 2018;3:16-24. (In Russ.)]
- Борисов С.Е. Диагностика и лечение саркоидоза органов дыхания. – М.: НИИФП ММА, 2006. – 55 с. [Borisov SE. Diagnostika i lechenie sarkoidoza organov dyhanija. Moscow: NIIFP MMA; 2006. 55 p. (In Russ.)]
- Визель А.А., Визель И.Ю., Амиров Н.Б. Эпидемиология саркоидоза в Российской Федерации // Вестник современной клинической медицины. – 2017. – Т. 10. – № 5. – С. 66–73. [Vizel AA, Vizel IYu, Amirov NB. Epidemiology of Sarcoidosis in Russian Federation. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2017;10(5):66–73. (In Russ.)]
- Визель А. А. Проблема лечения саркоидоза: повод для дискуссии и проведения контролируемых исследований // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2004. – Т. 6. – № 3. – С. 232–242. [Vizel AA. The problem of treatment of sarcoidosis: an occasion for discussion and conducting controlled studies. Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy. 2004;6(3):232-242. (In Russ.)]
- Гуменюк Г.Л. Сравнительный анализ результатов лечения больных саркоидозом органов дыхания IІ и ІІІ стадии // Украинский терапевтический журнал. – 2015. – № 1. – С. 55–62. [Gumenyuk GL. Sravnitel’nyj analiz rezul’tatov lechenija bol’nyh sarkoidozom organov dyhanija II i III stadii. Український терапевтичний журнал. 2015;(1):55-62. (In Russ.)]
- Данцева О.В., Иванов В.В. Сложный случай диагностики саркоидоза органов дыхания, протекавшего с признаками туберкулеза и микобактериоза // Клиническая патофизиология. – 2020. – Т. 26. – № 1. – С. 59–62. [Dantseva OV, Ivanov VV. A case of respiratory organs’ sarcoidosis difficult for diagnosis and proceeded with the signs of tuberculosis and mycobacteriosis. Clin. Patophisiol. 2020;26(1):59-62. (In Russ.)]
- Джоджуа Т.В. Профилактика и интенсивная терапия полиорганных нарушений у пациенток с преэклампсией на фоне экстрагенитальной патологии: Дис. … д-ра мед. наук. – Донецк, 2018. [Dzhodzhua T.V. Profilaktika i intensivnaya terapiya poliorgannyh narushenij u pacientok s preeklampsiej na fone ekstragenital’noj patologii [dissertation]. Donetsk, 2018. (In Russ.)]. Режим доступа: https://dnmu.ru/wp-content/uploads/2018/07/jojua_avtoref_fix_140518.pdf (дата доступа 18.01.2020)
- Ершов Г.А., Чурилов Л.П. О возможной аутоиммунной природе саркоидоза: какие аутоантигены вовлечены и почему? // Клиническая патофизиология. – 2017. – № 3. – С. 77–82. [Ershov G.A., Churilov L.P. About the probable autoimmune origin of sarcoidosis: Which autoantigens are involved and why? Clin. Pathophysiol. 2017;(3):77-82. (In Russ.)]
- Зинченко Ю.С., Басанцова Н.Ю., Старшинова А.Я., и др. Туберкулез сегодня: Основные направления исследований по профилактике, диагностике и лечению. // Российские биомедицинские исследования. – 2018. – Т. 3. – № 4. – С. 24–34. [Zinchenko YuS, Basantsova NYu, Starshinova AYa, et al. Tuberculosis Nowadays: The Main Trends of Research in Prevention, Diagnosis and Treatment. Rus. Biomed. Res. 2018;3(4):24–34. (In Russ.)]
- Иванова Д.А., Галкина К.Ю., Борисов С.Е. и др. Фармакогенетические методы в оценке риска гепатотоксических реакций при лечении впервые выявленных больных туберкулезом // Туберкулез и социально-значимые заболевания. – 2018. – № 3. – C. 43–49. [Ivanova DA, Galkina KYu, Borisov SE, et al. Pharmacogenetical methods in evaluation of hepatoxic reactions’ risk in treatment of the newly-diagnosed cases of tuberculosis. Tuberkulez i sotsial’no-znachimye zabolevaniya. 2018;3:43-49. (In Russ.)]
- Кильдюшева Е.И., Егоров Е.А., Скорняков С.Н. и др. Клиническая результативность новых лекарственных препаратов в схемах лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя // Русский медицинский журнал. – 2017. – Т. 25. – № 18. – С. 1288–1295. [Kildyusheva EI, Egorov EA, Skornyakov SN, et al. Clinical Effectiveness of the New Medicines Within the Schemes of Treatment for Multiple and Broad Drug Resistance Tuberculosis. Russkiy Meditsinskiy Zhurnal. 2017;25(18):1288-1295. (In Russ.)]
- Кисличкин Н.Н., Ленхерр-Ильина Т.В., Красильников И.В. Диагностика туберкулеза. Туберкулин и группа препаратов на основе белков ESAT-6/CFP-10 // Инфекционные болезни. – 2016. – Т. 14. – № 1. – С. 48–54. [Kislichkin NN, Lenherr-Ilyina TV, Krasilnikov IV. Diagnosis of tuberculosis. tuberculin and the group of medications based on proteins ESAT-6/CFP-10. Infectious Diseases. 2016;14(1):48-54. (In Russ.)]
- Кошкина В.С., Медведева Ю.Г. Состояние репродуктивного здоровья девочек, родители которых заняты в сфере промышленного производства: материалы XII Всероссийского научного форума «Мать и дитя». – М., 2011. – С. 331–332. [Koshkina VS, Medvedeva YuG. Sostojanie reproduktivnogo zdorov’ja devochek, roditeli kotoryh zaniaty v sfere promyshlennogo proizvodstva. In: Mother and Child. Proceedings of the 12th All-Russia’s Scientific Forum. Moscow; 2011. 331-332 p. (In Russ.)]
- Лапшина С.М., Мозговой В.В., Иваницкая Т.В., Задорова Н.К. Результаты лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в зависимости от теста лекарственной чувствительности: материалы 2-го Международного медицинского форума Донбасса «Наука побеждать… болезнь». – Донецк: Издание ДонГМУ им. М. Горького, 2018. – С. 200–203. [Lapshina SM, Mozgovoy VV, Ivanitskaya TV, Zadorova NK. Rezul’taty lecheniya bol’nyh tuberkulezom s mnozhestvennoj lekarstvennoj ustojchivost’yu v zavisimosti ot testa lekarstvennoj chuvstvitel’nosti. In: University Clinic. Supplement. Proceedings of the 2nd International Medical Forum of Donbass “The Science of Winning… the Disease”. Donetsk: Maxim Gorky Medical University Publisher; 2018. 200-203 p. (In Russ.)]
- Литвинов В.И., Шустер А.М., Медников Б.Л., и др. Кожная проба с препаратом «Диаскинтест» (аллерген туберкулезный рекомбинантный 0,2 мкг в 0,1 мл, раствор для внутрикожного введения) для идентификации туберкулезной инфекции. Пособие для врачей. – М., 2009. – 32 c. [Litvinov VI, Shuster AM, Mednikov BL, et al. Kozhnaya proba s preparatom “Diaskintest” (allergen tuberkulezhyj rekombinantnyj 0,2 mkg v 0,1 ml, rastvor dlya vnytrikozhnogo vvedeniya dlya identifikatsii tuberkuleznoj infektsii. Posobie dlya vrachej. Moscow; 2009. 32 p. (In Russ.)]
- Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 445 с. [Perelman MI, Bogadelnikova IV. Ftiziatria. Moscow: GEOTAR-Media; 2015. 445 p. (In Russ.)]
- Раденска-Лоповок С.Г., Волкова П. Аутоиммунный/воспалительный синдром, ассоциированный с адъювантами // Архив патологии. – 2018. – Т. 80. № 5. – С. 56–62. [Radenska-Lopovok SG, Volkova P. Autoimmunne/inflammatory syndrome, induced by adjuvants. Arkhiv patologii. 2018;80(5):56-62. (In Russ.)] https//doi.org/10.17116/patol20188005156.
- Практическая пульмонология / под ред. В.В. Салухова, М.А. Харитонова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 c. [Salukhov VV, Kharitonov MA, editors. Practicheskaya pulmonologiya. Moscow: GEOTAR-Media; 2017. 416 p. (In Russ.)]
- Селье Г. От мечты к открытию: как стать ученым. – М.: Прогресс, 1987. – 368 с. [Selye H. From Dream to Discovery: On Being a Scientist. Moscow: Progress Publisher; 1987. 368 p. (In Russ.)]
- Сопрун Л.А., Акулин И.Б., Гвоздецкий А.Н., и др. Связанные с урбанизацией факторы заболеваемости сахарным диабетом первого типа // Биосфера. – 2018. – Т. 10. – № 4. – С. 282–292. [Soprun LA, Akulin IB, Gvozdetsky AN, et al. Urbanization-related factors of the incidence of type i diabetes mellitus. Biosfera. 2018;10(4):282-292. (In Russ.)] https://doi.org/10.24855/biosfera.v10i4.464.
- Старевская С.В., Голобородько М.М., Берлева О.В. и др. Саркоидоз у подростков // Туберкулез и болезни легких. – 2015. – № 4. – С. 62–64. [Starevskaya SV, Goloborod’ko MM, Berleva OV, et al. Sarkoidoz u podrostkov [Sarcoidosis in Adolescents]. Tuberkulez i bolezni legkih. 2015;(4):62-64. (In Russ.)] https://doi.org/10.21292/2075-1230-2015-0-4-62-64.
- Старшинова А.А., Истомина Е.В., Зинченко Ю.С., и др. Диагностическое значение специфических иммунных комплексов в определении активности туберкулезной инфекции // Медицинская иммунология. – 2019. – Т. 21. – № 2. – С. 269–278. [Starshinova AA, Istomina EV, Zinchenko YuS, et al. Diagnostic value of specific immune complexes in detection of tuberculosis infection activity. Medical Immunology (Russia). 2019;21(2):269-278. (In Russ.)] https://doi.org/10.15789/1563-0625-2019-2-269-278.
- Старшинова А.А., Истомина Е.В., Умутбаева Г.Б., и др. Латентная туберкулезная инфекция: возможности современной диагностики // Инфекционные болезни. – 2019. – Т. 17. – № 1. – С. 77–85. [Starshinova AA, Istomina EV, Umutbaeva GB, et al. Latent Tuberculosis Infection: currently available diagnostic methods. Infectious diseases. 2019;17(1):77-85. (In Russ.)] https://doi.org/10.20953/1729-9225-2019-1-77-85.
- Старшинова А.А., Малкова А.М., Зинченко Ю.С., и др. Характеристика аутоиммунного воспаления у больных туберкулезом легких // Медицинская иммунология. – 2019. – Т. 21. – № 5. – С. 911–918. [Starshinova AA, Malkova AM, Zinchenko YuS, et al. Characteristic of autoimmune inflammation in lung tuberculosis patients. Medical Immunology (Russia). 2019;21(5):911-918. (In Russ.)] https://doi.org/10.15789/1563-0625-2019-5-911-918.
- Стерликов С.А., Русакова Л.И., Белиловский Е.М., Пономарев С.Б. Оценка доли больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя среди пациентов различных регистрационных групп // Туберкулез и социально значимые болезни. – 2018. – № 1. – С. 6–12. [Sterlikov SA, Rusakova LI, Belilovsky EM, Ponomarev SB. Evaluation of the share of broad drug resistance cases among tuberculosis patients of various registry groups]. Tuberkulez i sotsial’no-znachimye zabolevaniya. 2018;1: 6-12. (In Russ.)]
- Терпигорев С.А. Саркоидоз: учебное пособие. – М.: МОНИКИ, 2013. – 27 с. [Terpigorev SA. Sarkoidoz. Uchebnoe posobie. Moscow: MONIKI; 2013. 27 p. (In Russ.)]
- Федеральная служба государственной статистики [сайт]. [The Federal Service of State Statistics. (In Russ.)] Дата обращения 12.05.2018. Доступ по ссылке: http: www.gks. ru
- Хоменко А.Г., Гедымин Л.Е., Озерова Л.В. К этиологии и патогенезу саркоидоза // Пульмонология. – 1996. – Т. 6. – С. 154. [Homenko AG, Gedymin LE, Ozerova LV. K etiologii i patogenezu sarkoidoza. Pulmonologiya, 1996;6:154. (In Russ.)]
- Чурилов Л.П. Общая патофизиология с основами иммунопатологии. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2015. – 656 с. [Churilov LP. General Patophysiology with Fundamentals of Immunopatology. Saint Petersburg: ELBI-SPb; 2015. 656 P. (In Russ.)]
- Чучалин А.Г., Визель А.А., Илькович М.М., Авдеев С.Н. и др. Диагностика и лечение саркоидоза (резюме федеральных согласительных клинических рекомендаций). Часть 1. Классификация, этиопатогенез, клиника // Вестник современной клинической медицины. – 2014. – Т. 7. – № 4. – С. 62–70. [Chuchalin AG, Vizel’ AA, Il’kovich MM, Avdeev SN, et al. Diagnosis and treatment of sarcoidosis (Resume of federal consensual clinical recommendations). Part I. Classification, aetiopathogenesis and clinical manifestations. Vestnik sovremennoj klinicheskoj meditsiny. 2014;7(4):62-70. (In Russ.)]
- Эргешов А.Э. Туберкулез органов дыхания: руководство для врачей. – М.: Галлея-Принт, 2017. – 521 c. [Ergeshov A.E. Tuberkulez organov dyhaniya: rukovodstvo dlya vrachej. Moscow: Galleya-Print; 521 p. (In Russ.)]
- Agrawal R, Kee AR, Ang L, et al. Tuberculosis or sarcoidosis: Opposite ends of the same disease spectrum? Tuberculosis (Edinb). 2016;98:21-26. https://doi.org/10.1016/j.tube.2016.01.003.
- Behbahani S, Baltz JO, Droms R, et al. Sarcoid-like Reaction in a Patient Recovering from coronavirus desease 19 Pneumonia. JAAD Case Reports. 2020;6(9):915-917. https://doi.org/10.1016/j.jdcr.2020.07.026.
- Bell NH. Endocrine complications of sarcoidosis. Endocrinol Metab Clin North Am. 1991;20(3):645-654. https://doi.org/10.1016/S0889-8529(18)30262-7.
- Belyaeva IV, Churilov LP, Mikhailova LR, et al. Vitamin D, Cathelicidin, Prolactin, Autoantibodies, and Cytokines in Different Forms of Pulmonary Tuberculosis versus Sarcoidosis. Isr Med Assoc J. 2017;19(8):499-505.
- Bettoncelli G, lasi F., Brusasco V, et al. The clinical and integrated management of COPD. Sarcoidosis Vasc. Diffuse Lung Dis. 2014;31(2);3-21.
- Bindoli S, Dagan A, Torres-Ruiz JJ, et al. Sarcoidosis and autoimmunity: from genetic background to environmental factors. Isr. Med. Assoc. J. 2016;18(3):197-202.
- Brito-Zerуn P, Kostov B, Baughman R-P, Ramos-Casals M. Geoepidemiology of Sarcoidosis. In: Sarcoidosis. A Clinician’s Guide. Baughman R-P, Valeyre D, editor. Amsterdam a.e.: Elsevier; 2018. P. 1-21.
- Neonatal Infections: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. Cantey JB, editor. Berlin a.e.: Springer; 2018. 621 p.
- Carrillo-Pérez DL, Apodaca-Cháveza EI, Carrillo-Maravilla E, et al. Sarcoidosis: a single hospital-based study in a 24-year period. Rev Invest Clin. 2015;67(1):33-38.
- Caso F, Costa L, Rigante D, et al. Caveats and truths in genetic, clinical, autoimmune and autoinflammatory issues in Blau syndrome and early onset sarcoidosis. Autoimmun Rev. 2014;13(12):1220-1229. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.08.010.
- Celada LJ, Hawkins C, Drake WP. The etiologic role of infectious antigens in sarcoidosis pathogenesis. Clin Chest Med. 2015;36(4):561-568. https://doi.org/10.1016/j.ccm.2015.08.001.
- Chakravarty SD, Harris ME, Schreiner AM, Crow MK. Sarcoidosis triggered by interferon-beta treatment of multiple sclerosis: a case report and focused literature review. Semin Arthritis Rheum. 2012;42(2):206-212. https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2012.03.008.
- Chen ES, Moller DR. Etiologies of Sarcoidosis. Clin Rev Allergy Immunol. 2015;49(1):6-18. https://doi.org/10.1007/s12016-015-8481-z.
- Cheng WC, Shen MF, Wu BR, et al. Identification of Specific Endobronchial Ultrasound Features to Differentiate Sarcoidosis From Other Causes of Lymphadenopathy. J Ultrasound Med. 2021;40(1):49-58. https://doi.org/10.1002/jum.15372.
- Chopra A, Nautiyal A, Kalkanis A, Judson MA. Drug-Induced Sarcoidosis-Like Reactions. Chest. 2018;154(3):664-677. https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.03.056.
- Cohen Tervaert JW. Autoinflammatory/autoimmunity syndrome induced by adjuvants (ASIA; Shoenfeld’s syndrome): A new flame. Autoimmun Rev. 2018;17(12):1259-1264. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2018.07.003.
- Sarcoidosis. Diagnosis, Epidemiology and Treatment Options. Connor MR, Stevens RS, editors. Nova Science Publishers, Incorporated; 2012. 178 p.
- Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. Connor S, Cepulveda C, editors. Geneva; London: UPCA-WHO Publishers; 2014. 102 p.
- Crouser ED, White P, Caceres EG, et al. A Novel In Vitro Human Granuloma Model of Sarcoidosis and Latent Tuberculosis Infection. Am J Respir Cell Mol Biol. 2017;57(4): 487-498. https://doi.org/10.1165/rcmb.2016-0321OC.
- Clinical Tuberculosis. A Practical Handbook. Davies PDO, editor. CRC Press-Taylor Francis Group: Boca Raton, Fla; 2016. 217 p.
- Dheda KA, Schwander SK, Zhu В, et. al. The immunology of tuberculosis: from bench to bedside. Respirology. 2010;15(3):433-450. https://doi.org/10.1111/j.1440-1843.2010.01739.x.
- Duncan ME, Goldacre MJ. Mortality trends for tuberculosis and sarcoidosis in English populations, 1979-2008. Int J Tuberc Lung Dis. 2012;16(1):38-42. https://doi.org/10.5588/ijtld.11.0077.
- Dvornikova KA, Bystrova EY, Platonova ON, Churilov LP. Polymorphism of toll-like receptor genes and autoimmune endocrine diseases. Autoimmun Rev. 2020; 19(4):102496. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020. 102496.
- Eberhardt C, Thillai M, Parker R, et al. Proteomic Analysis of Kveim Reagent Identifies Targets of Cellular Immunity in Sarcoidosis. PLoS One. 2017;12(1): e0170285. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170285.
- Elkington P, Tebruegge M, Mansour S. Tuberculosis: An Infection-Initiated Autoimmune Disease? Trends Immunol. 2016;37(12):815-818. https://doi.org/10.1016/j.it.2016.09.007.
- Beijer E, Veltkamp M, Meek B, Moller DR. Etiology and Immunopathogenesis of Sarcoidosis: Novel Insights. Semin Respir Crit Care Med. 2017;38(4):404-416. https://doi.org/10.1055/s-0037-1603087.
- Gao Y, Liu M, Chen Y, et al. Association between tuberculosis and COVID-19 severity and mortality: a rapid systematic review and meta-analysis [e-pub. ahead of print]. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.26311. https://doi.org/10.1002/jmv.26311.
- Gherardi RK, Aouizerate J, Cadusseau J, et al. Aluminum adjuvants of vaccines injected into the muscle: Normal fate, pathology and associated disease. Morphologie. 2016;100(329):85-94. https://doi.org/10.1016/j.morpho.2016.01.002.
- Gombart AF. The vitamin D-antimicrobial peptide pathway and its role in protection against infection. Future Microbiol. 2009;4(9):1151-1165. https://doi.org/10.2217/fmb.09.87.
- Gupta D, Agarwal R, Aggarwal AN, Jindal SK. Sarcoidosis and tuberculosis: the same disease with different manifestations or similar manifestations of different disorders. Curr Opin Pulm Med. 2012;18(5):506-516. https://doi.org/10.1097/MCP.0b013e3283560809.
- Hörster R, Kirsten D, Gaede K, et al. Antimycobacterial immune responses in patients with pulmonary sarcoidosis. Clin Respir J. 2009;3(4):229-238. https://doi.org/10.1111/j.1752-699X.2009.00136.x.
- Judson MA. The epidemic of drug-induced sarcoidosis-like reactions: a side effect that we can live with. J Intern Med. 2020;288(3):373-375. https://doi.org/10.1111/joim.13008.
- Kearney GD, Obi ON, Maddipati V, et al. Sarcoidosis deaths in the United States: 1999-2016. Respir Med. 2019;149:30-35. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2018.11.010.
- Ko JH, Yoon SO, Lee HJ, Oh JY. Rapamycin regulates macrophage activation by inhibiting NLRP3 inflammasome-p38 MAPK-NFκB pathways in autophagy- and p62-dependent manners. Oncotarget. 2017;8(25):40817-40831. https://doi.org/10.18632/oncotarget.17256.
- Kudryavtsev I, Serebriakova М, Starshinova А, et al. Imbalance in B cell and T-Follicular Helper Cell Subsets in Pulmonary Sarcoidosis. Sci Rep. 2020;10(1):1059. https://doi.org/10.1038/s41598-020-57741-0.
- Kumar R, Goel N, Gaur SN. Sarcoidosis in north Indian population: a retrospective study. Ind J Chest Dis Allied Sci. 2012;54(2):99-104.
- Kveim MA. En ny og spesifikk kutan-reaksjon ved Boecks sarcoid. En foreløpig meddelelse. Nord Med (Stockholm). 1941;9:169-172.
- Linke M, Pham HTT, Katholnig K, et al. Chronic signaling via the metabolic checkpoint kinase mTORC1 induces macrophage granuloma formation and marks sarcoidosis progression. Nat. Immunol. 2017;18(3):293-302. https://doi.org/10.1038/ni.3655.
- Louzir B, Cherif J, Mehiri N, et al. [Sarcoidosis in Tunisia: epidemiologic and clinical study]. Tunis Med. 2011;89(4):332-335 (In Italian).
- Ma Y, Gal A, Koss M. Reprint of: The pathology of pulmonary sarcoidosis: update. Semin Diagn Pathol. 2018;35(5):324-333. https://doi.org/10.1053/j.semdp.2018.09.001.
- Manzia TM, Bellini MI, Corona L, et al. Successful treatment of systemic de novo sarcoidosis with cyclosporine discontinuation and provision of rapamune after liver transplantation. Transpl Int. 2011;24(8): e69-70. https://doi.org/10.1111/j.1432-2277.2011. 01256.x.
- Oswald-Richter KA, Beachboard DC, Seeley EH, et al. Dual analysis for mycobacteria and propionibacteria in sarcoidosis BAL. J. Clin. Immunol. 2012;32(5):1129-1140. https://doi.org/10.1007/s10875-012-9700-5.
- Pacheco Y, Lim CX, Weichhart T, et al. Sarcoidosis and the mTOR, Rac1, and Autophagy Triad. Trends Immunol. 2020;41(4):286-299. https://doi.org/10.1016/j.it.2020.01.007.
- Clinical Research Involving Pulmonary Disorders. Pokorski M. editor. Berlin a. e.: Springer; 2018. 118 p.
- Scadding JG. Mycobacterium tuberculosis in the etiology of sarcoidosis. Brit. Med. J. 1960;2(5213):1617-1623. https://doi.org/10.1136/bmj.2.5213.1617.
- Sellares J, Strambu I, Crouser ED, et al. New advances in the development of sarcoidosis models: a synopsis of a symposium sponsored by the Foundation for Sarcoidosis Research. Sarcoidosis, Vasculitis & Diffuse Lung Dis. 2018;35:2-4. https://doi.org/10.36141/svdld.v35i1.7032.
- Shanthikumar S, Harrison J. Pulmonary sarcoidosis in a preschool patient. Pediatr Pulmonol. 2015;50(12): E41-E43. https://doi.org/10.1002/ppul.23228.
- Shoenfeld Y, Agmon-Levin N. ASIA — autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. J Autoimmun. 2011;36(1):4-8. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2010.07.003.
- Southern BD. Patients with interstitial lung disease and pulmonary sarcoidosis are at high risk for severe illness related to COVID-19 [e-pub. ahead of print, 2020 Jun 18]. Cleveland Clin J Med. 2020. https://doi.org/10.3949/ccjm.87a.ccc026.
- Starshinova AA, Churilov LP, Ershov GA, et al. Autoimmune aspects of pulmonary sarcoidosis. Vestnik of Saint Petersburg University Medicine. 2019;14(4):333-336. https://doi.org/10.21638/spbu11.2019.419
- Starshinova А, Zinchenko Yu, Filatov М, еt al. Specific features of immune complexes in patients with sarcoidosis and pulmonary tuberculosis. Immunol Res. 2018;66(6):737-743. https://doi.org/10.1007/s12026-018-9052-1.
- Sun HH, Sachanandani NS, Jordan B, Myckatyn TM. Sarcoidosis of the Breasts following Silicone Implant Placement. Plast Reconstr Surg. 2013;131(6):939e-940e. https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e31828bd964.
- Terčelj M, Stopinšek S, Ihan A, et al. In vitro and in vivo reactivity to fungal cell wall agents in sarcoidosis. Clin Exp Immunol. 2011;166(1):87-93. 10.1111/j.1365-2249.2011.04456.x.
- Watad A, Bragazzi NL, McGonagle D, et al. Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA) demonstrates distinct autoimmune and autoinflammatory disease associations according to the adjuvant subtype: Insights from an analysis of 500 cases. Clin Immunol. 2019;203:1-8. https://doi.org/10.1016/j.clim.2019.03.007.
- World Health Organization. Global Tuberculosis Report, 2019. https://www.who.int/tb/global-report-2019 (accessed 24.07.2020).
- Zinchenko Yu, Basantsova N, Starshinova A, et al. The autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants and sarcoidosis. Meditsinskiy Alians/Medical Alliance. 2019;7(3):13-20. https://doi.org/10.36422/2307-6348-2019-7-3-15-20.
Дополнительные файлы